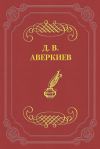Читать книгу "Асмодей нашего времени"

Автор книги: Виктор Аскоченский
Жанр: Литература 19 века, Классика
Возрастные ограничения: 12+
сообщить о неприемлемом содержимом
Въ семействѣ своемъ Онисимъ Сергеичъ тоже сбился, какъ говоритъ Созонтъ Евстафьевичь Тошный, "съ пантелыку". Первый день онъ бродилъ по комнатамъ, будто потерянный, сердито поглядывалъ на всѣхъ, отбивая тѣмъ у всякаго охоту заводить съ нимъ разговоръ, и угрюмо принималъ предупредительныя услуги Соломониды Егоровны, которая, и безъ умысла, разсыпалась передъ нимъ мелкимъ бѣсомъ. Нѣсколько разъ подходилъ онъ къ постели, на которой лежала Marie; физіономія его выражала при этомъ что-то рѣшительное: но больная боязненно взглядывала на отца, и мгновенно изчезало съ лица его грозное выраженіе; взявъ руку любимой дочери, онъ наклонялся къ ней и спрашивалъ тихимъ и мягкимъ голосомъ: "ну что, лучше ли тебѣ, Маша?" Отъ радости не зналъ старикъ что и дѣлать, когда Marie вышла въ первый разъ послѣ болѣзни въ гостиную. Сказать по правдѣ, и хороша же она была! Спальный чепчикъ такъ мило шелъ къ этому немножко поблѣднѣвшему личику; бѣлый подроманъ, стянутый пунцовымъ кушакомъ, такъ обольстительно драпировалъ свободными складками ея чудесную фигурку; уютненькая ножка, шаловливо высвободившись изъ просторной туфли, такъ живописно рисовалась на голубомъ фонѣ мягкаго ковра, что и не отцовское сердце растаяло бы, какъ ледъ среди лѣта. За тожь и Онисимъ Сергеичъ былъ самъ не свой: онъ садился возлѣ дочери, обнималъ ее и цаловалъ такъ нѣжно, что Marie не могла удержаться отъ слезъ. Самъ старикъ однажды чуть не расплакался, и въ какомъ-то опьяненіи задушевнаго восторга почти прокричалъ: "выздоравливай, Маша, право, выздоравливай! Пиръ задамъ! Всѣхъ приглашу, кого только пожелаешь! Знать не хочу никого и ничего!"
Одна лишь Елена вѣрнѣй всѣхъ понимала сущность этого дѣла: видѣла и ошибки отца, и заблужденіе матери и опасное увлеченіе сестры. Попробовала было она какъ-то разъ заикнуться объ этомъ: но ее уняли, замѣтивъ, что это не ея дѣло; а маменька прибавила еще, что въ ней дѣйствуетъ зависть и что сердце у ней каменное… Нѣтъ ничего хуже положенія старшей сестры, считающей себѣ пятъ или шесть единицъ свыше двухъ десятковъ лѣтъ, когда она видитъ, что младшая сестра, которую не такъ давно она ставила въ уголъ, уже поднялась на ноги и сдѣлалась предметомъ ухаживанья отборной молодежи и особеннаго вниманія самихъ родителей! Ой, mesdames, не будьте слишкомъ взыскательны! Не то и съ вами тоже станется, что съ Разборчивой Невѣстой дѣдушки Крылова!..
Но угадайте, кто въ семействѣ Небѣды явился открытымъ и опаснымъ противникомъ Софьина?.. Жорженька. Вы улыбаетесь, читатель, что я ставлю порядочнаго и солиднаго человѣка на одну доску съ мальчишкой, не заслуживающимъ вашего вниманія: но позвольте, – и крѣпкое дерево точитъ презрѣнный червь, и камень-самородъ долбитъ ничтожная капля. Такъ и тутъ. Припомните только отношенія Жорженьки къ папенькѣ и маменькѣ, и обратно, – тогда вы непремѣнно согласитесь, что онъ не совсѣмъ такой ничтожный противникъ, какимъ представляется съ перваго раза. Marie онъ терпѣть на могъ, равно какъ и она не любила Жоржа, насмѣшливо прозвавъ его "надеждою семейства": но слово дуэль было ему знакомо со всѣми подробностями. Не ребяческой головѣ было обсудить поступокъ Софьина, когда и сѣдыя головы преклонялись предъ кумиромъ общевѣковаго предразсудка. Жорженька понялъ только, что дуэлъ не состоялась, а не состоялась потому, что Софьинъ струсилъ. Въ этомъ убѣжденіи Жорженька, искусно подстрекаемый Пустовцевымъ, открыто и съ ожесточеніемъ пошелъ противъ Софьина, дѣйствуя сначала на маменьку, а потомъ и на папеньку.
– Ахъ, Онисимъ, говорила иногда Соломонида Егоровна, что это за благородныя побужденія у нашего Жоржа!
– Отожь, бестія! подтверждалъ Онисимъ Сергеевичъ; въ военную его, въ военную! Тамъ такихъ любятъ.
Надо знать, что Жорженька былъ на самой короткой ногѣ съ Пустовцевымъ, и съ наслажденіемъ вдыхалъ въ себя зараженную атмосферу его житья-бытья. Пустовцеву надобенъ былъ повѣренный, курьеръ между нимъ и Marie, и Жорженька какъ нельзя лучше исполнялъ обѣ эти должности. Крайне недовольна была этимъ Marie, потому что, повѣривъ тайну свою мальчишкѣ, она отдавала себя въ его руки, – и Жорженька пользовался этимъ превосходно. Услуживая Пустовцеву изъ привязанности, онъ никогда не отказывался и отъ того, чтобъ угодить Marie: но за то же, при первой вспышкѣ ея за какую нибудь дерзость, онъ давалъ ей понятъ, что можетъ повредить ей много, пересказавъ только отцу и матери о томъ, что ему извѣстно, – и Marie поневолѣ должна была пасовать передъ своимъ милымъ братцемъ. Впрочемъ въ этомъ отношеніи она дѣйствовала гораздо осмотрительнѣй своего поклонника, и ниразу не сдѣлала ему никакого порученія по части романической; за то Пуетовцевъ нисколько не стѣснялъ себя передъ Жоржемъ, и снабжая его разными бездѣлками, а иногда и деньгами для секретныхъ расходовъ, требовалъ отъ него всякій день подробнаго отчета въ томъ, что дѣлала Marie дома, кто у нихъ былъ и что тамъ говорилось. Жорженька переносилъ отъ Пустовцева къ сестрѣ своей книги съ потаенными замѣтками, вѣсти о томъ, гдѣ она будетъ и гдѣ надѣется его встрѣтить и разнаго рода сюрпризы, состоявшіе по большой части въ такихъ вещахъ, которыя имѣли видъ обыкновеннаго вниманія, и которыя она весьма свободно показывала своимъ родителямъ, не находящимъ въ этомъ ничего особеннаго. При всемъ томъ цѣлей Пустовцева Жорженька не зналъ и не понималъ; разъ потому, что объ этомъ и рѣчи никогда не было, а съ другой стороны онъ уже не одинъ урокъ выслушалъ отъ Пустовцева о брачныхъ связяхъ, всегда безстыдно имъ осмѣиваемыхъ. Ознакомленный пріятелемъ своимъ съ презрѣннымъ волокитствомъ и съ презрѣннѣйшимъ Чикарскимъ, и сдѣлавшись Казановой въ миніатюрѣ, Жоржъ и въ настоящемъ поведеніи Пустовцева видѣлъ не болѣе, какъ нѣсколько облагороженное и болѣе трудное волокитство, и усердно помогалъ ему въ этомъ, тайно радуясь униженію и посрамленію гордой и ненавистной ему сестры.
Бѣдный, бѣдный Софьинъ! Кому ты принесъ великую жертву благороднаго, но тяжкаго самоотверженія!..
Прошелъ и мѣсяцъ, и два мѣсяца, а Софьина все ни было видно. Онъ даже бросилъ и служебныя занятія, извинясь какою-то болѣзнію, за пятьдесятъ цѣлковыхъ удачно выдуманною знакомымъ ему врачемъ. Только нѣкоторые видѣли его гуляющимъ въ ясныя ночи: но никому не удалось сказать ему ни полслова, потому что Софьинъ всегда выбиралъ для своихъ прогулокъ менѣе людныя улицы и всячески остерегался встрѣчи съ знакомыми. Такая игра въ жмурки наскучила наконецъ достойнымъ обывателямъ города В., и они единогласно рѣшили, что Софьинымъ заниматься не стоитъ, и потомъ положили обратиться къ другимъ, болѣе животрепещущимъ, новостямъ и сплетнямъ.
Разъ только удалось какъ-то Небѣдѣ почти силой ворваться къ Софьину: но на первомъ же шагу черезъ порогъ, поперхнувшись отъ сигарочнаго дыма, который тучею ходилъ по комнатамъ, Онисимъ Сергеевичъ едва могъ откашляться, и тѣмъ совершенно испортилъ подготовленную рѣчь, въ которой, по его мнѣнію, заключался убѣдительный нагоняй Софьину за его отшельничество. Въ слѣдствіе сего Небѣда ограничился лишь тѣмъ, что сталъ жаловаться на колотье въ боку и бранить Никиту, что онъ форточекъ не отворяетъ; а холодный и черезчуръ серьезный видъ Софьина отбилъ у Онисима Сергеича и послѣднюю охоту пускаться въ откровенную рѣчь. Попенявъ Софьину сквозь зубы за то, что онъ забылъ ихъ, Небѣда проворно ушелъ отъ него, и дорогою долго бормоталъ что-то себѣ подъ носъ, сильно размахивая на ходу руками.
Между тѣмъ вдругъ, къ общему изумленію всѣхъ обывателей города В., пронеслась вѣсть, что Софьинъ оставляетъ службу, а чрезъ нѣсколько времени послѣдовало и подтвержденіе тому въ Высочайшихъ приказахъ. Въ одну, какъ говорится, прекрасную ночь за тѣмъ сосѣди Софьина видѣди, какъ тронулись со двора два тяжело нагруженныхъ экипажа, а на другой день въ квартирѣ Софьина толпились барышники, покупавшіе разныя вещи съ вольнаго аукціона, состоявшаго подъ непосредственнымъ завѣдываніемъ грамотѣя-Никяты
Благочестивые и усердные посѣтители Кладбищенской церкви, въ первую же затѣмъ субботу, увидѣли въ храмѣ Божіемъ множество новой утвари, и подлѣ каплицы Надежды Софьиной мертвецки пьянаго сторожа, который съ горькими слезами разсказывалъ всѣмъ, какъ его высокоблагородіе баринъ изволили прощаться съ супружницей, и какъ они изволили наказывать ему беречь каплицу и не напиваться допьяна. "То-ись, другаго такого барина не осталось – ей-богу! Бывало и палкой побьетъ изъ своихъ ручекъ, и больно побьетъ, коли что въ неисправности, али тамъ зашибешь крючекъ лишній, да ужь за то и ублаготворитъ тебя во всемъ, eй-богу. "
И еще нѣсколько дней поговорилъ городъ о Софьинѣ, потомъ замолкъ, и имя его изрѣдка вспоминалось лишь въ томъ семействѣ, которое, благосклонные мои читатели, одно вамъ осталось для описанія и разсказа.
При семъ честь имѣю доложить въ историческомъ слогѣ, что Софьинъ выѣхалъ туда, гдѣ проживалъ его сирота-малютка. Пожелаемъ же, чтобъ чувство родительское и ангельскія ласки ребенка успокоили и излечили растерзанное сердце и озлобленную душу Софьина…
Глава десятая
Еще задолго до отъѣзда Софьина, Небѣды стали жить, что называется, открытымъ домамъ. Это случилось по настоянію Соломониды Егоровны, и больше, по желанію Marie, которой съ нѣкотораго времени Онисимъ Сергеичъ не отказывалъ ни въ чемъ. Превосходное помѣщеніе, отличный поваръ, хорошія (по губернскому) вина, проворная и предупредительная прислуга, всегда открытые столы съ заманчивыми надеждами благороднымъ образомъ залѣзть въ карманъ ближняго все это было сильной приманкой для людей положительныхъ, которые понимаютъ настоящее значеніе жизни. Молодежь къ всему этому имѣла еще и другія привычки. Взрослыя дочери всегда украшеніе какого хотите дома. Пусть будетъ папенька барабанъ, а маменька бубенъ; пусть дочки будутъ и не красавицы: но лишь бы были молоды, свѣжи и мало-мальски образованы, – охотники до ухаживанья за ними непремѣнно найдутся. Пчела жь не всегда вьется вокругъ розъ и лилій; она садится и на бурьянъ и на крапиву.
Онисимъ Сергеичъ своими дочерьми могъ угодить вкусу каждаго. Правда, Елена не отличалась красотой, но она была не глупа, а послѣ реформы, произведенной въ семействѣ Небѣды Пустовцевымъ, сдѣлалась скромнѣй, и рѣже твердила о столицѣ, чѣмъ много выигрывала въ губерніи передъ тѣми, кто раздѣлялъ съ нею скучныя антракты между чаепитіемъ и улаживаніемъ карточныхъ партій. Не одинъ изъ положительныхъ посѣтителей Небѣды отходилъ потомъ отъ Елены въ полномъ очарованіи отъ свѣдѣній, которыми она умѣла таки порядкомъ оглушать профановъ, и пощелкивая карточкой, поданной партнеромъ, положительный посѣтитель повторялъ, усаживаясь за столикъ: "да-съ, это не того-съ… не какая нибудь… того-съ… а мое почтеніе, ухо!" Предоставивъ сестрѣ отличаться въ дѣлахъ, не подлежащихъ третейскому суду, Елена большую часть времени посвящала музыкѣ, и, бывъ достаточно приготовлена еще прежде, продолжала брать уроки у одного изъ лучшихъ фортепьянистовъ. Постигнувъ колоссальное значеніе твореній Бетховена и привязавшись къ нимъ, она открыла неизсякаемый источникъ наслажденія, которымъ по капелькѣ лишь дарятъ насъ новѣйшіе композиторы, обыкновенно переворачивающіе тощенькую тему на тысячу ладовъ. Впрочемъ жаждущіе полекъ и мазурокъ оставались не совсѣмъ довольны ея игрой, ибо точно она не могла удовлетворять этихъ господъ, у которыхъ музыкальное чувство не въ душѣ, а въ ногахъ. Изъ вѣжливости однакожь и такія господа старались быть внимательными къ игрѣ Елены, да впрочемъ Онисимъ Сергеичъ остановилъ бы хоть кого, кто осмѣлился бы пикнуть во время исполненія какой нибудь мудреной сонаты или длиннаго Бетховенскаго концерта. "Это вѣдь, милостивый государь мой, говорилъ онъ подъ часъ иному франту, это вѣдь не полька-хлопушка, гдѣ вы прыгаете ногами по паркету да плетете языкомъ турусы на колесахъ: тутъ дѣло душевное, – да-съ!" И устанавливался франтъ смирно, сдѣлавъ презрительную улыбку, которой впрочемъ никогда не замѣчалъ Небѣда, державшій въ такихъ случаяхъ голову ниже обыкновеннаго, и походившій въ эту пору на быка, который сбирается боднуть мимо проходящаго своего однофамильца.
Но царицею всѣхъ этихъ вечеровъ, разумѣется, была Marie. Полновластная владычица желаній своего отца, изъ милости лишь снисходившая къ распоряженіямъ матеря, она являлась гостямъ тогда, когда уже всѣ бывали въ полномъ собраніи, и съ сознаніемъ своего достоинства выслушивала привычныя удивленія совершенствамъ, щедро ей приписываемымъ. Не находя ни въ комъ подобія съ тѣмъ, чьи эксцентричныя правила сдѣлались нормою ея дѣятельности, она гордо принимала услуги молодыхъ людей, и самонадѣянно отражала всякое заискиванье исключительнаго ея вниманія. Не разъ обиженный ея холодностію, а иногда и злой насмѣшкой, безбородый Адонисъ отходилъ отъ нея гнѣвный и раздраженный: но стоило Marie бросить на него одинъ привѣтливый взглядъ, сказать полуласковое слово, и Адонисъ снова увивался вокругъ очаровательницы, словно мотылекъ вокругъ горящей свѣчки, поминутно рискуя потерять свой прозрачныя крылышки. Marie это страхъ какъ забавляло: но не безопасна такая забава! Мимо другаго прочаго, она быстро развиваетъ и до пресыщенія упитываетъ кокетство – этотъ жалкій порокъ женщины, невинный въ началѣ и отвратительный въ послѣдствіи. Когда однакожь наскучивали Marie приторныя любезности вздыхателей, она подхватывала подъ руку Племянничкова, и громкій хохотъ этого повѣсы отбивалъ охоту у всякаго продолжать свои любезности. Не принадлежа къ числу страстныхъ поклонниковъ Marie, и высказавъ ей это со всей откровенностью, Племянничковъ тѣмъ самымъ далъ ей право смотрѣть на него, какъ на безопаснѣйшаго посѣтителя ихъ дома, съ которымъ можно говорить о чемъ угодно и отъ котораго услышишь много интереснаго. Но съ появленіемъ Пустовцева кончалось и искательство обожателей Marie и минутное торжество Племянничкова. Первые расходились по угламъ и избравъ наблюдательную позицію, шпыняли втихомолку ненавистнаго имъ соперника, а Племянничковъ, затянувъ что нибудь въ родѣ: "я въ пустыню удаляюсь", спокойно раскланивался съ Пустовцевымъ и подходилъ къ Еленѣ разрѣшать вопросъ, что такое генералъ-басъ.
Отношенія Пустовцева къ Marie день ото дня становились тѣснѣе и часъ отъ часу неразгаданнѣе. Городскіе вѣстовщики и вѣстовщицы терялись въ догадкахъ; одни говорили, что Пустовцевъ ждетъ только благословенія отъ своихъ родителей, чтобъ покончить все законнымъ порядкомъ; другіе увѣряли, что, при его убѣжденіяхъ и правилахъ, это дѣло вовсе несбыточное. Одни толковали, что онъ страстно влюбленъ въ Marie, другіе спорили противъ этого, и утверждали, чуть ли не основательно, что такіе эгоисты, какъ Пустовцевъ, ничего не могутъ любить, кромѣ себя: но всѣ согласны были въ томъ, что отношенія этихъ молодыхъ людей были въ высшей степени скандалезны, и что ослѣпленіе Онисима Сергеича и Соломониды Егоровны насчетъ этого было болѣе чѣмъ странно, и втихомолку пророчили безпечнымъ родителямъ нежданные огорченія и какой-то очень непріятный сюрпризъ.
За всемъ тѣмъ Пустовцевъ въ семействѣ Небѣды былъ какъ свой. Жорженька не иначе называлъ его, какъ братомъ; сначала титулъ этотъ какъ-то странно бросался всѣмъ въ глаза, а потомъ къ нему попривыкли и стали придавать такому названію не столько родственное, сколько пріятельское значеніе, тѣмъ болѣе, что Жорженька давно уже былъ съ Пустовцевымъ на ты. Пустовцевъ являлся къ Небѣдамъ во всякое время – утромъ, въ полдень, вечеромъ, даже ночью, если только замѣчалъ въ окнахъ залы и гостиной приличное освѣщеніе, и всегда былъ принимаемъ попросту, безъ церемоній, какъ другъ дома. Онъ самъ разсказывалъ о толкахъ, ходившихъ по городу объ немъ и о Marie, ловко осмѣивая всякую догадку вѣстовщиковъ; въ иное время онъ полунамеками обнаруживалъ какъ будто серьезныя отношенія свои къ Marie и благородную ихъ цѣль; въ другое безжалостно разбивалъ робко высказываемыя Соломонидой Егоровной надежды и виды на него, какъ на будущаго члена ихъ сеѵеаства, а между тѣмъ искусно возбуждалъ въ матери охоту удвоить и утроить старанія привязать его тѣснѣе къ дочери. Такими средствами онъ совершенно ослабилъ бдительность родителей, и дѣйствовалъ, какъ ему было угодно.
Но не то внушалъ онъ самой Marie. Конечно, она не слышала отъ него даже одного слова о законной развязкѣ далеко зашедшей интриги; не разсыпался онъ передъ нею и въ страстныхъ увѣреніяхъ любви и привязанности. Пустовцевъ очень хорошо зналъ, что эти сказки нравятся только сначала, но что всякая благоразумная и порядочная дѣвушка потомъ съ презрительной усмѣшкой будетъ смотрѣть на своего обожателя, какъ скоро онъ не перемѣнитъ мольнаго тона своей страсти на серьезный дуръ, и вмѣсто мужскаго баса или тенора будетъ продолжать пищать серенады бабьимъ дискантомъ. Женщина любятъ только мущину, то есть, силу, твердость и самостоятельность въ чемъ бы онѣ ни выражались, хоть бы даже въ злодѣйствѣ, и потому-то нѣтъ ничего мудренаго, если иногда сѣдоголовый мужъ больше нравится женщинѣ, чѣмъ чернокудрявый, гладколицый и женоподобный юноша. Да, библейское выраженіе смири ю имѣетъ глубокое психологическое значеніе…
Не подумайте, чтобъ отъ взора Marie могла укрыться эксцентричность правилъ и поведенія Пустовцева. Ея свѣжее, еще неиспорченное чувство на первый разъ глубоко было имъ взволновано, и если читатели помнятъ отвѣты ея Пустовцеву на музыкальномъ вечерѣ Онисима Сергеевича, то легко поймутъ причину того. Но мало-по-малу обольстительные софизмы Пустовцева разрушили святыя, но не твердыя убѣжденія юной души, а нравственная сила и вѣрность однажды принятому направленію довершили побѣду его надъ слабой и неопытной дѣвушкой. Она неожиданно увидѣла его полнымъ властелиномъ своей души, и дальнѣйшія дѣйствія ея стали похожи на тѣ непроизвольныя движенія, какія мы видимъ въ магнетизируемомъ подъ неотразимо-властной рукой опытнаго магнетизера… Да, она любила его, но любила, какъ лицо страдательное, а не дѣйствующее безъ уничтоженія своей особности, слѣдовательно и вся будущая участь ея и ожидаемое счастье зависѣли исключительно отъ того человѣка, владычеству котораго подпала она всемъ существомъ своимъ. Есть ли тутъ возможность, спрашиваю васъ, читатели, того взаимнаго блаженства, гдѣ личность одного не поглощается личностію другаго, но гдѣ нераздѣльно, но и несліянно пользуются супруги эдемскимъ благословеніемъ Отца Небеснаго?.. Угадываю отвѣтъ вашъ, и къ сожалѣнію вижу, что вы, догадливыя мои читатели, прежде автора разрѣшаете тотъ вопросъ, который долженъ объясниться предъ вами послѣдующими событіями.
– Давно ли ты видѣла, ma chère, Валеріана? спрашивала однажды Софья Кузьминишна Marie, уводя ея въ безлюдный уголъ залы.
– Валеріана?! съ улыбкой замѣтила Marie. Кто это такой – Валеріанъ?
Софья Кузьминишна поздо увидѣла, что проболтнулась: но привычка, какъ хотите, великое дѣло! Она, бѣдненькая, еще не могла такъ скоро отвыкнуть отъ фамиліарно-дружескаго названія, которое не такъ давно давала она "другу дома".
– Ахъ, ma chère, ты меня ужасно конфузишь отвѣчала она, опуская глаза по-институтски.
– Не конфузьтесь; мы свои, – сказала Marie съ ѣдкой усмѣшкой, сквозь которую проглядывала маленькая ревность. Такъ что же вамъ угодно знать, пожалуй, хоть и о Валеріанѣ?
– Мнѣ только хотѣлось узнать, ma chère, давно ли ты его видѣла?
– Видѣла сегодня, видѣла вчера и еще надѣюсь увидѣть нынѣшній день, смѣясь отвѣчала Marie.
– Да удобно ли вамъ тутъ видѣться-то?
– Очень удобно.
– Ну, да всежь таки.
Насъ никто не стѣсняетъ.
– Видѣть могутъ, ma chère.
– Сколько кому угодно.
– Ну, а maman?
– О, она очень добра.
– А папа?
– Онъ тоже очень хорошо понимаетъ, что въ обращеніи моемъ съ Пустовцевымъ, или, по вашему, съ Валеріаномъ, нѣтъ ничего неприличнаго.
– Однакожь, Marie – и Софья Кузьминишна крѣпко поцаловала ее въ самыя губы, – будешь ли ты откровенна со мной?
– Почему же, – что вамъ угодно?
– Ты влюблена въ Пустовцева?
– А вы какъ думаете?
– Не безъ того, какъ вижу.
– Вотъ и прекрасно! Къ чему-жь вашъ послѣ этого мой отвѣтъ?
– Положимъ; ну, а онъ?
– А какъ по вашему мнѣнію?
– Кажется, и онъ къ тебѣ неравнодушенъ.
– И превосходно! Значитъ, обѣ эти статьи вамъ очень хорошо извѣстны, и вы остаетесь покойны.
– Ахъ, Marie, я вижу, что ты не хочешь быть откровенной со мною.
– Вотъ ужь я не хочу! Скажите, что вамъ угодно знать?
– Да ты не станетъ отвѣчать мнѣ.
– Развѣ я это доказала?
– Ну, если такъ, то скажи, какіе ваши планы?
– Самые мудреные: онъ ничего, и я ничего, я время у насъ проходитъ, какъ нельзя лучше.
– Однакожь всему бываетъ конецъ.
– Будетъ я этому конецъ; подождите я увидите.
– Ахъ, ma chère, дождусь ли я?
– Имѣйте терпѣніе.
– Какъ бы хотѣлось мнѣ увидѣть тебя подъ вѣнцомъ! воскликнула Софья Кузминишна и потянулась поцаловать Marie.
– Ха, ха, ха, ха! Какія вы странныя, Софья Кузьминишна! Будто только и счастья, что подъ вѣнцомъ?
– Вотъ видишь, ma chère, какъ ты неоткровенна!
– Соглашаюсь; а вы будете откровенны?
– Отъ всей моей души.
– Скажите-жь мнѣ: когда вы были счастливѣй – тогда ли, какъ ожидали вѣнца; тогда ли, какъ стояли подъ вѣнцомъ, или тогда, какъ вышли изъ подъ вѣнца?
– Ахъ, ma chère, во всѣ три раза я была счастлива!
– Однако, какой номеръ больше вамъ нравился?
– Разумѣется, когда желанія мои совершились.
– Стало быть, номеръ третій. Но кажется, для полноты этого номера, вы не такъ давно искали кого-то и чего-то другаго.
Такой безстыдный намекъ на соблазнительную интригу въ устахъ дѣвушки показывалъ уже крайнее растлѣніе ея сердца: но чего нельзя ожидать отъ дѣвицъ, побывавшимъ въ школѣ господъ Пустовцевыхъ!..
Софья Кузьминяшна вспыхнула. Она, такъ великодушно и самоотверженно пожертвовавшая своимъ "другомъ дома", она увидѣла, что доблестей и подвига ея ни цѣнятъ, какъ должно, а прямо въ лицо бросаютъ съ грязью насмѣшки и презрѣнія. Задыхаясь отъ злобы, Софья Кузьминишна никакъ не могла собраться съ отвѣтомъ.
– А я могу васъ увѣрить, Софья Кузьминишна, спокойно продолжала Marie, играя снятымъ съ руки браслетомъ, что вы несравненно были счастливѣй, ожидая вѣнца.
– Что жь изъ этого? злобно сказала мадамъ Клюкенгутъ.
– А вотъ что: я теперь, какъ вы сами же не разъ мнѣ говорили, счастлива, хоть не думаю о вѣнцѣ, – за чѣмъ же счастье вѣрное мѣнять на невѣрное? За чѣмъ искать того, что уменьшаетъ счастье? Ну, Софья Кузьминишна, скажите жь теперь, кто изъ насъ откровеннѣй?
Таковы почти всегда бывали разговоры Marie со всякимъ, кто затрогивалъ ее и кого впрочемъ удостоивала она своей довѣренности. Другія барыни и подступить къ ней не смѣли съ подобными распросами. Холоднымъ и гордымъ обхожденіемъ съ ними она умѣла держать ихъ въ приличномъ отдаленіи, и извѣщаемая Пустовцевымъ о сплетняхъ то и или другой изъ обычныхъ посѣтительницъ ихъ дома, она на всякій случай приготовляла для каждой изъ нихъ неотразимое словцо, которое онѣ инстинктивно предугадывали, по пословицѣ, знаетъ кошка чье сало съѣла, и потому сами избѣгали короткости съ безславимой ими Marie.
– Нуте-съ, Валеріанъ Ильичъ, говорилъ, напримѣръ, Трухтубаровъ, вставая отъ карточнаго столика и предоставляя партнерамъ разсчитывать въ его пользу свои проигрыши: какъ же ваши сердечныя?
– А ваши карточныя? спрашивалъ его въ свою очередь Пустовцевъ.
– Благодаря Бога, хороши.
– И мои недурны.
– Мы играемъ съ осторожностію.
– А я такъ бью навѣрняка.
– О, да вы опасный человѣкъ!
– Не совѣтую вамъ связываться со мной.
– Глядите, не обремизьтесь.
– Не хлопочите; я играю безъ приглашенія.
– А скоро кончится ваша пулька?
– Какъ только сыграемъ то, что поставили.
– А потомъ?
– Если кому придется давать сдачи мелочью, то сыграемся направо, налѣво.
– Такъ-съ. Но вѣдь игра можетъ затянуться.
– Что жь такое, если это доставляетъ удовольствіе играющимъ?
– А если кому изъ нихъ наскучитъ?
– Можетъ сказать прямо, тогда сквитаемся.
– А если вы останетесь въ проигрышѣ?
– Не пойду къ вамъ занимать капиталовъ благоразумія, говорилъ Пустовцевъ, небрежно отходя отъ собесѣдника.
– Бритва! говорилъ потомъ Трухтубаровъ, возвращаясь къ столику для полученія наличностей.
– А что-съ Ловеласъ нашъ? спрашивалъ одинъ изъ игравшихъ.
– Опасный человѣкъ! отвѣчалъ Трухтубаровъ, укладывая выигрышъ въ бумажникъ.
– Удивляюсь ослѣпленію Онисима Сергеича!
– А вы думаете, онъ дѣйствуетъ спроста? прибавлялъ другой партнеръ.
– Да, конечно… протяжно говорилъ Трухтубаровъ, это дѣйствительно… есть признаки… но однакожь…
– Да я вамъ скажусь, это препродувная бестія! Онъ очень хорошо разсчиталъ, что Пустовцевъ партія хоть куда, и состояньишко есть, и на ходу человѣкъ.
– Предотавленъ ужь въ надворяые.
– Посмотрите, какъ ловко спровадилъ онъ Софьина-то! Какъ мастерски оплелъ онъ его! Отговорилъ отъ дуэли, чтобъ не испортить дѣла. Увѣряю васъ, что этотъ старый хрычъ плутъ большой руки. Въ одно ухо влѣзетъ, въ другое вылѣзетъ!
– Ну, ужь вы слишкомъ!..
– Нѣтъ, не слишкомъ. Ужь какъ хотите, а на правду чортъ!
– Да ужь не спорьте, Семенъ Семенычъ, поддакивалъ чорту на правду первый партнеръ. Но однакожь, какая подлость уронить честнаго человѣка изъ-за какихъ нибудь тамъ своихъ видовъ!
– На томъ свѣтъ стоитъ, Иванъ Игнатьевичъ, говорилъ Трухтубаровъ.
– Ужь какъ себѣ хотите, а а никогда не рѣшился бы на такой пассажъ.
– Это потому, что у васъ нѣтъ дочки.
– И слава Богу, подхватилъ партнеръ, тотъ что на правду-то чортъ. А то, знаете, чудо какъ пріятно было бы видѣть такіе авантюры, какіе продѣлываетъ меньшая-то съ этимъ… тьфу!
– Что правда, то правда, подтверждалъ Трухтубаровъ. Уму непостижимо, до чего дошла теперь молодежь, уму непостижимо!
– Да чего еще! говорилъ все тотъ же чортъ на правду, – просто, обнимаются!
– Да не безъ того, я думаю, наединѣ-то, прибавилъ съ усмѣшкою первый партнеръ.
– Но однакожь, какова безпечность-то родителей, какова безпечность-то! говорилъ Трухтубаровъ, качая головой.
– Да всѣ они въ заговорѣ, всѣ! заключалъ господинъ тотъ, что чортъ на правду-то. Я хоть сей часъ, сію минуту готовъ сказать самому….
– О чемъ это, господа философствуете? громко спрашивалъ подошедшій въ эту пору Нобѣда.
– Да вотъ-съ, Онисимъ Сергевичъ, отвѣчалъ чортъ-то на правду, Семенъ Семенычъ разсказывали о произшествіи… того-съ… произшествіи, помните-съ? съ Голиковскимъ?
– На счетъ милліоновъ-то? А, будь оно проклято! Душа дрожитъ, говорилъ Небѣда, ниже наклоняя голову. Я съ тѣхъ поръ никому не вѣрю: самъ всякій мѣсяцъ повѣряю всѣ суммы, даже билеты пересматриваю…
– И прекрасно дѣлаете-съ! Осторожность во всякомъ случаѣ не мѣшаетъ.
– Да ужь меня не учите этому! Не надуютъ, небось! Тертый калачъ!
Собесѣдники взглядывали другъ на друга, улыбаясь весьма значительно и расходились поразмяться маленько отъ долгаго сидѣнья.
Съ нѣкотораго времени Пустовцевъ рѣже сталъ появляться въ домѣ Онисима Сергеича, и когда-то когда зайдетъ туда, да и то на минутку. Отношенія его къ Marie становились день ото дня мудренѣе; не то, чтобъ видна была холодность, не то, чтобъ равнодушіе: но будто какая-то тайна черной кошкой проскочила между молодыми людьми. Marie стала грустнѣе, и чаще и долѣе оставалась въ уединенной комнатѣ, все думая о чемъ-то. Это опять не былъ припадокъ мечтательности, не была тоска, червемъ заползающая въ душу и подгрызающая тамъ все, чѣмъ живетъ юное сердце, – нѣтъ, это была какая-то дума, полная тревоги, сомнѣнія и нерѣшительности. Въ иную пору Marie становилась весела до ребячества и пренаивно сердила сестру, фальшивымъ голосомъ подпѣвая ея игрѣ и прыгая подъ какое нибудь концертное allegro; въ другое время отъ нея слова нельзя было добиться. Она какбы пугалась чего-то, и завидѣвъ на улицѣ Пустовцева, торопливо уходила къ себѣ, сказываясь больною. Соломонида Егоровна терялась въ догадкахъ; за то Онисимъ Сергеичъ разрѣшалъ коротко и ясно всѣ эти капризы любимой имъ дочери.
– Ну, и чтожь такое? отвѣчалъ онъ однажды на безпокойныя замѣтки жены. Дѣвка за мужъ хочетъ, вотъ и вся недолга!
– Да замѣчаешь ли ты, Онисимъ, какъ она худѣетъ?..
– Экъ тебѣ мерещится! Худѣетъ – вовсе не худѣетъ. На мои глаза, такъ еще полнѣетъ, а ужь противъ того и говорить, нечего, что цвѣтъ лица у ней превосходный.
– То-то и пугаетъ меня. Въ иную пору она вся горитъ какъ въ огнѣ; а иногда точно будто истомилась, устала, чуть на ногахъ держится.
– Такъ чтожь изъ того?
– А то, Онисимъ, что это плохой признакъ.
– Ой ли?
– Je vous assure. Сестра Катишь тоже испытывала передъ чахоткой.
– Типунъ бы тебѣ на языкъ! Катишь твоя умерла съ досады, что жениховъ упустила.
– Да вѣдь и Пустовцевъ-то…
– А, ну тебя! Толкуй тамъ по субботамъ!
И Онисимъ Сергеичъ уходилъ къ себѣ въ кабинетъ, досадуя, что крѣпколобая его барыня такъ плохо понимаетъ его резоны.
Наступила весна, чудная, обворожительная весна. Въ садахъ и лѣсахъ, одѣтыхъ свѣжей, благоуханной зеленью, весело защебетали разноцвѣтные пернатые пѣвцы, воспѣвая любовь и свободу; въ воздухѣ было что-то разнѣживающее, теплое, упоительное. Міръ Божій праздновалъ обновленіе свое, – и все живущее отъ человѣка до былинки сладко упивалось жизнію…
Ермилъ Тихонычъ Ерихонскій, неистощимый на выдумки, устроилъ пикникъ, амфитріономъ котораго вызвался быть самъ своею персоною. Съ обязательной любезностью онъ объѣздилъ всѣхъ знакомыхъ, разнообразя до высшей степени свои пригласительныя фразы, и заставляя иныхъ помирать со смѣху, а другихъ, не столько понятливыхъ, требовать у него объясненія вычурному приглашенію. Командиръ квартировавшаго въ городѣ полка обѣщалъ прислать свою музыку, съ уговоромъ однакожь, чтобъ не поить музыкантовъ допьяна и особенно не подносить флейтѣ, у которой въ противномъ случаѣ всегда портился амбушюръ. Ермилъ Тихонычъ далъ слово во всемъ строго слѣдовать предписаніямъ его высокоблагородія, и въ заключеніе просилъ его пригласить отъ себя лучшихъ офицеровъ, которые, по выраженію Ерихонскаго, "могли бы съ честію шмыгнуть по паркетному полу, въ удовольствіе прекрасному полу". Такой восхитительный каламбуръ не совсѣмъ однакожъ, понравился его высокоблагородію; его высокоблагородіе было до крайности раздражительно и чрезвычайно дорожило честію своего полка; потому-то его высокоблагородіе съ нѣкоторою язвительностію изволило замѣтить, что выборъ такого рода офицеровъ для него очень затруднителенъ, что сортировать такимъ образомъ можно только "штафирокъ", а что въ полку его высокоблагородія всѣ офицеры отличные танцоры и бонмотисты, но что впрочемъ онъ постарается привезти въ собой самыхъ лучшихъ, "съ тѣмъ что останетесь довольны", прибавилъ шутливо его высокоблагородіе, потряхивая эполетами и пожимая на прощанье руку Ермила Тихоныча.
Пикникъ назначенъ быль въ нѣсколькихъ верстахъ отъ города въ одномъ благопріобрѣтенномъ участкѣ лѣса, принадлежавшемъ наслѣдникамъ умершаго совѣтника Губернскаго Правленія и носившемъ названіе Райскія Двери. И точно, что за рай было это мѣсто! Широка наша родная Русь-матушка: но немного есть въ ней такихъ чудныхъ удолій. Узкой, но длинной дорогой, пролегающей между огородами, вы выѣзжаете во дворъ, примыкающій къ опушкѣ лѣса; до колѣнъ прячутся ноги коней вашихъ въ густой, шелковистой муравѣ, и жаль давить эту ярко-зеленую мураву грубыми колесами вашего легкаго экипажа. Васъ не манитъ къ себѣ красивый домикъ, главный фасадъ котораго украшенъ фантастически уродливыми, собственно русскаго ордена, колоннами, выкрашенными голубоватой краской; вы бросаетесь съ экипажа, и бѣгомъ уходите въ прохладную тѣнь густаго орѣшника и раскидистой липы. Вы съ наслажденіемъ бросаетесь на зеленый коверъ, постланный передъ вами во всю ширину лѣса доброй матерью-природой, которая тутъ обнимаетъ, гладитъ, ласкаетъ и заглядываетъ вамъ въ очи изумрудной зеленью своихъ лѣсовъ. Но шаловливое и непосѣстное дитя, вы срываетесь съ вашего мягкаго ложа, мчитесь въ глубину прохладнаго лѣса, и съ біющимся отъ наслажденія сердцемъ останавливаетесь при этомъ видѣ чудъ чудныхъ, дивъ дивныхъ. Вотъ передъ вами прихотливо брошенная дорожка, которая узкой тесьмой своенравно вьется далѣе и далѣе, и уходитъ Богъ знаетъ куда; она манитъ васъ впередъ, и въ медленномъ ходѣ вы осматриваетесь вокругъ, отводя рукою нависшія вѣтви, какбы загораживающія дорогу къ заповѣдному сокровищу. Вотъ утлый мостикъ, перекинутый черезъ оврагъ, прорытый весенними ручьями; онъ колеблется подъ вашими ногами; вы ступаете боязливо: но и боязнь эта – наслажденіе! За мостикомъ вы вздыхаете полной грудью, бросаете невнимательный взглядъ въ пропасть, которую вы такъ храбро переступили, и идете далѣе. Вотъ полуразрушенная башня, остатокъ временъ владычества Турокъ; она, какъ ласточье гнѣздо, прильнула къ гордой скалѣ, и вы спускаетесь къ ней осторожно, цѣпляясь за деревья, дружелюбно протягивающія къ вамъ свои вѣтви. Вотъ вы уже среди развалинъ, покрывающихъ обувъ вашу известковой пылью, – Боже, что за картина! Прямо подъ ногами у васъ вьется и сердито воетъ потокъ, перебѣгающій по камнямъ, оторвавшимся отъ сосѣднихъ скалъ и непрошено упавшимъ въ его ложе. Не глядите внизъ, если вы боитесь круженія головы; смотрите лучше прямо: передъ вами дикія скалы, съ изумительной правильностью прорѣзаннныя вдоль цѣлыми вѣками; – читайте ихъ, – эти прорѣзи-іероглифы природы. За скалами поле; сливаясь съ небомъ, оно будитъ въ душѣ вашей мысль о безпредѣльности, – и если въ эти минуты не заблеститъ слеза въ очахъ вашихъ, если покрайней мѣрѣ сердце ваше не забьется до пресыщенія сладкимъ восторгомъ: то, извините, вы не человѣкъ въ благородномъ значеніи сего слова, а только Иванъ Антоновичъ Страбинскихъ, {См. Ученое Путешествіе на Медвѣжій островъ, Брамбеуса.} или еще хуже, рыжій Джонъ-Буль.