Текст книги "Жернова. 1918–1953"
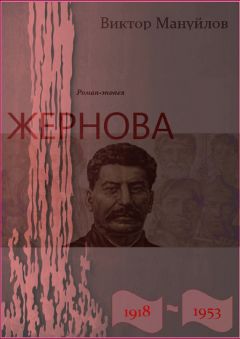
Автор книги: Виктор Мануйлов
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 46 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
– У нас в городе создана Чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем, – повернулся к Кукишеру Зиновьев. – Мы объявляем красный террор по отношению к старому миру. Со временем доберемся и до Бердичева и покараем ваших обидчиков. Мы приняли ряд декретов, которые ставят вне закона любые действия, направленные против евреев, как то: антисемитская пропаганда, агитация, призывы к погромам, использование слово «жид», оскорбляющее наше национальное достоинство, вместо слова «еврей». Все антисемиты объявлены вне закона. Идите к товарищу Бокию, который возглавляет эту комиссию после гибели товарища Урицкого. Товарищ Бокий вас запишет. Там нужны верные и решительные люди. А теперь, извините, меня ждут неотложные дела. Товарищи, которые останутся здесь… – двое в коже выдвинулись из тени – проведут промеж вас конкретную работу в данном направлении. Желаю успехов.
И Григорий Евсеевич покинул подмостки.
Глава 10Наутро, едва Ермилов напился чаю, в комнату ворвался, даже не постучав, возбужденный Яков Емельянович и, тряся газетой, захлебываясь словами, сообщил:
– В газете написано, что некто Каннегисер убил главу Петроградской Чека Моисея Урицкого. Но это не все. Зять мой состоит при Васильостровском совете по электрической части, так он только что с дежурства вернулся, говорит: ночью телеграмма была из Москвы. В ней сказано, что там стреляли в Ленина, две пули – рана смертельная. Правда, в газете об этом – ни гу-гу: то ли не успели напечатать, то ли боятся. В Смольном сейчас такое, говорит, творится – жуткая, говорит, паника… Зиновьев, говорит, заперся, окружил себя латышскими стрелками, боится покушения. Еще говорит, сам Дзержинский будто бы едет в Питер разбираться, за что убил Урицкого этот самый Каннегисер. А чего тут разбираться-то? По приказу Урицкого и за подписью Зиновьева в Крестах каждый день расстреливают десятки людей. А Урицкий… о нем поговаривают, будто бы он собственноручно бывшим царским офицерам погоны к плечам гвоздями прибивал. А еще, зять говорит, в городе разбросаны листовки с призывами бить комиссаров и жидов.
Ермилов побледнел, встал и снова сел. Закурил. Пальцы его дрожали – такого с ним никогда не было. Обстоятельства принимали скверный оборот, и ему нужно быть со своими товарищами либо здесь, в Питере, либо в Москве.
– Вы представляете, Петя, – не замечая состояния Ермилова, продолжал возбужденно Расторгуев: – Жиды начали убивать жидов! Объяснить вам это явление я совершенно не в состоянии, поскольку знаю, что это за народец, и своих, прав он или не прав по отношению к иноплеменным, всегда стараются выгородить… Да и в ихней Торе написано: своего не трогай, а с чужим можно делать все, что заблагорассудится. Да. Тут одно из двух, даже из трех: либо они перегрызлись друг с другом от всегдашней своей алчности, либо хотят показать нам, русским, что нет никакой особой жидовской власти, а есть борьба классов и ничего больше. Я не исключаю, что они сами прихлопнули этого Урицкого, чтобы развязать себе руки. Хотя… Хотя чего их развязывать-то? И так развязаны и распущены – дальше некуда… Вы только представьте себе, – говорил Яков Емельянович, бегая по маленькой комнатушке, пять шагов до двери, пять обратно, – Вы только представьте себе: в Петросовете, из почти четырехсот членов, русских – всего шестнадцать, остальные – жиды, эстляндцы да лифляндцы… Кстати сказать: слово жид нынче под запретом. Постановление такое вышло за подписью самого Ленина, что это слово есть контрреволюционность, юдофобия и оскорбление личности. Так что поостерегитесь, а то ненароком ляпните и попадете в Кресты. А еще было постановление властей, чтоб переселенцев из-за черты оседлости принимать в первую очередь, снабжать жильем и продуктами за счет буржуазного элемента, трудоустраивать, а детей ихних без конкурса принимать в институты и гимназии. Понаехало их тут – пропасть. Народец жадный, нахрапистый, требует у местных жидков своей доли. А на всех не хватает – грызутся. С теми же квартирами… Пустые все заселили, а они все едут и едут. Что делать? А просто: объявляют хозяина квартиры черносотенцем, хозяина в Кресты, семью на улицу, жидов на их место… – Покачал головой, вздохнул. – На Западе-то что говорят про наши дела?
– Газеты пугают большевиками. А народ… У народа своих забот хватает.
– Да, для Европы Россия всегда была дальше Африки. Это мы все: Европа, Европа – свет в окошке! А какой свет, прости господи! Если и светло от него кому, так только не нам, русским. Наше солнце по-нашему нам и светит, да только нынче и его хотят застить, – убежденно заключил Яков Емельянович и развернул газету. – Вот «Красная газета»… почитай, на весь Питер одна и осталась: остальные-то все позакрывали, – пояснил он. – Так вот, этой «Красной газетой» до недавнего времени заправлял некто Володарский, тоже из жидков, так его убили еще раньше. У нас поговаривали, что свои ж и убили, а списали, как всегда, на черносотенцев и мировую буржуазию…
– Что ж, мировая буржуазия – понятие вполне конкретное, – осторожно возразил Ермилов. – И черносотенцы тоже.
Яков Емельянович досадливо махнул рукой, присел на койку.
– Я ведь тоже отношусь к мировой буржуазии! И что же теперь? К стенке меня? А что касается черносотенцев, так это сплошные жидовские выдумки! Или вы не знаете, что так называемый «Союз русского народа» создали жиды? Два жида создали: Грингмут и Гурлянд. Из опасения, что сами русские создадут нечто подобное, но без жидов. Подсуетились, как они говорят в таких случаях, чтобы надзирать и руководить, не дать действовать самостоятельно. А как Грингмут этот помер, так и союз начал разваливаться. Вот вам и организация, вот вам и черносотенцы! Сами-то мы не очень способны на всякие союзы. Не доросли-с! Да-с! Ну да бог с ними, с этими союзами! – отмахнулся Яков Емельянович. – Вы вот послушайте, послушайте, что пишут в «Красной газете», – и с этими словами Расторгуев отыскал подчеркнутое место, прочитал: – «За кровь товарища Урицкого, за покушение на тов. Зиновьева, за неотомщенную кровь товарищей Володарского, Нахимсона, латышей, матросов – пусть польется кровь буржуазии и ее слуг – больше крови!» А? Каково? Латыши, матросы – в конце святцев, а про рабочих – ни гу-гу. Вот вам и рабоче-крестьянская власть!
Сунул газету в руки Ермилову, вскочил, опять заметался по каморке и стал похож на прежнего Расторгуева, непоседливого и говорливого.
– Ну, говорить могут всякое, – попытался возразить Ермилов. – На Западе о России говорят такое, что диву даешься, как у людей язык поворачивается.
– Да полноте! – воскликнул Расторгуев, отмахиваясь обеими руками. – Дыма без огня не бывает. Преувеличения, разумеется, возможны, но в целом… В целом ни для кого не секрет: Кресты переполнены, Петропавловка тоже. И каждый день туда везут и везут… И чуть ли ни каждый день газеты печатают списки осужденных к смертной казни. И на всех тумбах развешивают – для устрашения. А как перед этим с осужденными поступают, мы с вами не ведаем. Недавно, сказывали, в Кронштадте две баржи нагрузили чинами полиции, жандармерии, гвардейцами и просто известными лицами, отволокли баржи в Финский залив и затопили. Говорят, была среди них и пара-тройка жидов, которые получили дворянство от царя-батюшки и очень косо смотрели на всех этих володарских-урицких: им, видите ли, такая революция была не нужна, они хотели совсем другой, то есть такой, чтобы не выскочки из местечек верховодили в Москве и Питере, а они сами. Однако господам Зиновьеву и Урицкому такая постановка вопроса очень даже показалась обидной и несправедливой… Нет-нет, это добром не кончится. – И, заметив, что Ермилов начал одеваться, посоветовал: – А вы, любезнейший, посидели бы дома: пусть всё успокоится, утихнет, не ровен час, попадете латышам под горячую руку или какому-нибудь товарищу Розе… – И пояснил: – Не знаю, как где, а у нас, в Питерской Чека, одни товарищи Розы сидят и чинят суд и расправу. Даже присказку придумали: «На Горохе сидят розы, все одна в одну стервозы». – И пояснил: – «Горох» – это потому, что Чека на Гороховой улице обосновалась – в доме губернатора. Говорят, сам Горький, любимец жидов, – и тот возмущается.
– Горький в Питере? – спросил Ермилов, продолжая обматывать ноги полотняными серо-зелеными лентами.
– В Питере, в Питере! Все обиженные идут к нему. Да толку чуть… Посидели бы вы дома… от греха подальше.
– Вы, Яков Емельянович, за меня не беспокойтесь: ничего со мной не случится. А вот сами, действительно, поостерегитесь. Как говорится, береженого бог бережет.
И с этими словами Ермилов покинул дом.
В природе ничего со вчерашнего дня не изменилось. Все так же плыли по белесому небу грудастые облака. Такой же ленивый дождь окропил под утро землю, травы и листву деревьев. Туман серой пеленой окутывал прибрежные заросли, тек между домами, курился над черной водой каналов. Разноголосо била капель.
На берегу Невы Ермилов, стряхнув на себя с листвы короткий дождь, испятнавший его шинель, срезал ножом лещину подходящей конфигурации, выстругал из нее палку, шел теперь, прихрамывая, налегая на одну ногу и слегка волоча другую.
К Смольному Ермилов попал уже к полудню. Трамваи почти не ходили, извозчики опасались ехать к центру. Патрули встречались все чаще. И это были не только угрюмые и сонные латыши, но и задиристые и бесшабашные матросы, сосредоточенные рабочие, русские солдаты Петроградского гарнизона с суровыми и непреступными лицами. И почти во главе каждого патруля человек в кожанке, с маузером на боку, с красным бантом на груди или повязкой на рукаве. Среди «кожанок» встречались женщины-еврейки; такие патрули были особенно бдительны, цеплялись к каждому прохожему.
Город, опустевший за месяцы революционного кипения, как пустеет на жарком огне котел, покорно подставлял осеннему дождю бока обшарпанных домов и язвы мостовых. Березы, выставив напоказ первые охристые пряди, роняли начищенные пятаки листвы. В парках краснели гроздья рябины. Ржавчина уже начала разъедать осанистые липы, в их листве гомонили воробьи. Над крестами и шпилями соборов и церквей кружили галки и вороны, ругались на птичьем языке. Золотистая тишина, плотно окутывающая пустынные улицы, нервно вздрагивала от одиночных выстрелов и кашляющего хрипа проносящихся автомобилей, топота солдатских сапог и ботинок.
Ермилов ковылял по мостовой, опираясь на палку, черная с проседью неряшливая борода, стоптанные, но еще прочные американские ботинки на толстой подошве, серо-зеленые обмотки, плотно охватывающие его слегка кривоватые ноги, брезентовый ремень поверх гимнастерки, латунная бляха со спиленным двуглавым коронованным орлом, поношенная шинель, – ничто не выделяло его из питерских солдат, группами и в одиночку слоняющихся по неряшливым улицам, скапливающихся вокруг тумб с объявлениями и щитов с наклеенными на них газетами. Наоборот, он представлялся самым обыкновенным из них, вышвырнутых из казарм тревогой за завтрашний день.
На Невский проспект вступила внушительная колонна латышских стрелков по четыре в ряд, впереди несли красный транспарант с огромными желтыми буквами: «Даешь красный террор!»
Латыши шагали молча, шагали по самой середке проспекта сплоченными неразрывными рядами, косили на редких прохожих угрюмым, настороженным многоглазым взглядом, над их серыми шинелями колыхались тонкие нити штыков, в которых путались лучи солнца, иногда выглядывающего из-за туч.
Ермилова патрули останавливали дважды. Он совал им свои документы, пытался, мучительно заикаясь, объяснить, кто он и почему оказался в центре Петрограда.
Его не дослушивали и отпускали.
К Гороховой, 2 один за другим подъезжали чадящие грузовые автомобили, из них выталкивали на мостовую испуганных штатских с жалкими узелками и уводили за железные ворота.
Ермилов жадно вдыхал этот тревожный, наэлектризованный приближающейся грозой воздух, с каждым вздохом все более ощущая себя причастным ко всему происходящему. Ну что с того, что латыши, евреи и прочие! Значит, так надо, значит, без этого невозможно, значит, революция всколыхнула все слои общества, все нации и народности, и каждый вносит в нее свой посильный вклад. Пора и ему самому вносить, а не отсиживаться за чужими спинами…
И Александр Егорович пришел к окончательному решению: немедленно ехать в Москву, включаться там в общую работу. Почему именно в Москве, а не в Питере? Потому что Москву он знал лучше, в Питере бывал лишь наездами; в Москве он знал людей по совместной работе, в Питере – по редким и почти случайным встречам, вызванным необходимостью. Наконец, Москва – исконно русский город, а Ермилов, хотя и считал себя интернационалистом, от своей русскости избавиться не мог. Да и не очень старался.
В трамвае он услыхал, что на Путиловском будет митинг, что туда приедет Зиновьев и другие руководители «Северной коммуны», и решил побывать на митинге, посмотреть на Зиновьева, который долгие годы был тенью самого Ленина.
Еще Ермилову хотелось повидаться с Алексеем Максимовичем Горьким, с которым был коротко знаком по Капри, где некоторое время учился в рабочей школе. Горького он любил искренне, как любят первого учителя, но уверенность, что вокруг писателя, известного не только в России, но и во всем мире, наверняка ошивается много всякого народу, светиться перед которым совершенно не обязательно, удержала его от этого шага.
Глава 11Утром 31 августа Горький встал как никогда поздно. В своем кабинете он попил чаю, велел никого из просителей не принимать и, преодолевая слабость, вызванную обострением чахотки, принялся – в какой уж раз! – перечитывать страницы рукописи повести… или романа? – он сам еще не решил… начатой давно, но подвигающейся вперед медленно и со скрипом.
Написанное ему не нравилось по многим причинам, и главная – оно не отвечало безобразной действительности, которую не могли предсказать лучшие умы российской интеллигенции. Да, Февральская революция 17-го года, встреченная им, Горьким, с восторгом, скинула закостеневшую и опошлившуюся монархию. Да, революция дала русскому народу долгожданную свободу. И что же? А то, что этой свободой воспользовался не народ, а темные силы, выплеснувшие на поверхность неуправляемую стихию, зараженную микробами ненависти как раз к тому слою российского общества, который представляет мозг и душу этого народа. К этому слою относил Максим Горький и самого себя.
В действительности все пошло не так, как виделось ему, когда он брался за тему зарождения и развития капитализма в стране, где душилась всякая инициатива энергичных и талантливых людей, а доброе дело поворачивалось к этим людям своей изнанкой, провонявшей навозом, зипунами и расшитыми золотом лакейскими ливреями.
Последовавший вслед за Февралем Октябрьский переворот, организованный большевиками, превратил плавное течение российской истории в гигантское половодье, разрушающее на своем пути все, что было создано минувшими поколениями. На этом фоне характеры и устремления героев будущей повести… – или романа? – казались мелкими, их поступки едва затрагивали глубинные процессы, происходившие и происходящие во всех слоях российского общества. А главное – они не отвечали на вопросы, почему именно в России произошло то, что произошло? Хотя в реальной действительности ответы на эти вопросы лежат на поверхности: российская интеллигенция оказалась неготовой к случившемуся, она разделилась на мелкие партии, группы и группки, неспособные понять друг друга, чтобы противостоять анархии.
Не осознав всего этого, невозможно написать… все-таки, пожалуй, роман, в котором зарождение капитализма в России потребует углубленных доказательств его неизбежности, его способности к постепенному сближению интересов всех социальных групп, избегая потрясений, взаимной ненависти и крови. В то же время необходимо показать и те подспудные течения, которые толкали часть общества в совершенно другом направлении, проявившиеся сегодня во всей своей жестокой силе…
Горький закурил очередную папиросу.
Настроение было – паршивее некуда. И не столько из-за повести, – ее-то можно переделать! – сколько по причине происходящего, на которое повлиять он не в силах.
Все, что было задумано и создано незадолго до Февраля и после, все это пошло коту под хвост: литературный журнал «Летопись», издательство «Парус», основанные его стараниями еще в 1915 году, закрыты правительством Ленина; «Комиссия по делам искусств», организованная совместно с художниками Александром Бенуа, Николаем Рерихом и Мстиславом Добужинским сразу же после свержения царя, бездействует, как бездействует «Свободная ассоциация для развития и распространения положительных наук», призванная объединить российских ученых, а задуманный «Союз деятелей искусств» так и не был создан. Наконец, 16 июля была закрыта большевиками издававшаяся им, Горьким, с апреля семнадцатого года независимая газета «Новая жизнь». В ней Горький призывал российскую интеллигенцию внедрять культуру в сознание русского народа, без чего невозможно устроить действительно «новую жизнь», в ней он разоблачал намерения большевиков во главе с Лениным произвести в России пролетарскую революцию, чтобы затем распространить ее по всему миру.
Наконец, именно в его газете соратники Ленина Зиновьев и Каменев поместили сообщение о том, что ленинцы готовят вооруженный захват власти в Петрограде. Они убедили Горького, что Ленин отступится от своей авантюры из опасения, что Временное правительство, предупрежденное о готовившемся выступлении, сумеет пресечь намерение авантюристов. Сам собою напрашивался вывод, что Зиновьев, Каменев и другие их единомышленники с самого начала не верили в реальность переворота, в реальность создания общества и государства на основе примитивных рассуждений Маркса. Более того, их вполне устраивала оппозиционность по отношению к Временному правительству, их устраивала социальная форма общественных отношений, возникшая после Февраля, как она устраивала и самого Горького. А коли переворот все-таки произошел, Зиновьевым и Каменевым ничего не остается, как зверствовать для удержания власти над обманутым народом.
Горький тяжело поднялся из-за стола, подошел к окну, растворил его и долго стоял, вдыхая свежий ветер с Финского залива, вглядываясь в густую зелень Александровского парка, над которым маячил вдали острый шпиль Петропавловской крепости.
Тяжело вздохнув, он вернулся за стол. Огляделся, точно видел свой кабинет впервые.
Совсем недавно здесь собирались ученые, писатели, поэты, художники. Спорили до хрипоты, как лучше обустроить Новую Россию… Пустые споры, пустые хлопоты! Улица оказалась сильнее. Ей не нужны ни ассоциации лучших российских умов, ни союзы чародеев изящной словесности, ни издательства, ни книги, ни газеты. Улица вполне обходилась и обходится листовками, над которыми не нужно ломать голову: «Земля – крестьянам! Заводы и фабрики – рабочим! Мир – народам!» Чего проще? А как без технической интеллигенции реализовать на практике эти лозунги, как без творческой интеллигенции внедрить в сознание народа настоящую культуру, преследуя всю и всякую интеллигенцию, – об этом ни слова.
«Главное – ввязаться в драку, а там будет видно, что делать дальше», – помнится, именно так рассуждал Ленин, побывав как-то на Капри в гостях у Горького. Говорил, совершенно не задумываясь, во что может вылиться завязавшаяся драка, которую он пророчил в ближайшие десятилетия. Он, видите ли, в книжках вычитал, как можно поднять народ – любой народ! в любой стране! – на дыбы, чем разъярить его инстинкты. В его рассуждениях рабочий класс представлялся чем-то вроде сырой руды для металлистов, из которой он и его присные хотели выплавить нечто уродливое, противоречащее исторической необходимости.
И вот – народ на дыбы поднят, инстинкты разъярены до крайности и направлены не на созидание, а на разрушение, рабочий класс оставил заводы и фабрики, оставил голодными свои семьи и взялся за винтовку. А что дальше? Чем все закончится?
Алексею Максимовичу очень хочется, чтобы закончилось падением большевистского правительства Ленина и Троцкого. И для этого имеются веские основания: англичане совместно с американцами захватили Архангельск – в городе создано Верховное управление северной областью; немецко-австрийские войска оккупировали Украину, признав ее независимым государством; мятежный Чехословацкий корпус занял Симбирск, Казань и Екатеринбург, где за неделю до этого была расстреляна царская семья; англичане захватили Баку, американцы – Владивосток; в Минске создано независимое государство – Белорусская Народная Республика. Независимыми государствами объявили себя Грузия, Азербайджан и Армения.
Казалось бы, вот-вот должна рухнуть большевистская власть и в Москве. Но она все еще держится, сумев подавить восстание левых эсеров, усилив репрессии против собственного народа.
Так и не написав ни строчки, искурив – одну за другой – еще три папиросы, Горький зашелся долгим лающим кашлем, отхаркиваясь в кувшин с высоким горлышком, отирая вафельным полотенцем холодный пот с осунувшегося лица.
На его кашель в кабинет заглянула Варвара Тихонова, женщина лет тридцати пяти, с приятным лицом, на котором особенно выделялись широко распахнутые карие глаза, в которых отражалась мука сострадания к великому человеку. Варвара добровольно взвалила на себя широкий круг обязанностей при чахоточном писателе после разрыва его с Андреевой и развода самой Варвары со своим мужем, соратником Горького по издательским и прочим делам. Варвара готова была терпеть любые муки, лишь бы быть полезной обожаемому Алеше, всеми покинутому, лишенному женского тепла и ухода.
Правда, здесь иногда появляется Мария Закревская, выдающая себя за баронессу, к которой Горький питает давнишнюю слабость, часто забывая обо всем и обо всех. Поговаривают, что она появлялась и на Капри, внося разногласия между Горьким и Андреевой, ускорив их разрыв. Дама эта, вызывающе красивая, умная, владеющая языками, наглая – по мнению Варвары – до невозможности, без зазрения совести пользуется слабостью Алексея Максимовича к женскому полу. При этом она путается со многими известными людьми, сходясь то с одним, то с другим, то с третьим, ничуть не скрывая своей развратной сущности. В нее, говорят, без ума влюблены французский писатель Ромен Роллан и бывший английский посол в России Локарт. И будто бы Алексею Максимовичу об этом хорошо известно. Между тем у нее на Кронверкском своя комната, где она останавливается на короткое время. Питерские чекисты дважды проводили в ней обыск в поисках оружия и запрещенной литературы, но так ничего и не нашли, зато всякий раз заставляли оскорбленного Алексея Максимовича обращаться к Ленину в надежде на защиту от произвола Зиновьева и его клики.
Увидев входящую в кабинет Варвару, Горький замахал руками, тяжело дыша, не в силах произнести ни слова, страдальчески глядя на свою опекуншу.
Не обращая внимания на протесты своего подопечного, Варвара усадила его на диван, высыпала в стакан из бумажного пакетика порошок, развела его кипяченой водой, заставила выпить, приговаривая:
– Ты, Алешенька, в этом сыром Питере доведешь себя до кровохаркания. Уезжать тебе отсюда надо. И как можно скорее. Зиновьев-то со своей бандой тебя в гроб загонит. Тем более что всех писателей и ученых от этих убийц не спасешь, за всех не заступишься, всех не накормишь. И денег-то на всех не напасешься. Продукты все дорожают и дорожают, зиновьевцы продукты распределяют между своими, положение рабочих их не волнует…
– Ну, полно тебе, Варюшка, полно, – хрипел Горький, продолжая задыхаться. – Не все так уж плохо, дорогая моя. Тем более что других-то, кто может заступиться за наши русские умы и таланты, кроме нас нету. А люди науки, искусства – люди беззащитные, беспомощные. Помочь им, вырвать иных из лап озверелой питерской Чека – наша святая обязанность. Уж коли так вышло, что большевики со мной пока еще считаются, этим надо пользоваться. Вся надежда, что они долго не продержатся. Сама знаешь, как мне тошно и унизительно кланяться то Ленину, то Зиновьеву, то Дзержинскому, то Луначарскому, то еще кому-то из этой банды. Так-то вот, дорогая моя нянюшка.
Горький, женатый трижды, но лишь однажды законным образом, никак не мог обходиться без женщины, понимающей его предназначение в этом мире, способствующей это предназначение исполнять наиболее полно. Варвара вполне отвечала этим качествам. Но главное – ее не пришлось разыскивать в толпе его поклонниц, она будто стояла за дверью в ожидании, когда придет ее черед занять освободившееся возле него место.
– Отдохнуть, Алешенька, тебе надобно, – ворковала Варвара. – Лучше всего в Италии: там климат хороший, подлечишься. И никто мешать тебе не станет. Здесь – я-то вижу – не пишется тебе. А ты ведь писатель от бога. Таких нынче днем с огнем не сыщешь по всей России. Да и в Европе тоже. Зато там тебя ценят. А писать письма хоть бы тому же Ленину – пусть этим занимаются Андреева и Крючков. ПеПеКрю – мужик хваткий, с подходцем. Он и к Урицкому вхож, и к Дзержинскому. Правда, Зиновьев его терпеть не может, так он и тебя ненавидит, завидует твоей популярности. Не дай бог, упечет тебя в Кресты – с него станется. А там – с твоим-то здоровьем…
– Полно тебе, полно, ангел мой, – вяло отбивался Алексей Максимович. – Руки у него коротки…
Он откинулся на спинку дивана, устало смежил веки. После долгой паузы спросил:
– Как там у нас?
Варвара лишь пожала плечами: мол, не ее это дело – следить за жильцами большой квартиры.
– Да как всегда: кто встал, а кто не поймешь чем занят, – ответила она.
– Да, что-то я хотел спросить у тебя, – начал Горький, потирая лоб длинными пальцами. – Впрочем, это неважно. У тебя, наверное, и без меня забот полон рот… – продолжил он, но в дверь постучали, она чуть приоткрылась, заглянула горничная, молодая женщина с бесхитростным лицом, в цветастом переднике и белой косынке.
– Ах, прощения просим! – произнесла она нараспев. – Обед-то куда подавать? Сюда аль в общую столовую?
Варвара, опередив Горького, ответила неожиданно твердым, почти мужским голосом:
– В общую. И, будь добра, позови к столу всех.









































