Текст книги "Исчезнут, как птицы"
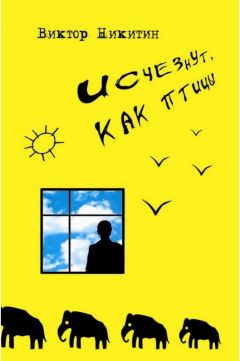
Автор книги: Виктор Никитин
Жанр: Жанр неизвестен
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 10 (всего у книги 35 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
Часть вторая
Глава пятнадцатая
Жизнь, как выпавший на крышу снег
Валентин Степанович Пальчиков вздрогнул. Утро неприятно кольнуло его в небритую щёку, защекотало в носу: чих! чих! – мелко, стыдливо, сусликом этаким, будто стесняясь наёмного убийства… Чего-чего?.. Как в фильме каком-то, – очень похоже на выстрелы, оплаченные трусливой необходимостью: где-то за мусорными ящиками, в проходном дворе, оглядываясь по сторонам, часто сморкаясь в носовой платок, – вдруг заметят? В грязном светлом плаще – вот как эта скомканная простыня.
Сон был нелепый, даже какой-то злодейский, что никак не соответствовало внутренней сущности Валентина Степановича, – себя он считал мягким и добросердечным человеком, случалось ему бывать и тряпкой… Он переменил щёку на подушке и шумно вздохнул. Нет, всё равно неловко – и непонятно. Ему не должны сниться такие сны.
Проснулся – как в темноте своего сознания отгулял. Как отыграл роль. Но не свою, – чужую. Действительно, кино. Ещё и такое неловкое: несоответствие внешнего облика актёров их ролям, как если бы щуплый нагонял страх, а слепой – метко стрелял. А он был невысокого роста, плотного сложения и брюшко своё, весьма заметное, часто поглаживал руками, – для него оно было как драгоценный сосуд, амфора, найденная на дне никому неведомого океана, вмещающая не только выпитое, но и съеденное, заталкиваемое туда почти насильно. Или сундук. И вот пробуждение Валентина Степановича – поднятие со дна этого океана (на поверхности лопающиеся от нетерпения бульки, раскрытые рты) тяжёлого, покрытого ракушками сундука. Волнуясь, вскрыли его, позеленевшего, а там…
Пришла полоса свежести, законных и отрадных перемен, оконное стекло выгнулось и зазмеилось радужным переливом: трамвайный звонок, скрежет металла, визгливый поворот вагонов, подробный отсчёт стыков, наглая возня воробьев рядом с неизвестным человеком в плаще, скандальный делёж невидимых крошек уже на его плече, наконец, утро ткнулось солнечным взглядом в комнату – и ушло смурное.
Кто это был? «Вот уродство-то», – подумал Валентин Степанович. Перебрал, явно перебрал вчера. Почти насильно заталкивал. Зачем? Пронеслось в голове, за зря пропавшей в чужом сне, и вскинулось перед часто заморгавшими глазами, дохнув жёстким, сумбурным веером: вино, водка, икра, коньяк, пиво, сауна – несколько слов из словаря ответственного работника, выпущенного к торжественным датам, к тому же ограниченным тиражом, все такие же как он собрались, свои, ответственные, самые связанные по работе… Но не стал Валентин Степанович вспоминать. Сухо во рту, в желудке скользко (перекатывалось там что-то, падало и вновь вставало), а ноги трусятся и кричат снизу: держись! крепись!
Он прошёл в туалет и, покуда неисправный сливной бачок заводил свою гнусную песню, шедшую в разрез со всё более набиравшим силу утром (о, как оно было неподобающе разгульно!), сидел там и думал, обхватив руками свою непослушную голову и ввинчивая её в обязательную резьбу трудового дня, утра окончательно обнаглевшего: шум стоял такой, что показалось Валентину Степановичу будто оказался он сдавленным в тесноте вагонного туалета, а вагон этот – в составе поезда, спешащего в тревожную неизбежность, – думал, думал и об этом каждодневном поезде, заплёванном, зашарканном перроне, дорожной неразберихе, путанице с билетами, еде в дорогу, о том, что не тот билет ему достался в жизни, – так ясно это вдруг стало и сразу же померкло, ушло (в дверь коротко стукнули, спугнули), но что-то вернулось и очень крепко теперь сидело в нём, знать бы что, головы всё ещё не было, вчерашние осколки, кто их теперь склеит, но размышлять хотелось, хотелось понять себя, ругать себя и наконец-то заявить, почти взорваться: ненавижу пьянку, ненавижу обжорство, ненавижу…
– Скоро ты там?
Голос жены. Нежный, заботливый, обеспокоенный, раздражённый, злобный? Какой? Снова пища, еда, жратва. Дым. Чад. Огонь. Жирный запах. Подгоревшая корка. Есть, рвать зубами, глотать и с огорчением думать, что с головою у него явно не в порядке, в огороде бузина, а в Киеве дядька, который всё это должен съесть.
– Уснул что ли?
Сейчас, дорогая, сейчас, родная, зараза, что ж ты от меня ещё хочешь, кровь мою последнюю выпить?
– Эй!
Думал громко, отвечал тихо.
– Иду.
Кухня была рядом. Но ещё Валентин Степанович зашёл в ванную комнату, закрыл за собой задвижку и пустил воду в раковину. Боковым зрением поймал юркнувшего в кучу нестиранного белья скользкого чёрного таракана, потом перевёл глаза на настенное зеркало с глубокой трещиной в углу и встретился с раскосым выражением полного, словно обваренного кипятком лица. Явное неудовольствие на нём или лёгкое недомогание – поди разбери после вчерашнего и поза… поза… позади было время встряски и расслабления. Нельзя так терять своё лицо. Он взялся за подбородок. Надо было побриться.
– Да где ты там пропал?!
Боже мой! Неужели у неё такой голос? Двадцать пять лет совместной жизни. Куда всё подевалось? Грудь, ноги, глаза, улыбка… Насмешкою нам что ли жизнь выходит? В институте ещё когда учился, молодым был, товарищ там один стишки писал, Пальчиков такие строчки запомнил: «талию гладил и плечи в бреде, как бешеный зверь. О, как сознанье калечит всё, что я вижу теперь!» Не к ней ли относятся? А сам, сам-то каков! Вот беспристрастный судья и его приговор: лицо брезгливое, словно потерпевшее в чём-то. Спросить себя: каким меня люди видят? (Да кто ответит?) Как меня ещё терпят… Такое лицо надо оставлять дома. А с каким выходить? Маску себе что ли купить? В предновогодние дни смело можно ходить. Сочтут за шутку. Маска добродушного медведя или снеговика. Рот до ушей. Хохотун. Симпатяга.
– Я же тебя ждать не буду!!
Не успел Валентин Степанович надеть маску и вышел какой был: с мокрым лицом, чуть осевший назад, чуть больной, сомневающийся. На работу он не боялся опоздать, у него была такая работа, что он мог неторопливо посидеть за столом (самым печальным этим утром стало вдруг верить в ложные обязанности) и машинально подносить ложку или вилку ко рту, не глядя на тарелку, – сегодня утро давало ему другую пищу, которую легче было пережёвывать, но труднее переваривать, – так она была внезапно обильна и щедра к весьма сомнительному своей ненасытностью аппетиту тревоги.
Спешила жена – хотя она не работала. И даже вместе им незачем было подгонять время мнимыми задержками, – никуда они не уезжали. Поезда, кроме того, что свистящим вихрем, в коем череда окон – годы, прошумел в голове Валентина Степановича, обдав его многолетней, скрытой тоской, – случайное, досадное сравнение, всё же как-то относящееся к прозрению, – больше не предвиделось.
Её спешка вытекала из того положения, которое она занимала в доме, и требовала ежедневного, ежечасного (тут речь больше не о стирке и готовке, а об опеке) и даже ежеминутного оправдания принятой на себя однажды (двадцать пять лет тому назад) заботы о поддержании порядка в семье, что было совсем нелегко, имея в виду ее всегдашнюю неуспокоенность, вырастающую до открытого недовольства, и тихую, близкую к ограниченному довольству, леность её мужа в домашних делах, и стало быть раздражения тут никак было не миновать, причиной её нудных проповедей в его адрес, воспринимаемых им на слух при полном забвении (да и не дай бог вдумываться!) смысла, произносимых как «та-та-та-та» какого-то захлёбывающегося пулемета, заправленного бесконечной лентой и поливающего толпы штурмующих его людей, хотя ничего он, Валентин Степанович, не штурмовал и даже не оборонялся, – так вот, причиной её нервных аффектаций был уже просто внешний вид Валентина Степановича, бывшего ниже жены почти на голову, который свидетельствовал не об энергии творца и добытчика, занятого поиском чего-неважно, а более всего представлял собой какую-то обездвиженную размазню в болячках и тапочках. Но себя таковым Валентин Степанович не видел и не считал. Это был всего лишь взгляд свысока его недовольной жены, знающей к тому же не то, что нужно и не совсем понимающей, чем определяется действительное положение вещей, и если бы она могла мягко, без направленного на людей пулемёта, пораспросить некоторых, более осведомленных о другой стороне его жизни, чем она же со своим весьма поверхностным, пренебрежительным и скорее давно привычным к ней отношением, то вышло бы, что та, вторая сторона, связанная с его работой, никоим образом не может быть привлечена к первой, вялой и боляще-тапочной, а более всего сообщит о его, Валентина Степановича, твёрдости, всеохватности зрения и способности быть в курсе происходящего на производстве, граничащей с некоторой таинственностью.
Их совместная жизнь тратилась мелкой монетой. Долгие годы придирок приучили к скупости чувств. Последнее время они часто скандалили, – ну он-то молчал, – или так всегда было, а он раньше не замечал этого, отвлекаемый от прямых столкновений ещё и присутствием детей. Дети выросли и разъехались кто куда, создавая свои семьи, и теперь возникал вопрос: а стоило ли дальше тянуть эту лямку? Двое в трёх комнатах с вескими, основательно проросшими неудобствами. Что дальше? Когда-то Валентин Степанович был молод и даже лёгок в движении, несмотря на присущую ему с детства комплекцию. А теперь стал уставать, – медленно расклеивался, медленно растекался в то, чем жена называла его, словно заканчивалась гарантия его успешного пользования, и он вырабатывал свои ресурс.
Он вошёл в кухню. В приоткрытую створку окна утро голосило на послепраздничные, не совсем ещё вернувшиеся к будням лады. Радио встречало Валентина Степановича прохладой. Струя несомненного лета сначала била его открытой, звонкой перчаткой в голову, а потом уже наполняла кухню и дразнила почти бездыханного Валентина Степановича, щекотала ему ноздри. Радио играло так громко, что чесалось тело.
– Окно закрой, – попросил Валентин Степанович жену. – Прохладно что-то.
– Жара какая!.. А ты – «окно закрой», – отозвалась она, продолжая греметь у газовой плиты сковородками, сначала одной, потом другой, а также кастрюлей, ножом, мясорубкой, открывалкой, немытыми тарелками, ложками, вилками, банкой из-под компота, майонеза, варенья, мёда, огурцов, помидоров, капусты, трамваем, мотоциклом, птицами, собакой, очередью у магазина, голосами прохожих, школьников и детским садиком неподалёку.
– Я же!.. – попытался вырасти и побагроветь Валентин Степанович…
– Что? – во внезапно наступившей тишине спросила жена.
… и не смог, молча сел за стол. Есть было практически невозможно. Самая мысль о еде была уже преступлением против рассудка. Только пить и пить – воду, и тем самым признавать, что чувство жажды – есть обострённое чувство жизни, находящейся где-то рядом, к которой приближаешься с каждым глотком. Тяжесть в желудке дрогнула, потревоженная водным потоком, заскользила, теряя опору, и сдвинулась куда-то влево. Валентин Степанович напрягся, стараясь удержать равновесие (туда же, в ту опасную сторону, на выручку побежали, посыпались невидимые внутренние человечки), и не сдюжил, вдруг расслабившись, негромко трыкнул, словно принуждённо мстя кому-то и к тому же делая чрезвычайное облегчение себе, тем самым вдруг становясь на порог сугубо индивидуального удовольствия.
Жена Валентина Степановича была дородной женщиной, втиснутой в платье, ставшее сразу же узким, как только его пошили; её сдобная плоть вываливалась кусками буквально отовсюду и заставляла Валентина Степановича думать о жене, что ничего человеческого в ней не осталось, только женское. А в нём, выходит, был избыток и мужского и человеческого.
Она обернулась от плиты и посмотрела на него с явным осуждением того, что так высоко забравшись для себя, он низко пал в её глазах, как падал всякий раз, когда громко прохрапев всю ночь, утром ходил в туалет – так же громко, как храпел, и если бы тогда он встретился с ней глазами, то прочёл бы в них не снисходительный укор, а открытое негодование. А так Валентин Степанович просто кашлянул, словно извинился и кто-то ещё развёл за него соболезнующими руками: ну что тут, поделаешь?
Солнце над ним откровенно смеялось: жёлтые зайчики распластывали по стеклу свои толстые губы. Ладно, ладно. Какой дерзкий, надоедливый шар. Валентин Степанович зажмурился. А раньше, бывало, в воду бежал, прищуренный от счастья. Взлетали радужные брызги, загорелые колени, гулко билось сердце, отзываясь в возбуждённых пятках, не боящихся прибрежных камешков. Потом куча мала, борьба в песке с противником, таким же пацаном, с собой, со своим смехом. Валя, айда на футбол! И пас сразу на ногу, и точный удар мимо бросившегося навстречу вратаря. Головокружительное детство, беспрерывные, судорожные – а вдруг не хватит? – глотки вечного, сладкого лета и острый, холодный вкус тающего на губах мороженого. «Я сегодня целых три съел. А ты?» – «Я? Я – четыре». Бурлящий, неугомонный допоздна двор: «А Валя выйдет?» – хлопанье дверью, сбег по лестнице, вприпрыжку, с буханьем на площадках между этажами, распахнутый настежь подъезд, а там, на воле, сразу знакомые голоса, лица, лавочка у закрытого на замок подвала, в темноту которого всегда хотелось попасть, перебежавшая дорогу кошка, бензиновые пятна на асфальте, расчерченном на классы, воркующие голуби, кудрявые акации, похожие на карандаши тополя, велосипедные звонки, отражение голубого неба с белым, рыхлым следом реактивного самолёта в большой луже, ставшей морем, по которому плывут пиратские корабли, прятки, считалки: шышел-мышел, к чёрту вышел, картошка, испечённая в костре, завершающем тогдашний день, равный где-то нынешним семи по новому, бедному на впечатления, взрослому обменному курсу. Жизнь в то время представлялась чистой, как только что выпавший на крышу снег, глянцевый блеск которого (чище гималайского) опушил памятную для Валентина Степановича фотографию: над ней у него безмятежное, преданное своему безответственному возрасту (лет двенадцать, не больше) выражение лица; широкий ворот белой сорочки, выправленный поверх воротника серого пиджака, разбежался вкруговую тогда уже плотной и короткой шеи и вытянулся вдруг улыбчивыми стрелками по плечам, доставая до самых их кончиков; лишь непослушный вихор, перечеркивающий открытые линии лба, словно перебегал дорогу угадываемой судьбе подобно чёрной кошке и указывал на некоторое предупреждение, возможный выверт. Тогда он был шалун и выдумщик. Из школы его едва не исключили за шалопайство. Была ещё одна фотография, сделанная разгорячённым скандалом родителем в весьма злопамятное сыну назидание, – никаких улыбчивых округлостей, настроение снимка далеко от великодушной игривости и возрастных послаблений: «Валя – вор!» – чётко выведено черной краской на белой картонке, висящей на нём позорным плакатом. Руки за спиной, взгляд какой-то скособоченный, понурый и губастый. Ремень – жгучий и беспощадный. Следствие одной нечаянной общественной забавы – шарить по карманам пальто своих одноклассников в раздевалке. Не один он такой был спортивный, а попался – один. Как? что? почему? – не до вопросов, хватай его, чёрта, – с зажатыми в кулаке пятнадцатью копейками, страхом, сердцем, бьющимся в припадочном ритме. Мокрые руки уборщицы держат крепко. Ведите его в учительскую, там с ним живо разберутся! И вот уже длинный стол, покрытый сукном, занятый локтями, блокнотами, пишущими ручками, а в дальнем конце его, под портретом, поднимающаяся фигура директора… Но обошлось, обошлось и скомкалось, как ненужный, досадный листок бумаги, выброшенный в корзину. Осознал. Присмирел. И вдруг распрямилось, развернулось чрезвычайным обвинительным заключением: новый, вопиющий случай, эхо которого к вечеру больно отдалось в ушах Вали (руки у отца крепкие, рабочие), – кто-то скрутил блестящие металлические ручки с классных шкафов и двери. Кто? – Валентин, конечно, вот он стоит (все обернулись) сзади и мнётся. Ну, Валя? «Я… Я… (Ошибка! Чудовищная ошибка! Но уже поздно. Следствие идёт по ложному следу, – так поезд сворачивает не на ту ветку, самолёт нарушает воздушное пространство другого государства, корабль нагло вторгается в чужие территориальные воды.) «Я… Я…» (Сети. Плотная, круглая рыба часто-часто раскрывает рот будучи выброшенной на пустынный, враждебный берег.) Ага-а… Признался! (Ну зачем, зачем мне они? Что я с ними буду делать?) Дома отец старательно расписывает чёрной акварельной краской плакат (кисточка при помешивании в воде хрустально звенит об край стакана), заряжает фотоаппарат… Тогда же в памяти Вали закрепилось, что по жизни надо идти в сапогах до колен, а он босиком в неё вошёл, так и думал по ней в благости пройти. После школы (ему всё казалось, что этот злополучный плакат висел на его шее до самых выпускных экзаменов), после школы институт – и вновь обещания, как в детстве прекрасной жизни, главным из которых было обещание свободного времени. Не в особый ущерб лекциям, но всё же очень активно он пользовался им в компании, составившейся весьма быстро из любителей нескольких общеизвестных острых слов, разухабистого смеха, ларькового пива, анекдотов с теми же словами, футбола, хриплого рёва «го-ол» в тысячи торжествующих глоток, кинокомедий, самых легкомысленных и в сущности пустых, «подкидного дурака», а для Вали отдельно ещё и шахмат, чего он несколько стеснялся, потому как фигуры на доске выглядели очень уж благородно и над ними надо было думать, музыки на заснеженном катке, сверканья коньков, коротких юбочек длинноногих фигуристок, тесных вечеров в общежитии, танцулек под радиолу, ночных шатаний под гитарные переборы, похмельных утренних подъёмов, смело приравненных к романтичным пробуждениям, – всего того, что каким-то непонятым образом составляло круг так называемой студенческой жизни, больше похожей на неуправляемую вольницу, всё шире захватывающую обязательные часы в жизни всякого, кто легко относится ко времени, будущий ход которого не очень-то хотелось рассчитывать, – на то и молодость нам дана, считал Валентин Пальчиков, чтобы было что вспомнить и над чем посмеяться. Смеялись, однако, над ним. Смеялась одна. Девушка из параллельной группы. Ей не было нужды представлять что-то смешное. Она видела перед собой то, что в ней вызывало неудержимые приступы смеха. Валя недоумевал: почему? что в нём такого смешного? А она хохотала, едва завидев его, отчего он очень конфузился. Возможно, что повод имелся и её взгляд находил в нём чем поживиться: к тому времени он был довольно-таки плотный студентик, лихой вихор на его лбу чертил кудрявые планы дальнейших увеселений. Подходящая мишень для упражнений в остроте языка, если бы не собственные габариты неожиданной хохотуньи, которая выглядела очень уж взрослой женщиной, этакой бабой, словно бы родившей и воспитавшей трёх, а то и более детей и от постоянных жизненных нагрузок обретшей монументальные формы. «Девушка с веслом» – это бы ещё мягко сказано было, если бы кто-то решился так пошутить ей в лицо. Шеи нет. Сразу голова – как льготный шар ныне в «Спортлото» выкатывается. Грудь – неохватный, заимствованный символ, дыхание матери-земли; с такой грозной поверхности должны были падать, напрасно за неё цепляясь, редкие смельчаки – но таковых не находилось. Коса за спиной – тяжёлая, золотистая. Песня девичья, степь привольная. Летний сон. Жаворонки в полдень… Зимой чёлка непокорная из-под мужской ушанки выбивается. Бой-баба. Она и впрямь обладала силой, несвойственной женской натуре, и некий студент с Полтавы вполне серьёзно повествовал Валентину Степановичу (тогда ошарашенному Вале) о том, что она, «якая дивчына», одному «гарному хлопцу» этой самой косой взмахнув, выставила белоснежный передок, гогочущий над ней, так что он, беспечный насмешник, растеряв весь свой задор, только и прошамкал, опешив: «Жа што?» Больше над ней никто не смеялся.
Вот она идёт по коридору общежития. Навстречу ей Валя. Сюда он зашёл после занятий, чтобы взять конспект у друга, которого не оказалось на месте, – он где-то рядом, его только что видели или не видели уже месяц, он зашёл в соседнюю комнату, спустился на этаж ниже, собрался в столовую, баню, уехал к тёте в деревню, теперь блуждай по коридорам, ищи его и находи себе заботы, ЕЁ, всегда готовую отмочить номер, до ужаса любящую такое неожиданное слово «вдруг». Вдруг. Она. Поравнявшись. С ним. Шепчет. Ему. Ласково. «Цыпа». И он пропадает в её неожиданном смехе, покрываясь красными пятнами досады, стыда, возмущения, и тем самым теряясь в непонятном ему унижении. Что же это такое, а? – спрашивал себя Валя, потому как спросить больше некого было, друзья тоже начинали похахатывать над его с ней – кто же это такое сочинил? – отношениями. Но не было никаких отношений. Он даже не был с ней знаком. Однако вскоре всё разрешилось самым банальными и тупым до безобразия образом.
В автобусе. На задней площадке. Там им пришлось столкнуться лицом к лицу в торопливой людской сутолоке. Не повезло. Ужасно. Валя сразу узнал свою прежнюю обидчицу. Он так навязчиво и безуспешно тыркался по сторонам в поисках мало-мальски подходящего для себя стоячего местечка, своего рода закоулка, в который можно прошмыгнуть и там затаиться до нужной ему остановки, прижавшись к людской стене, что вызвал раздражённые замечания окружающих: «Да тише ты!» – и был замечен ею. Ему даже голову обожгло (а она была выше его ростом) от её радостного взгляда. «Ну вот», – печально вздохнул он про себя и сразу перестал бороться, опустил плечи.
Шум водопада. Тесное ущелье. Встреча на узкой горной тропе. Сзади обрыв, слева река, справа острые, голые скалы. Деваться ему было некуда. Он старался хотя бы не смотреть ей в лицо, зажмуриться, отвести глаза в сторону. Уже слышал он её короткий смешок – два сдавленных, нервных от предвкушения хохотка, лёгкая разминка перед редкостным по зрелищности и головокружительным по впечатлению представлением. Не смотрел. Не смотрел. Терпел. Одну остановку так проехал. И вдруг увидел в её глазах любопытство, доведённое насмешкой до глумления даже, пружину, взведённую до упора, словно он, Валя Пальчиков, был смешон не в связи с чем-то, а как есть, сам по себе, и как бы он не сидел, не ходил, не морщил лоб, закрывал глаза, открывал их, поджимал губы, говорил, не говорил, спал, читал, пел, ел, что бы не делал, – всё вызывало в ней безудержный, спешащий будто на расправу, смех, да ещё и приглашающий зрителей: «Все сюда! Скорее! Здесь так смешно! Ой, мамочка, не могу больше!» Необоримое удовольствие. То, что называется «забиться» и молотить воздух ногами, лёжа на спине. Гогот. Ржанье. Пальцы, тыкающие прямо в лицо.
Непонятно. Стыдно и противно. Валя сделал попытку освободиться. Тщетно. Еще раз: всё-таки поворот влево, немного плечом вперёд, нащупывая путь, тонкую нить, по которой – нога в ногу, робкими шажками, без балансира… Что-то не пускало. Ну? Скорее. Сейчас хлынет поток и зальёт его красной краской…
Пиджак. Теперь попятно. Пуговица на его пиджаке зацепилась за сетку в её руке – что там? картошка? морковка? – или это сетка зацепилась за злополучную пуговицу и не отпускала Валю Пальчикова на свободу. А ведь ему уже выходить скоро. Через остановку. Пассажиров становилось всё меньше, а сетка – всё агрессивнее, хохот нахальнее. Она едет с рынка, в общежитие. Я – домой, из института. Что же мне делать? – решал Валя. Ухватиться за компостер, дотянуться и разбить молоточком стекло, как раз аварийный случай, дёрнуть за шнур, кольцо, нажать кнопку над дверью и дозвониться до водителя, наконец, подпрыгнуть и попытаться открыть люк. Тяжко. Невозможно. Бред какой-то. Становилось душно и пыльно, а тоскливо было уже давно. Её близкое дыхание – тяжёлый груз ему на плечи. И ещё: противные использованные абонементы под ногами, шелуха семечек… Парень с девушкой, сидевшие напротив, щёлкали эти семечки и обменивались впечатлениями, глядя на изнурительную борьбу Валентина Пальчикова с бездушным механизмом, – разве можно было назвать её женщиной, человеком? Это была какая-то пагубная сила, воплощение страсти к насилию и слепому разрушению. Нет порядка. Не было – и не будет!
Он дёргался, тихо свирепел, стряхивал сетку, отгонял её от себя, словно у неё были впившиеся в него зубы и вовсе это не сетка была, а собака, только такая, которой говорят не «фу!» – а почему-то «кыш!» Как же так? Разве можно без намордника?
Люди выходили и входили. Выходили всё больше, входили – меньше… Странно они выглядели в полупустом уже, тряском двойном автобусе, на середине поворотного круга, в самом центре «гармошки», когда, казалось, можно было отойти друг от друга, найти себе место, сесть или стоять вполне независимо, взявшись за поручень. Однако, сетка держалась за Пальчикова крепко. Он сопел и отбивался от неё, подпрыгивая и шатаясь на ухабах, под неумолчный хохот её хозяйки. «Она сумасшедшая! – заметался Валя. – Или я идиот?» Стиснув зубы (береги их, «цыпа», береги!), он рванул на себя сетку. Он ничего уже не соображал. Понимания, казалось, не было и в головах немногих присутствующих рядом, иначе как объяснить то, что никто из пассажиров не возмутился и не обратил должного внимания на эту тягостную и бессмысленную сцену?
Выходить им пришлось вместе, у общежития. В дверях, толкаясь и загнанно дыша, он с трудом расцепился с ней, спрыгнул на асфальт. Её окликнули: «Вера!» Девушки под металлическим козырьком остановки. Они засмеялись. «Валя!» – ещё услышал он, обернулся и увидел друга, того самого, с конспектами. Все посмотрели на Пальчикова очень радостно, словно были они ему и друг другу закадычными друзьями, договорившимися встретиться этим прекрасным летним вечером и хорошо провести время, а вот он запаздывал, только его и ждали, Валюшку этакого… Он смутился и, не дожидаясь обратного автобуса, быстро и смешно зашагал в сторону дома.
Дальше – хуже, хотя хуже уже быть не могло.
Пик развития таких неказистых отношений пришёлся на окончание института. Последней звонок, прозвеневший зимой на пятом курсе, возвестил начало свободной дипломной жизни, как будто студенческая жизнь до того для Вали и его приятелей была излишне отягощена сплошь только нудными обязанностями. Вечер того же памятного дня Валя со своей группой договорился отметить основательной вечеринкой в общежитии. У него было праздничное, под стать громкой музыке и возбуждённым, смеющимся голосам, доносившимся почти что из-за всех дверей на этаже настроение, когда он, возвращаясь из туалета, – всего-то пять шагов оставалось сделать до обшарпанной, когда-то белой двери, за которой в табачном дыму заседала их компания и его ждал собранный в складчину стол, заставленный бутылками, рыбными консервами, жареной с луком картошкой, солёными огурцами, квашеной капустой, салатом под майонезом, копчёной колбасой, нарезанной глазастыми от белого жира кружками, – свернул в коридор и вдруг столкнулся с так же, как и он, нетвёрдо стоящей на ногах, и очень как-то неприятно радостной Верой. «Цыпа ты моя!» – всё тем же непонятным ласковым голосом произнесла она и потянулась к нему, раскинув руки для несомненного сердечного объятия. Резкое чувство обиды захлестнуло было ему горло, прочищая его для ответного объяснения, оправдания, наконец, возмущения! – но ничего он высказать не успел и оказался плотно прижатым к словно густым клеем вымазанной зелёной стене, цвет которой местами переходил в тяжёлую синеву. Одной щекой Валя ощущал её холодное дыхание, а другую ему обдавало горячее и дивное Верино: в нём были напор и обещание томления, широкая кровать, огромные подушки, непроницаемые шторы на окнах, обстоятельный, доведённый до струнки порядок в доме, наваристый борщ с добавкой, тефтели, яблочный пирог в праздничные и иные выходные дни, выстиранное бельё на верёвке, протянутой через комнату из угла в угол, потому что балкон уже занят, там некуда ногу поставить от всяких годных вещей, – и много-много детей, как закономерный и блистательный итог. Они у него уже шевелились внизу живота и тонко пищали – так крепко Вера давила, увлекая его в сторону. Она лезла целоваться, а ему хотелось шпротов в масле, совсем рядом они были, за дверью, – очень уж приятно они дымком попахивали. Как же ему не повезло! Там уже песни пошли. «По До-о-ну гу-ля-а-ет, по До-о-ну гу-ля-а-ет!..» – с натугой разворачивались тяжёлые и мокрые голоса.
Ребят что ли на помощь позвать? Её увидят. Засмеют. Не справился. Позору не оберёшься. «О чё-о-м де-ва пла-а-чет…» – тянул, словно из неудобного, узкого горлышка пил, раскачивающийся, хмельной женский голос. Как же быть? «О чё-о-м де-ва пла-а-чет…» – вступала подружка. Хладнокровие и выдержка против стального захвата. Это не сетка, тут «кыш!» не скажешь. И мужики всеми подхватывали: «О-о чё-о-ом де-ва пла-а-чет!..» Из-за двери шёл блуждающий гул, а у Вали Пальчикова на глазах блестели слёзы.
Тусклая, пыльная лампочка где-то впереди, одна на весь коридор, прятала эту невыносимую сцену не только от взглядов посторонних свидетелей, которых к счастью – или к несчастью? – не оказалось рядом, но и от самих участников бессмысленной возни.
Он слабо сопротивлялся, пытаясь уйти от буйных проявлений непонятных ему, неизвестно чем спровоцированных для него чувств. Медленно отступая вдоль стены с тяжким грузом любви на себе, он добрался до спасительной, такой желанной в эту минуту двери и тут, как оказалось, совсем пропал, – это была не та дверь. Он ошибся! Он чудовищно ошибся! Потерял ориентацию, разум, а теперь уже и честь… Она это почувствовала и прижалась к нему покрепче, – Валя держись! – потом крепче, – надо вырваться, непременно вырваться! тут медлить никак нельзя! – и ещё крепче, и не сдержался Валя: распахнулась, вышибленная ударом её ноги, дверь; подламываясь в ногах, он попятился в чёрный провал незнакомой, пустой комнаты, и там его испуганное тело приняла расшатанная койка, дружно лязгнувшая всеми пружинами сразу.
В ту безнадёжно глупую и непоправимую ночь, больно и нескладно обнимая друг друга, они задушили любовь, которой у них не было ни тогда, ни после, а тем более в данную минуту, на кухне, залитой беспечным солнечным светом, где она, двадцать пять лет уже как Вера Пальчикова, стояла у плиты, спиной к нему, и слёзно нарезала лук. Никаких неожиданностей. Кто теперь вспоминает о словечке «вдруг»? Оно – ужасно. Правда, огонь в её глазах иногда бывал, но на нём нельзя было вскипятить хотя бы кружку молока.
«Что ты в ней нашёл, а?»
Что он в ней нашёл? Легко было назвать его бедным, но это ничего бы не объяснило. Откуда он знал?
Была пионервожатой. Дудела в трубу – «горнила». Приходилось ей и в барабан бить. Ходила в походы. Плясала у костра. Пела: «То берёзка, то рябина…» Хохотала. Поступила в институт…
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































