Текст книги "Исчезнут, как птицы"
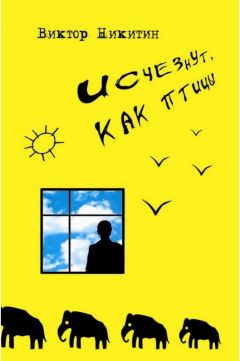
Автор книги: Виктор Никитин
Жанр: Жанр неизвестен
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 35 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
Глава третья
Пыльный натюрморт и борщ в океане
В столовой было людно. Пахло уставшим жариться и откровенно горелым. На раздаче дымились кастрюли и котлы. За клубами дыма призраками сновали поварихи. Звяканье ножей, вилок, ложек; пуск пара – напряженный, почти паровозный гудок; обеденные, отбрасываемые подносами, стенами и столиками голоса. Лариса Медникова одна за столом, в углу (над её головой висел пыльный натюрморт с дичью, что-то от фламандцев); склонившись над тарелкой, она черпала борщ.
– У вас свободно? – спросил Гостев.
Она вздрогнула, задержав ложку, взглянула вверх большими глазами.
– А-а, Юра! Как ты меня напугал!
– Ну, извини. – Он сел напротив, поинтересовался: – Как пища?
– Терпимо.
Он ложкой показал на «фламандцев» и сказал:
– Такого, как у них, тут не подадут.
– Я думаю… – неопределенно протянула она.
Она ела неторопливо; чуткими губами вытягивала с ложки бурую жидкость с капустой, делала маленькие глотки; скупо откусывала хлеб и, выпрямившись, разглядывала новых для себя людей. Гостев сидел спиной к залу. Глядя то на «битую дичь», то на мух, лесенкой взбирающихся по сгибу клеёнки, ссорящихся из-за крошек хлеба, он думал, что бы ещё ей сказать? Вспомнил:
– Тут работал… – Он назвал фамилию «друга».
– А-а, помню… И куда же он подевался?
– Не знаю, вот оставил меня в одиночестве.
– Почему в одиночестве? Сколько народу вокруг. Завёл бы себе нового друга.
– Легко сказать… Заводят собак, а друзей… – Он огляделся по сторонам. – Здесь только болезни можно себе завести.
– Какие болезни?
– Всякие. Например, вот от этого каждодневного борща.
– Ерунда.
Она отодвинула от себя пустую тарелку, принялась за второе.
– Да, ерунды тут много, – заметил Гостев. Он говорил просто так, несколько даже удивляясь, как складывается разговор; язык выставлял словам случайные отметки. Он был более свободен, привычен для самого себя в этой обстановке; новой для него была одна Лариса. Для неё же всё было наоборот. Ему приходилось цепляться за её слова, чтобы сказать что-то самому. А ей – в основном заниматься едой, в данный момент курицей. И выходило для них обоих, словно они занимались вялой, послеобеденной (у них обеденной) разминкой в теннис, чем-то вроде обмена ленивыми, чуть ли не застревающими в воздухе подачами. Гостев принял и повторил, как набил ещё раз, – неловко, необязательно:
– Много тут всякого.
– В каком смысле?
– В том смысле, что закончили мы институт, считая его временным мостиком к чему-то основному, перешли на другой берег и теперь основного этого не видим. Ты разве видишь? – Он не дождался её ответа. – Словно на чужой территории. Стоим и оглядываемся – не прогонят ли? Примут ли за своих? Даже если это и основным является, то уж во всяком случае каким-то насильным и необязательным, – сказав всё это, он успел подумать, что выдал слишком большую порцию, – такого продукта ей не съесть, он ей неизвестен, к тому же надпись на этикетке неразборчива.
– Ты хочешь сказать, что трудиться не хочешь? – Надпись на этикетке она разобрала, и Гостев почему-то подумал, что если бы она сказала «работать», у него было больше доверия к её вопросу.
– Да нет, я не об этом. Знаешь, – он прищурился, – иной раз посмотришь вперёд, нет ли там где очередного мостика или всё уже? («Давай, давай, – подстегнул он себя, – громозди мосты».)
– Почему всё? – С курицей было покончено, можно было расслабиться. – Женишься, будет семья… дети. – Она отпила компот. Компот был пресным.
– Всё понятно. Только как же с мостиком быть? Сжечь его что ли?
– Его уже нет, – сказала она. Компот был очень пресным.
– Да нет, – подумал он вслух, – есть… Ты институт помнишь?
– Конечно. – В следующий раз она возьмёт чай.
– Неплохое ведь было время?
– Да, весёлое, – согласилась она.
– А вот на этом берегу… – Он обвёл взглядом зал и словно увидел праздных отдыхающих, довольных тем, что они на берегу; без шезлонгов, правда, но ничего, сойдёт и так, можно даже сказать, что им удобно. Они компот не пьют, знают, что это такое, у них чай на столах, чайки над головой. Слышны голоса – крики чаек, ровный, убаюкивающий шум прибоя, колёсного парохода, кипение котла, шкворчание яичницы. Дым из трубы и ещё сразу несколько дымов и дымков из приоткрытых крышек на плитах. Душно, как перед штормом. Склонились над столом, перегнулись через борт – женщины, дамы, в левой руке кошелёк, правой кидая в пенный след за кормой (кормёжка) крошки хлеба, стаканы с компотом, куриные ножки, тарелки с борщом. Без духового оркестра, но в рабочий полдень.
Гостев узнал Лиду и Веронику Алексеевну. Лида смотрела на него, а Вероника Алексеевна – непонятно было: смотрит или нет, очки хорошо её прятали, ее никогда не было видно, но едва заметное напряжение в фигуре (в плечах, что ли?) всё же выдавало умеренный интерес к собеседнице Гостева, к тому, что Гостев не один. «Нашёл себе, значит, – подумал он и тут же спохватился: – Постой! О ком это? Кто нашёл? Я, что ли?» Они на этом же берегу, что и он, а словно на другом, и не сидят, а стоят и машут ему ободряющими платочками – неофициальные представительницы женской солидарности и женского же любопытства. Чего больше? Нечем взвесить, да и незачем. Лариса. Она была по-прежнему экономной в движениях, во всем, не более того, что ей было позволено – кем-то или чем-то. Он очнулся – не крик чайки, а её вопрос:
– Да ты меня слушаешь?
– Слушаю. – Пропал дымок за горизонтом, исчез пляж.
– Я хотела тебе… – Она раскрыла рот, чтобы еще что-то сказать, как вдруг рядом с ними оказался странный человек: он неожиданно опустил голову, – так низко, что казалось, хотел её протиснуть между ними или даже проползти по столику к стене, и спросил он так же, как-то ползуче, одной мокрой растянутой улыбкой: «Соль можно будет у вас взять?» Глаза испуганные и оскорблённые – так увидел Гостев. Ларисе показалось – колючие и настороженные. Его движение вызвало невольное содрогание у обоих. Ещё Гостеву бросились в глаза его милицейские брюки, в которых он стоял, склонившись над ними (пиджак на нём был, правда, цивильный, серый), просунув к середине столика большую, круглую, почти лишённую волос голову и вместе с ней руку – длинную, худую, едва не пощёлкивающую пальцами от нетерпения, похожую на дрожащий пинцет или неожиданную просьбу, такую: «У вас стол забрать можно?»
– Пожалуйста, – непонятно каким голосом сказала Лариса. Он схватил солонку и быстро ушёл. С минуту, наверное, они сидели молча, потом она неуверенно заметила:
– Какой неприятный тип, правда?
– Правда, – согласился Гостев.
– Ну что, пойдём? – Она уже пришла в себя, встала и стряхнула крошки с зелёного платья.
По лестнице он поднимался немного сзади неё, думал. Зелёное платье ей не шло, оно стягивало и старило её, дразнило его; казалось, можно было, вполне легко – убрать его, стянуть, как кожу, чтобы обнажить её сущность, показать ту, какая она есть на самом деле, была. («Ого! – подумал Гостев. – Это в каком же смысле?»)
– Посмотришь комнату, где я сижу?
– Хорошо, – ответил он.
Красный цвет для быка, зелёный – для него; болото, сказка, царевна-лягушка, чья-то стрела в её лапках, не его.
– Тебе опоздать можно? Тут как – строго или?..
– Или, – ответил он.
Она всегда была девочкой. Гостев хорошо представляет её себе школьницей. С косичками, разумеется. Как они общались раньше? Он не мог вспомнить ни одного развёрнутого примера. Только её улыбки. А он – он тогда улыбался?
– Что ты зеваешь?
– Я не зеваю.
– Вижу-вижу. Ночью надо спать.
– А я и ночью сплю и днём.
– Соня. Растолстеешь.
Уже в комнате, когда она сказала «ну вот мои апартаменты», он снова зевнул – запоздало как-то, словно пытаясь растерявшимися зубами вцепиться в невидимую палку и повиснуть на ней. К «соне» тогда от неё был прибавлен «зевун».
– Тут пыльно очень. Я еще ничего не разбирала. Так что садись сюда, – сказала она и освободила стул без спинки от ветхих, замученных завязками и многими мусолившими их руками папок.
Он присел, мысленно сняв шапку (откуда-то она взялась, сама упала в руки), в гостях все-таки, нет, на приёме – у кого? – у неё; она за столом напротив, он перед ней, как на табуретке, не на стуле (спинки же нет), посередине комнаты, кабинета, правда, не голого, все стены плакатами заклеены – длинные последовательности выполнения каких-то серьёзных операций, всё коричнево-зелёное, пыльное, старое, еще с пятидесятых годов наверное, тот стиль, те кепки, пиджаки, штаны, платья, платки, лица – лица строгие, военные, это техника безопасности, это гражданская оборона, противогазы, руки по швам, руки – треугольники, согнутые в локтях, – невидимая гипотенуза стянула катеты в гантели, «не стой…», «не ходи…», «что нужно знать, чтобы…» Что? – спросил себя Гостев; сидел и мял свою шапку неизвестности, она становилась все больше, она уже не помещалась в руках, и их некуда было девать. Как на допросе, подумал он, и в точку – вопрос ее заинтересованный, выросший из сложенных на столе её рук.
– Ну, рассказывай.
– Что?
– Какая тут обстановка. Я же новый здесь человек.
– А вот такая, как на плакатах, – ответил он.
– Это как?
– Такие же призывы и предостережения. Та же проверенная до тебя последовательность, – сказал он; потом спросил:
– Ты уже разучила свои обязанности?
– В каком смысле?
«Она ищет смысла. Как я?» – подумал Гостев.
– Ну, знаешь, как пьесу на пианино, гамму… Скорее всего это будет каждодневной нудной гаммой. Ты будешь начинать с «до» и заканчивать «до».
– А ты?
– Я? Я читаю.
Он заметно оживился, сел свободнее, насколько это было возможно на таком стуле, – придумал себе сзади спинку, отшвырнув ногой неудачно придуманный табурет.
– И что же ты читаешь?
– «Девонширскую изменницу» Августина Гильермо Рохаса. Авантюрная вещь. Слышала?
– Нет.
Глядя на её лицо, нельзя было сказать, что это она какую-то минуту назад так опрометчиво, с беспечной весёлостью говорила: «Ну, рассказывай».
– А как же работа? – спросила она.
«Трудиться».. – вспомнил Гостев. – Эх, милая…»
– Скоро ты увидишь, насколько всё тут смешно. Оттого и грустно бывает… и неприлично, – добавил он, усмехнувшись; вспомнил потрясённого бумажным обманом Кирюкова, а потом ещё – потемнее, посолёнее – математическую надпись какого-то пошлого таланта в туалете на облупившейся синей двери: πDрас.
– Странно ты говоришь, интересно, – сказала она. Любопытство в её глазах приобрело устойчивый, полезный для объяснений Гостева оттенок. «Вперед», – подумал он.
– Ну так! – В пожатии его плеч была снисходительная гордость. – Раньше у нас не было возможности пообщаться, а теперь такая возможность имеется. Времени тут предостаточно… Ты ещё зевать научишься, – зачем-то сказал он и, сглаживая («Что? – подумал Гостев. – Что сглаживая?»), улыбнулся.
– Неужели весь трест зевает? – скептически спросила она.
– И вы тоже, – ответил Гостев.
– Кто – «вы»? – удивилась Лариса.
– Вы – трест, мы – «шарага». Это то место, где я читаю.
– А начальник треста?
– О-о! – протянул Гостев нить крепкую, почти молитвенную по отношению к внушительному и неведомому предмету вопроса, берущую начало в кабинете на четвертом этаже того же здания, где они находились, – словно самую длинную нить самого, должно быть, затяжного зевка, обладателем которого была фигура таинственная… – Фигура с расплывчатыми очертаниями. Местный фольклор. Уже легенда.
– Почему? – не переставала удивляться Лариса.
– Потому что его, может быть, и нет вовсе.
– Как же такое может быть?
– А вот так, – весомо сказал Гостев. – Я, например, его ни разу не видел, сколько здесь нахожусь. – «Работаю» он не смог сказать.
– Ну это еще ни о чем не говорит, – не согласилась она.
«Э-э, брат», – хотел вздохнуть Гостев, но вспомнил, что это «она» перед ним, Лариса, не брат и не сестра вовсе.
– Конечно, конечно… – Он закивал головой. – Да и другие, впрочем, его не видели ни разу, – продолжил он ещё весомее, а теперь даже и с некоторой неожиданной печалью. – Разумеется, на доске объявлений вывешиваются приказы за его подписью. Немногим довелось услышать по телефону голос, вроде бы принадлежащий ему. Но чтобы увидеть самого…
Она сказала:
– Всё это несерьёзно.
– А что значит «серьёзно»? Что вообще значит «быть серьёзным»? – Ему зевнуть сразу захотелось, а он спрашивал, хотел неожиданным воодушевлением отогнать подлую привычку. – Никто не знает, что это такое… Не одни же сдвинутые брови? – прибавил он, поддавшись наглядной инерции: Лариса пометила свой лоб двумя продольными морщинами.
– Быть серьёзным, – объяснил он, – значит покоряться обстоятельствам. («Где это я вычитал?»)
– А ты, выходит, смеёшься? – Лариса смотрела на него взглядом, в котором время их разговора растягивалось до бесконечно ответственной величины, – она заглядывала в будущее. Так и есть, спросила: – И надолго так?
– Единственно возможный способ существования тут, – ответил он и подумал: «Ну да, зелёное платье – это серьёзно, это строго, это – как навсегда».
– Значит, жизнь тебя еще не коснулась.
Будущее стояло в глазах у Ларисы, будущее с зелёным оттенком, навсегда, – оно и выносило вердикты.
– А тебя коснулась? – спросил Гостев. – Тогда ты объясни мне, что это за прикосновения такие, что вся жизнь должна меняться? Я, например, вот не знаю, что тут вообще может быть серьезным.
Она убрала руки под стол – слова Гостева были холодными; но ему-то как жарко было, напрасно он так тепло оделся: под байковой рубашкой еще и майка. Он чувствовал под мышками тёмные круги, весенние разводы; очень жарко, хотя апрель всё-таки, не лето, по утрам пока прохладно, лето ещё будет, а под мышками у него тропики, там всегда лето, там очень серьёзное положение. Кто-то так уже сидел, изнемогая от жары (Гостев видел тусклый от мути, пустой графин на столе Ларисы; кажется, даже трещину он разглядел на ребристом стекле) и от вопросов, вот он рядом с ним, за ним – с такими же вынужденными кругами: лейтенант Эдвард Гордон, Индия, лагерь под Мадрасом, разорванный ворот, связанные руки; одна из случайно выхваченных страниц романа, по которому Гостев рыскал в поисках интересных мест, способных его увлечь, он тогда прочитал всю сцену и запомнил её; «Заскорузлое молчание» – называлась глава.
– Ладно, – сказала Лариса. (Гостев хотел пожать Эдварду руку.) Её голос звучал как из-за преграды – может быть из-за того, что она была значительно ниже его ростом, хотя сейчас, когда оба сидели, можно было говорить, что они на одном уровне. Может быть, преграда в нём самом, в Гостеве?
– Хорошо, – сказала она. Поднялась с места, и Гостев почувствовал (Эдварда уводили два рослых стражника), что преграда существует, рост тут ни при чём, а вот спинки у стула действительно нет, очень она была зыбкая и самоуверенная, – ему снова предлагают пересесть на табурет.
– Тогда назови что-нибудь, что является для тебя серьёзным.
Неужели идёт спор? О чем у них разговор? Мостик, вспомнил Гостев, теперь они вдвоём на пустынном берегу, пыльном берегу, усеянном папками, плакатами: «Не заплывайте далеко. Не купайтесь в незнакомом месте». Уже заплыли. Место незнакомое – слова серьёзные, зелёные.
– Хоть что-нибудь… – повторил Гостев и выпустил темное, неопознанное, самому до конца непонятное: – Смерть близкого человека.
«Справится?»
– Ещё.
– Этого недостаточно для того, чтобы быть серьёзным?
Может быть, он показался ей недостаточно зелёным. Она помолчала. И снова:
– А смерть незнакомого человека?
– Ну-у, – тут он улыбнулся, это его даже развеселило. – Положа руку на сердце – мимо же проходим… Ожидаем, когда закончится ритуал, потому что себя же до конца закапывать не хочется. Ну присыпал чуть голову пеплом, ну кинул горсть земли. Но чтобы с головой, целиком?.. Ведь собственным слезам не поверишь.
– Что же, смеяться, что ли? – недовольно проговорила Лариса, а голоса у неё словно не было, так – папки волновались по поводу… «Ах, почему же все так нелепо?» – спросил кого-то Гостев.
– Да нет. Это так, чтобы справиться… – смутился он; раз такого наговорил, жди теперь знаков, можно даже побольше их набрать. Вот так:
– Я тебе предлагаю заключить договор о смехе, раз уж мы здесь находимся.
– О чём?
«Не спеши удивляться, послушай. Может быть, я тоже, слушая себя, разберусь».
– О смехе.
– Зачем?
«Законный вопрос».
– Чтобы предохранить себя от серьёзных последствий, которые могут здесь случиться.
– Каких?
Глаза её теперь постоянно будут что-то спрашивать у него, и две продольные морщинки – навсегда, – это её может испортить.
– Каких… До пенсии люди не доживают.
– А что мы будем делать?
«Напрасно, напрасно ты иронизируешь».
И вдруг часы. Певучий «Маяк» по громкому радио, за соседней стеной, сыграл им начало нового часа, подскакивающим пиканьем отсчитал бодрые секунды, и оборвалось всё, не стали они закапывать себя в случайном разговоре, случайных темах. Лишних полчаса он уже здесь и никаких «или». Он встал. Она ему не ответила, и он ей ничего не объяснил – да и что?
Она сказала своё:
– Да, кстати, помоги мне – достань вон те плакаты со шкафа.
Только сейчас он заметил в углу бывший когда-то рыжим (до конца не скрыться), не угодивший, наверное, цветом (теперь просто тёмный) шкаф, разжалованный в рядовую, забытую мебель. Плакаты его совсем зачеркнули, ведь он ни к чему не призывал, ни от чего не предостерегал, – стоял обыденно и скучно, как под застывшим дождём бумаг, пригнутый к полу всё теми же папками, зелёными и синими, обязательно толстыми, безнадёжно беременными – вот-вот на сносях уже несколько лет, свёрнутыми в холодные, чёрные трубы-дыры плакатами, в слежавшееся нутро которых, повёрнутых к окну, не пробивались солнечные лучи из-за щели зелёных, очень серьёзных штор.
Он подошёл к шкафу. Жарко. Там, где очень серьёзно, уже липко. Там – Индия. Сейчас он поднимет руки вверх, Гостев – «соня», «зевун», толстый Гостев. Она стоит сзади. Она почувствует, а потом увидит эти тяжёлые разводы, эти обессилевшие лужи, и он так и замрёт с поднятыми руками: сдаюсь, я не виноват.
Но вот раздаётся стук в дверь, она оказывается запертой на ключ – «зачем? кто? Лариса?» – оттуда не могут её открыть. Лариса открывает. В проеме появляется женщина – «я к вам, Лариса» – это выручает Гостева. Он успевает, как только дёрнулась дверь и Лариса обернулась, поспешным движением достать со шкафа.... папки. Он уже отряхивает брюки от пыли. «Я сейчас, Нина Владимировна», – говорит Лариса. – «Вот…» – говорит женщина, но дальше не продолжает и не заканчивает, вот она внимательным и радостно-цепким взглядом окидывает и Гостева (брюки он отряхивает, брюки) и Ларису, приравнивая их к понятию комнаты с закрытой на ключ дверью – «зачем всё же? случайность?» – за которой…
«Нет, – подумал Гостев, – не то. Не то вам кажется».
И теперь Гостеву действительно пора – он выходит. Неловко. Он сдувается, как шарик. Он даже разговор – ни начать не может, ни закончить, сразу середина, известная ему одному.
Она устала. Как он её утомил… Он хотел чем-то щегольнуть, удивить её? Нет. Он просто учился разговаривать.
Слишком многое накопилось в нём, слишком долго он молчал…
«Читать надо», – подумал Гостев.
А чертежи для Кирюкова он принёс, не забыл, – на этот раз то, что нужно.
Глава четвертая
Дерево, полное соков
«Ясно», – сказал Кирюков в телефонную трубку голосом не столько пасмурным, сколько уже грозовым, едва сдерживаемым от накопившегося хлама всегда неожиданных забот и неурядиц. «А пошли бы вы…» – пробный разгул стихии, внутри себя повальная фраза, ведь вслух сказать – теперь некому. И всё же это была гроза, слишком много всего накопилось, молнии острые, но короткие, – не достать им до треста. Оставалось одно – сидеть за столом, сжав кулаки, и сжигать себя (это как обычно) или тех, кто подвернётся, до кучи, в довесок к отчаянному положению его… организации (не шараги же), к бесконечным случаям прогулов и пьянства среди рабочих. «Посмотрим», – добавил Кирюков уже потом самому себе и ещё кому-то. Впрочем, он хорошо знал кому.
Он встал из-за стола и подошёл к окну. Где-то урчал невидимый экскаватор, глухо бухал об землю ковшом; ревел, вгрызаясь в землю, потом удовлетворённо стрекотал и разворачивался с откусанным. Кирюков знал где: с другой стороны его… организации (не шараги же), рядом с площадкой под щебень. Для него, в отличие от некоторых, трест не мёртвое, изломанное дерево с сухими сучьями, а наоборот, живой, бурлящий соками ствол с гибкими, послушными воле начальства ветвями. Для него никогда не было неразрешимых, запутанных ситуаций. Он всегда точно знал, где и что, в какое время, когда будет или почему не будет. Он постоянно находился в движении. Это было главным правилом, это придавало его жизни какой-то неуловимый, странно притягивающий и одновременно отталкивающий вкус, такой, что хотелось снова и снова ощутить его на воспалённых от бесконечных, ставших уже нудными для самого себя распоряжений губах, чтобы в результате (вот только что это случилось) себя спросить: на что уходит жизнь? – ведь дней уже не замечаешь.
Вчера смотрел хоккей и вдруг поймал себя на мысли, что не видит происходящего на экране, не знает, какой счёт, кто играет… Не помнит даже как подошёл к телевизору и включил его, – зачем? О чём же он тогда думал? Тоже не помнил. Только что было и ушло. Похоже на дневное торможение, когда его вот точно так же зацепило на улице, когда он шёл под знойным солнцем через двор треста. Что-то тёмное тогда в голове мелькнуло поверх скучных, обыденных мыслей, вытянутых в напряжённую нитку, как будто над головой раздался шелест и показалась тень большой, наполовину знакомой птицы, она накрыла его, и он приостановился, чуть не выронив от неожиданности папиросу. Да, тень, – это слово легко ложится на всё необъяснимое, на всё тревожное. Вроде бы знаешь, что птица, но какая? Поднял голову – и ослепило; исчезло прикосновение чужого воздуха, как чужого плеча, и тёмное пятно растаяло под прямым, ослепительно жарким углом солнца. Он ничего тогда не понял, но уже насторожился. Что-то произошло. Кирюков не знал точно что. Догадывался. В последнее время в его движении начались сбои, а ведь он работал на износ. Он возглавил эту… организацию (не шарагу же!) два года назад. Двадцать лет назад он приехал из деревни, чтобы завоевать город. Тридцать восемь лет назад он родился и кое-что, значить (он никогда не говорил «шарага», он всегда говорил «значить»), понимает в жизни. И конечно же, как он считал, чего-то добился. Он знал чего. Но он еще знал, чего добились другие.
Жизненная формула. Он чётко вписывался в неё. Она была первой, которую он вывел ещё в институте. Сам. Без подсказок. Оставалось, значить, одно: подставлять в неё проверенные неизвестные, чтобы получать хорошие ответы. У него накопилось много хороших ответов. Они поднимали его вверх, продвигали среди прочих случайных решений. Его решения всегда, значить, были верными. И вот вдруг как-то сошлось всё, он стал замечать, оказывается, что его формула находится где-то на окраине того раздела высшей математики, который называется наиболее полным удовлетворением потребностей человека. На свежем и более глубоком срезе жизни (о как тяжелы эти периоды прозрения и обновления!) плодятся, оказывается, и другие формулы, о которых косно не думалось в той юношеской, предрешённой слепоте, более изощрённые и долговечные, более объемлющие, что ли.
Ствол развивался по другим законам. Себя Кирюков считал крепкой ветвью. С годами эта ветвь утолщалась, становилась тяжелее, она тянулась уже не вверх, а просто по инерции, в направлении скупой на достижения горизонтали, в силу соков, бегущих по стволу, – скоро прогибаться начнёт; вертикаль подставлялась для Кирюкова как-то боком, лестницей с шаткими перилами и перебитыми начальными ступеньками, прошу на скользкую вершину, заполненную отзвуками болезненных падений, которые ему приходилось наблюдать на протяжении своей карьеры. Нет, не то, не так надо, надо самому стволом становится, как-нибудь хитро так суметь отпочковаться. Но как? Как вырваться из тесных объятий треста?
Кирюков вздохнул. Из-за угла выехал экскаватор и остановился, распахнулась дверца кабины, и на щебень спрыгнула женщина в сером, запылённом комбинезоне, – толстая, весёлая и до потрясающей звонкости крикливая. Такая же, как его бывшая жена. С ней он развёлся несколько лет назад. Её рот был похож на экскаваторный ковш – крепкая хватка, таким только цепляться за что-нибудь и постоянно вгрызаться. Она и начала было грызню из-за квартиры после развода, но его зубы оказались крепче, стальным зубам всё нипочём, только вот желудок не заменишь, нашла в нём язва выбоинку, проложив дорогу к вечно плохому настроению. Они не могли быть вместе. Женщинам нравится то, чего нет в действительности, а он никогда ничего не придумывал, он жил без иллюзий, и как специалист по одному только голосу человека безошибочно определяет его внешний вид и общую природу, доходя даже до угадывания характерных привычек и внутренних недомоганий, так и он распространил своё представление о жене на всех женщин вообще. Он не мог с ними общаться. Он терпеть их не мог. Он их попросту не выносил. И потому у него, конечно, сложилось убеждение, мол, твари они, но, странное дело, ожидания всё же остались, причём такие, как у мальчика, ещё не испорченного стоянием в подъезде и гитарными переборами. Правда, в этом он никогда бы себе не признался. И что теперь? Один в квартире, из которой сразу же хочется выйти, как только вошёл. Территория треста – вот его дом, и от этого ему уже никуда не деться.
Недавно ему приснился сон, о котором он старался не думать. Сон странный и неприятный. Якобы проснулся он от какой-то тяжести на шее. Он опустил голову, прижал подбородок, и увидел, что это цепочки. Но почему их так много? Была же одна? Он потрогал их рукой и вдруг увидел, что это – черви. Да, такие кольцеобразные, белые, в мелких складках через равные промежутки, какие-то ленивые. Он снимал их, растягивая руками, через голову и отбрасывал в сторону. С каждым разом это становилось всё сложнее делать, они оказались очень упругими и постепенно становились всё уже. Последние кольца он уже разрывал. Они валялись у кровати, похожие на обрывки резиновых шлангов, и иногда обессиленно шевелились.
А как-то зимой он проснулся от сильного сердцебиения, и спустя несколько секунд ошалевшего поиска себя во времени явилась, как продолжение какого-то тайного, неосознанного беспокойства, мысль: и это всё? Больше ничего не будет? Он встал и на ощупь, в темноте, выбрался на кухню. Взял папиросу дрожащими пальцами, открыл форточку и вдохнул морозного воздуха – как прикурил у ночи, но не успокоился, а, наоборот, испугался, словно заглянул в её бездонный колодец или внезапно, повинуясь какой-то зловредной воле, выпил из тёмного облака яду. Нет, правда, чего добился в эти тридцать восемь лет? Страшно даже подумать об этом и вдруг осознать, что тебе тридцать восемь. Именно тебе, а не кому-то другому, о ком можно сказать что угодно. Тебе, именно тебе поймать за скользкий, обжигающий хвост эту неожиданность – возраст. Подержать несколько секунд с забившимся сердцем. Достаточно, теперь это от тебя никуда не уйдёт, будешь помнить об этом всегда.
Он вспомнил, как в детстве, упрятанном теперь так глубоко и безнадёжно, что даже не верилось в его какое-либо к нему отношение, он хотел выучить английский язык, даже принялся за дело с некоторым рвением, и когда доходил до такого состояния, в котором обозначался порог разумного понимания, дающего надежду на перспективу, вдруг останавливался, с неожиданностью холодного откровения, непоправимо горько соображая: а зачем это нужно? где это меня спасёт? в чём пригодится? ну, конечно, если подумать, где я смогу применить свои знания, проверить их? Тогда же у него мелькнула дикая, противная его природе мысль: ВООБЩЕ НИЧЕГО НЕ НАДО. Он возмутился: как же так? почему? а как жить? что тогда делать? НИЧЕГО. Нет-нет, с этим он согласиться не мог. Трижды потом принимался он за английский, доходил до определенной вершины, разбивая на ней промежуточный лагерь знаний, всячески укреплял его, обустраивал, чтобы, передохнув, двинуться выше и – неожиданно останавливался, начинался постыдный спуск вниз. Повзрослев, он уже не искал этому сколько-нибудь подходящего объяснения, совершенно ясно стало, что по-английски ему говорить незачем, ему по-русски-то очень часто говорить не хочется. Не хочется говорить вообще. Бесследно. Необоримо. Молчать… В молчании хранить себя, свою неразделимую сущность. Не позволять в себя проникать.
Значить, так, цель жизни – суметь хорошо от неё защититься. Работа в этом ему помогала.
Книги и музыку он не любил – сразу начинал чувствовать пустоту, которая обволакивала его, едва он соприкасался с ними. Музыка для него была звуками жалости и веселья, всё равно, в любом случае в них таились отголоски тяжёлой жизни, которую надо было подкармливать молитвами, чтобы она поменьше обращала на тебя внимание. История всей литературы, как и любого писателя, представлялась ему историей заблуждений. Люди, ко-торых он встречал на своём пути, были для него скорее уже не людьми, а его плохим о них представлением. У всех были безусловные минусы, просто у некоторых немногих этих минусов было меньше.
Кирюков – чёрный, Кирюков – едкий. Сухая ветка. Ветка без листьев. Выбоинка отстукивала внутри него язвительные комментарии. Он их плохо прочитывал, был раздражён. Так что же случилось? Черви. Шнур… Он дотронулся до шеи, провёл ладонью по горлу. Задрожало стекло от проходящего поезда и шепнуло: «Но это не тебе». – «Что?» – подумал он, не расслышав. Он попал в плохую историю. Он не сумел спрятаться. Есть такие люди, которые сумели это сделать. Ему – не повезло.
Он стоял у окна. Он смотрел в окно, а там, за гаражами, вытягивалось здание треста. Виден был торец его, украшенный между третьим и четвёртым этажами белыми по красному, транспарантными буквами: «Выше знамя интернационального социалистического соревнования!» Последний четвёртый этаж, окно угловое, зашторенное, сразу над «выше» – вот где были глаза Кирюкова. Лицо его – застывшая судорога распаханного поля, борозды вечной озабоченности и нервного срыва. Вороньё кругом. А самая главная птица там, за шторкой. Недавним звонком оттуда заставили его призадуматься – крепенько так, основательно, и теперь его нахмуренные брови очерчивали строгий горизонт его вынужденной мысли. Как же хотят ему насолить! Трест хочет. Трест хочет выставить его в неприглядном свете. Чуть ли не с благими, добросердечными пожеланиями, отмечая достигнутое, – ведь заслуги должны быть отмечены, – но холодно, через секретаршу, по распоряжению треста, по личному указанию самого (видел ли его хоть кто-нибудь, проклятого невидимку?), издеваясь в зарешеченной темноте трубки, там, за шторкой, наверняка трясясь от смеха, предоставляя право идти в первых рядах… да, вам… вашей… хм… организации… вам возглавить колонну… район…
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































