Текст книги "Исчезнут, как птицы"
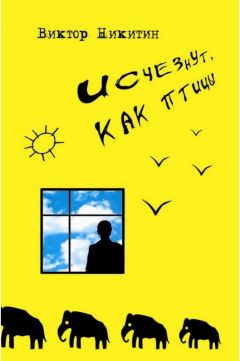
Автор книги: Виктор Никитин
Жанр: Жанр неизвестен
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 35 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
Глава двенадцатая
По поводу сына
Жарко. Снял рубашку, штаны… Всё снял. В одних трусах остался, по-домашнему.
– Где ж ты был так долго? – спросила бабушка.
– Где был… Гулял… Шпацирен…
Вздохнул. Только-только присел на кухне – а-а! хорошо тут, ветерок из-за солнечной шторки такой ласковый, такой прохладный струился! – как она с письмом в руках к нему прошаркала.
– Вот. Сестра пишет… Вот пишет, что внук их Василий в город к вам приедет.
– К кому – «к вам»? – спросил Гостев. Тарелку взял, ложку.
– Ну, к вам!
– А ты кто? Ты не с нами?
Хлеб никак не мог найти. Где ж ты, хлебушек?
– Я?
– Ну да… Почему «к вам», а не «к нам»?
Нашёлся…
– Не-е… Я тут так… с боку припёка. Квартира-то ваша!
– Угу… А чего приедет-то?
– Ну так ведь учиться, так что ли… Поступать вроде… А ей вот, сестре, лекарство какое-то надо… Куда это я очки подевала?
Впрочем, не «подевала» она сказала, а «запсила». Но очков всё равно не нашла – ни в кармане фартука, ни на холодильнике.
– Как же оно называется? Профан что ли?
– Как-как? – удивился Гостев.
– Да нет… – вспоминала она. – Как-то вроде «цин» какой-то.
– Тетрациклин?
– Не-е…
– Левомицитин?
– Не то.
– Калия оротат? – Пошёл перебирать, обгладывая куриную ножку. Можно и посолить. Даже нужно. – Кола Брюньон?
– Не, не помню… Всё, капут. – Она развела руками. – Да ты потом почитаешь!
– Ладно, – сказал он, целую гору еды разворачивая нетерпеливой вилкой, ложкой, рукой. Хорошо ему кушалось, плотно. Столько тут всего было понастроено, ладно так, по-бабушкиному, в таких слюноотделительных сочетаниях перемешано! Сначала борщ, который «губы не морщь», потом курица с золотистой, хрустящей, поджарившейся корочкой, рис крупный, белой горкой уложенный, а сверху зелёным горошком присыпанный, лучок тут же зелёными стрелками вытянулся, и к ним ещё, отрезая то пластичек сыра, то дрездочку огурчика, в конце концов, компотом сладким запивая из сухофруктов, там яблоки, груши, и – вот те раз! – пирожное под завязку. Очень даже славно. Внук аж запыхался.
– Ну что, выпьем? – предложил он, вытирая губы. – Где же кружка?
– Зачем?
– Сама же говорила: праздник. И сердцу будет веселей!
Сердцу было не то что бы не весело, а как-то жалко предыдущего потраченного времени, искало оно не лёгкого, бесшабашного выхода, а входа в некий интимный утолок, который был бы для Гостева приятным и спокойным ложем. Где искать его? Куда обратить свой взор? В книгу. В книгу? Разумеется. Это могла быть его комната, там можно отлежаться два дня: сегодня и завтра, а потом на работу снова.
Кружка не кружка, а рюмашку самую малую Гостев на себя принял ради праздника. Бабушка не стала. «Крепкая. Голова от неё будет болеть». Ушла к себе. Но водка оказалась мягкой. Ещё раз Гостев прищемил себе горло то ли тридцатью, то ли пятьюдесятью граммами той самой, что горькой должна быть. И тут бабушка вернулась.
– Да вот ещё что… Звонили!
Гостев обернулся.
Она стояла в глубине коридора, не дойдя до дверей кухни, взявшись одной рукой за ручку двери в ванную, а другую подняв, и словно грозила ему пальцем, с хитрым выражением лица, в котором прочитывались и интересная новость для Гостева и некоторое ему предостережение.
– Зво-ни-ли! – сообщила торжественно.
– Что – «звонили»? – не понял Гостев.
– Я не знаю, что звонили, а только сказали, что по поводу, говорят, его сына.
– Какого сына?
– Вот не пойму. – Она ладошкой провела от полуоткрытого рта к подбородку, собрав её в горсть. – Если Петра Трофимовича сына, то это тебя, значит?
– Голос чей? Мужской, женский?
– А кто их теперь разберёт? Так одеваться стали. Все одинаковые.
– Я же про голос спрашиваю!
– А хоть и про голос. Иной раз с таким крокодилом разговариваешь…
– Ладно, – прервал её Гостев. – Сколько их было?
– Кого? – удивилась она.
– Ну кто «звонили»?
– Один и был.
– А говоришь «звонили»…
– Ну да. Нешто я уже не соображаю ничего? – обиделась она. – Не приходили же, а звонили. По поводу, говорит, его сына… А что такое «по поводу»? Поди разбери!
– Так… – Гостев нахмурился. Замолчал, глядя в пол… Чистый пол, не соринки.
– Ничего я не понял, давай сначала.
– Вот осёл бестолковый! Я же говорю тебе…
– Ну?.. – Он напрягся. Ухо – одно, большое, с длинными хлопающими ресницами.
– Звонил ктой-то по поводу, говорит, его сына…
– Значит, всё-таки сына.
– Да, говорит, его сына.
– Чьего сына? – потянулся к ней Гостев.
– Вот те раз! – удивилась она. – А кто ж его знает? Может, твоего!
– Моего?
– Ну а если не Петра Трофимовича сына, то что тогда получается? – Она развела руками.
– Какого Петра Трофимовича? – тупо переспросил Гостев.
– Осёл, точный осёл, – сказала бабушка. – Так отца твоего!
– А сын у кого?
– Так у него и сын!
– Ну… – медленно соображал Гостев. – Сын у него. А чего к нам-то звонили?
– Кто?!
– Ну кто «звонили»? Или один «звонил»?
– Да кто их знает? Может, и двое их было, рядом ещё один стоял?
Создавалось впечатление, что она словно что-то недоговаривала, зная несколько больше, но вот только что именно она знала, этого она сказать не могла, никак она не ухватывала настойчивые расспросы внука и путалась ещё больше, чем положено было такому непонятному случаю.
– Так кто же всё-таки звонил? – спросил потяжелевший в лице Гостев.
– Ну хватит! – заявила она.
– Непонятно.
– Как малому ребёнку ему объясняешь!
– Я теперь весь вечер не успокоюсь.
– Одно и то же, одно и то же!
– Меня аж трясёт всего!
– Сидишь голый – вот тебя и трясёт! Оденься!
– Не зима ведь… Какого-то сына у нас ищут, повод придумывают… Зачем?
– Сам теперь снимай трубку! Жила без телефона всю жизнь и горя не знала!
– Что же они хотели? Кто дал им повод?
– Ты у меня спрашиваешь?! Щас как пякну!
– Не к лицу, не к лицу ветерану колхозного движения прикладывать руки не по назначению…
– Какого сына? Почём я знаю? Ничего я не знаю больше! И разговаривать с тобой не буду! – ворчала она уходя.
На том они и разошлись. Но что ей было так на него сердиться, Гостев никак не мог понять. Ему бы тут больше недоумевать и вопрошать. Что за таинственный звонок? Что за сын такой да ещё и по поводу? Он попытался всё это обдумать у себя в комнате. Кому-то что-то было нужно, рассуждал он. Взяли и позвонили. Ошиблись? Вряд ли. Всё же Петра Трофимовича – «по поводу, говорят, его сына». Неизвестные «они». Набирали номер, крутили диск, накручивали причину для будущего беспокойства. Откашливались. Дышали в трубку в два спешащих выдвинуть повод рта. Несколько неуверенно начали, потом, по ходу, обретая силу. «Сына вашего… по поводу.» Так, стало быть, её сына? Так выходит? Всё равно, выходит, Пётр Трофимович. Вот и смекай! Она – мать ему, он – сын. Вот оно что! Или никаких «вот». Крик «эврика!» в продырявленной ванне. Вдруг тут не просто всё? А вдруг тут смысл заложен неугаданный?
Гостев пребывал в некотором замешательстве, которое его самого очень удивило. Мелочь же, безделица, вроде резанувшего слух ругательства, ребром упавшего в толпу, лёгкого камешка, выскочившего из-под колёс проехавшей мимо машины и задевшего по ноге; не споткнулся, не упал, ухо не в крови, не больно, нет, но неожиданно, как звук резко хлопнувшей двери, а ты сидел рядом и был свидетелем скандала, ещё когда дверь была ра-спахнута и ты был, значит, скрыт за ней, но теперь разозлённый уходящий вбил её в стену, открыв тебя, и волна от его удара окрасила твоё лицо в красный цвет неловкой причастности, все присутствовавшие это так и поняли, они поняли правильно и в соответствии со своим правильным зрением и довершением общей картины скандала посмотрели вначале на дверь, потом на тебя, окрашенного не такой краской как они. Ты и безобразно громкая дверь – одно и то же. Вы с ней хорошо спелись, вы одного поля ягода, вас водой не разольёшь. Что ещё?
Гостев оглянулся и упёрся взглядом в стену, которая ничего собой не представляла, не было в ней ни осуждения, ни повода для… Вообще в его комнате не было ничего такого, что сразу готово было бы броситься в глаза и выцарапать их своей крикливой пестротой; ровно всё, вполне достойно для нормального человеческого существования, как он его себе мыслил, – тахта, стол, стул, книжные полки, покрытые пылью, хотя какая там пыль, так, словно однажды девочка Пылька взмахнула своими буйными юбками и оставила по себе лёгкий, блестящий след, и ещё неясный, требующий домысла пейзаж на стене висел: что-то тёмное, светлого немного, кажется, водоросли, якобы деревья, а в голове другие мысли, там каша, сваренная неизвестными руками, наверчивающими телефонный диск ради зловредного удовольствия, а в комнате разрастается тревога, приобретающая всё более чёткие очертания вроде бы по-пустому нагловатых лиц, но тем не менее интересующихся: «Ну каково тебе, Гостев, а?» Как же, оказывается, легко его смутить! Мнительность – самая слабая нитка для пошива и прочной одежды, и крепкого характера. Словно чужие намёки и собственные сомнения вслепую вышли поохотиться за ним. Сошлись и попали. Думай теперь, соображай, разгадывай кроссворд, заполняй пустые клеточки взятыми наугад словами, именами… Стоп.
Но кто и зачем?
Он подумал: они. Потом: их работа. И ещё точнее: его работа. Его место работы – длинная череда подборов и равнозначных тыканий. А вдруг? В самом деле, ведь было же непонятное что-то во взглядах Шкловского, а? Так, он?
Глупость. Он и… Да нет. Я же не идиот, подумал Гостев, и вздохнул… Выдох был озабоченный, он разваливал и без того шаткую конструкцию дня.
Ну кто, кто ещё знает о его существовании?
А может быть, он в чём-то замешан?
Гостева обнимало явно обознавшееся (конечно же!) чувство вины, на него пытались надеть одежду не по размеру, словно натворил он неблаговидных дел, – почти неприличный текст, набранный мелким шрифтом в сноске, каким-то образом миновавший цензуру, а в сноске-то этой, чёрт бы её побрал, всё и дело, в ней-то весь фокус, повод для осуждения, оттуда взгляды укоризненные и насмешливые на Гостева выставятся, оттуда вдруг взяло и прозвонило ему прошлое.
Он вспомнил утреннюю встречу, наведённую в чёрно-белых тонах: свитер, борода, лицо, улыбка, не совсем точно, упрощённо, но так вот отметилось ему небрежным, первомайским отзвуком, в котором таились способности вышутить и подначить.
Вот и подобрался он к тому, кто вполне мог бы часа через два после нечаянной встречи звякнуть не просто так, а с чрезвычайной заботой о негативном воздействии, – действительно, по поводу.
Закавыченного друга звали Лёшей, но никогда Гостев не называл его по имени, как и он Гостева Юрой. Стояла между ними какая-то грань, тонкая перегородочка, переступить которую означало бы выйти на совсем иную степень участия и настоящей доверительности, предполагавшую вовсе не усталую иронию и язвительный комментарий без повода и по поводу, ставивший их самих в положение каких-то безымянных фигур, так что лучшим обращением у них друг к другу было: «эй!» или «послушай!» Вот этим самым «эем» они, опуская имена и клички, довольствовались и держались на расстоянии, достаточном для обоюдных растяжек губ в виде посвящённых улыбок и ещё насмешливого шёпота.
Произнести вслух имя, положив на язык верный звук, вначале означает про себя его послушать, ведь это почти что сказать «папа» или «мама» с той нежностью, которая родителям принадлежит в домашних, без чужих глаз, отношениях, это ведь торт давно уже до тебя испечённый, часто приторный, много крема, готовое определение в почтительных свечах, которое надо понимать не умом, но сердцем; буквы в этих словах какие-то мягкие, хрупкие, почти что покаянные, будто признание в чём-то, а у Гостева мысли тяжёлые, и признаваться ему ни в чём не хочется, и вообще: думает он очень медленно, глаза почему-то виноватые, голос сразу чужой, когда вот так вдруг: «папа» или «мама». Нет-нет, тут сразу нота фальшивая выскочит, лучше как-нибудь там «па», «ма», сглотнув желанную для родительского уха и вполне законную половину, коротким ударом по семейным клавишам, словно вынырнув к ним на поверхность, показав на миг голову и снова уйдя на дно. И выходит, что если нет для Гостева никакой возможности самым близким в именах их признаться, то какой уж тут Лёша может быть или он сам, Юра. Да его бы и покоробило, если бы его, одного «эя» тот, другой «эй», назвал бы Юрой.
Он, он, он – простучали пальцы по отложенному (увы!) роману. Кто же ещё?
Гостев пересел за стол и уставился в магазинную карту.
Оч-чень большая степень вероятности. Он передёрнул плечами. «Холодно, вот и трясёт тебя». Нет-нет, тут другое. Тут женская тема сквозила, вызванивая. Вот с этим-то закавыченном «эем» (и всё же Лёшей) был как-то у Гостева случай, а значит и повод.
Собирались познакомиться. Встреча с одинокими женщинами. Первый опыт Гостева. Когда же это было, а?..
Его привели. У них там всё было договорено. Его чуть ли не впихнули в квартиру. «Здрасте», – процедил он сквозь зубы, словно желая их выплюнуть, или сигарету выплюнуть под ноги, если бы он курил, если бы стоял он, просоленный ветрами житейских морей, широко расставив ноги, демонстрируя безоглядную отвагу и ухарство, пока ему не крикнул бы тот, другой «эй»: «Эй, ты что делаешь?» Но нет, не стал он этак матросничать, безобразно тельняшничать. «Здрасте», – сказал двум принаряженным, ожидающим прихода гостей. «Добрый вечер, пожалуйста, раздевайтесь, проходите». А там, в другой комнате, край стола был виден накрытого, там горлышки уже поблёскивали. Музыка хохотала весёлая, быстрая, чтобы сразу поймать ритм, с правильной ноги ступить в комнату и не быть робким ягнёнком. «Ну что же вы стоите, проходите! Познакомимся…» – «Да-да, конечно». (Всё вниз, в лица не глядя, всё в пол.) Как от них духами несло! Перебор дозировки, возведение желания в исключительный квадрат нетерпения. Разная масть пошла фокусничать перед глазами, щипать за носы и хватать за горло. Перспективные названия флаконов: «Я жду тебя, милый», «Сюда, сюда посмотрите!» и «Мы – женщины!!» И ещё: бусы переливались на шее, на груди. Или это зубы там перекатывались, а бусы блестели в улыбающемся рту? Он (снова): конечно. Ему: имена – Первая, Вторая… А в спину его закавыченный друг подталкивал, говорил: «Эй! Ты что, заснул?» Гостев же, такой смущённый, тихий «эй», перед тем как пройти дальше… успел прошептать другому «эю» яростно и удивленно: «Куда ты меня привел? Это же настоящие женщины!» Так и сказал. Словно они могли быть какими-нибудь другими. Игрушечными что ли? Или не вполне настоящими, а как-нибудь полу… Тогда бы они были в самый раз для Гостева, точно бы ему подошли. Легче бы ему было и не возникло бы повода. Он самому себе представлялся не вполне настоящим, они были более настоящими и к тому же женщинами. К полуночи ему пришло понимание того, что прежним ему отсюда не уйти. Настоящие женщины приняли их как надо. По-настоящему. Гостев стал настоящим мужчиной. И вот главное… если… вдруг… предположить… что… у настоящих женщин… могут быть… настоящие дети.
Ай да сноска к основному тексту! Ведь жизнь Гостева для него же – как книга, основной текст которой читаешь каждый день. Всё остальное – сноски. И вдруг Гостев стал сноской к тексту женщин по поводу его сына.
Значит, сын. Настоящий. Его сын. Гостев-младший – сын Гостева-старшего, внук Гостева ст. ст. (совсем старшего).
Где ты, отец?
Он (нет, не отец, – Гостев) заходил по комнате. Три шага до двери и обратно, на четвёртом шаге натыкаясь на кресло, стоящее у окна.
Ну? Может быть такое?
У окна. Под окном: две женщины… настоящих… о чём-то мило беседовали. Сумки в руках. Яблоки в сумках. Настоящие, с дерева. И серьёзные, как слова. Зелёные.
Праздник…
Идиотизм… Настоящему мужчине Гостеву теперь не до книги. Её оседлала неутомимая, но равнодушная к самому тексту Пылька. Бусы переливались и таяли во рту. Ещё немного, и он вытянул за нитку бус прежнюю зубную боль. Утреннюю, первомайскую. Типа «эй!» Слабо, но неприятно. Кто же ещё мог так пошутить? Вот – боль осталась. Она? Она, что ли, ему позвонила?
И вдруг его пронзило неосторожным словом, именем, упавшим с какой-то высокой полки, полной нелепых, совсем нелогичных надежд, а он позабыл их… Лариса? Ну? Что тут такого? Забилось сердце, беспорядочно ища оправданий, совпадений, подходящих примеров… Стоп. Никаких примеров у него нет. И всё же… А вдруг она? Захотела объясниться, рассказать почему не пришла. Давал я ей свой телефон или нет? Когда? В столовой? Нет… У неё потом, когда сидели? Он сидел перед столом, мял свои руки, как чужую, поднятую с пола шапку… Тогда? Мял, мял. Ну, вспоминай! Нет, он что-то мямлил. Во всяком случае, у него осталось такое ощущение. Он говорил что-то, говорил… Крылья росли за спиной, росли, что-то там шевелилось, он это чувствовал, но не более… не более того… Не взлетел он, не вышло… смялись крылья. Что это он себе придумал? С чего бы это ей звонить ему? Сидит небось сейчас дома, телевизор смотрит. Чинно. С родителями. «Дочура, переключила бы, там фильм интересный…» – «Ну что ты, папа, тут концерт такой чудесный!» Даже не вспомнит о нём. Что о нём вспоминать? Или компания какая-нибудь чудесная, как концерт, там, где «ха-ха» неиссякаемое, без антракта. О, там есть на кого обратить взор! И ей внимание, и голова кружится от выпитого, выслушанного, станцованного и от предстоящего…
Гостев проглотил комок – смычка горла с пустыми переживаниями: в самом-то деле, ерунда, и зубик пару раз подпрыгнул во рту; надо было заканчивать, пора, не мог он больше так себя расстраивать, хватит, он бабушку родную куда больше расстроил, хотя они не ссорились, он пошутил, никакой издёвки не было, что же он – совсем ничего не понимает? Всего лишь шутка – лёгкий, необязательный, непричёсанный пустобрёх выбежал на короткую прогулку, солнце его допекло, вот он и высунул язык, задышал. Эх, бабушка, милая бабушка, многое ты в жизни своей претерпела, а теперь тебе меня терпеть, и хоть сказала ты, что говорить со мной не будешь, скажи слово доброе о чём-нибудь, не для кого-нибудь, для меня. Будь со мной, как с собою, а я для тебя открытым сердцем стану, я для тебя – что ещё? – да я для тебя… я… Гостев повторялся, он расходился, он увеличивался в размерах, ему становилось тесно в комнате.
– Так какое, ты говоришь, лекарство?
Он вышел к ней мириться. Она смотрела телевизор, сидела в кресле и дремала, слушала концерт праздничный, певицу, очнулась, вздохнула и сказала: «Выключи её, а то визжит, как сучка», потом вошла в его положение, приняла вопрос и протянула конверт.
Причудливые письмена или рядовые каракули. Дешифровка. Перевод. Только не ошибиться.
– Це-ре-бро-ли-зин.
Ещё раз принято.
– Василий летом приедет.
Разговаривает! Совсем полегчало…
– Какой Василий?
– Внук сестрин.
– А по какому поводу?..
Глава тринадцатая
Платье прошуршало
Светлое чувство свободы вернулось к Гостеву после установления крепкого мира, надежность которого была удостоверена подписанием им деревенского адреса на конверте для скорейшего ответного письма бабушки к сестре, чтобы она не волновалась и была вполне уверена в том, что и лекарство дай бог найдётся и Василия приветим, посодействуем его поступлению в нужный ему институт. Так ведь сложно будет поступить, заметил Гостев, конкурс какой, готов ли парень? Ничего, разберётся, сказала бабушка. Э, нет, не скажи, не отставал Гостев, в деревне не то обучение, что в городе. У нас в роду все способные были, не отступалась бабушка. Ну и что? – восклицал Гостев. – Что такое способности? Сколько надо труда, чтобы развить их до положительного результата, который может быть отодвинут, а то и вовсе зачёркнут какой-нибудь посторонней случайностью, злой волей или собственной минутной слабостью, чудовищным промахом, не вернёшь потом ничего, не поставишь на прежние позиции, всё сначала, год пройдёт, иное время, иное бремя, сама же говорила, так стоит ли ему вообще сюда приезжать, силы свои юные растрачивать и нервы расстраивать, может быть там, на родине своей малой, в деревеньке-колхознице, он большего достигнет и сподручней ему там будет и радостней, как говорится, лучше в малом, да удача, чем в огромном, да провал, а? Карась сорвётся – щука навернется, не сдавалась бабушка.
Покуда Гостев так забавлялся, испытывая на прочность заключенный мир, особо не перегибая при этом палку, время, вместе со степенным и благоразумным вечером, окончательно уводило под руки суматошный, шедший спотыкающейся походкой день с освещенных улиц в затенённые переулки. Тронуло оно и Гостева своими вытянувшимися стрелками; он очнулся и вошёл к себе в комнату; встал у окна. Еще хорошо видно было. Вспомнил почему-то Африку. И слышно: удары глухие, бухающие. Понял почему. Где-то тень отца Гостева хлопала резинкой. Но нет, это ковёр выбивали во дворе. Девочка Пылька взметнула свою юбку. Он потянул ноздрями воздух. Протереть. Легко. Словно не портить отношений. Обычно бабушка заботилась, приглядывала за порядком, гоняла иной раз бедную девочку по квартире. Два дня пролежать в этой комнате. Читать. Этот уже заканчивается. Утро отодвинулось куда-то далеко, он словно сбросил ту первомайскую кожу, мельканье многих лиц для него стало просто каким-то безбрежным пустоголовьем. Он всё забыл. Читать – это как путешествовать. Оттягивая резинку – и по ковру. Легко сказать. Для путешествия нужно придумать себе имя. Такое, как Эдвард Гордон, например. Текст (стр.107): «Ой!» – вскрикнула она. Их взгляды скрестились. Он отметил бледность ее властного лица на миг уступившего растерянности и сразу вспомнил недавнюю встречу: дорога, карета, скомканная в ярости чёрная перчатка, потом превосходная шляпка и изысканное кружево на платье из тонкого индийского муслина. Ещё два толчка его ставшего вдруг незнакомым сердца, и её платье прошуршало…» Ехать, только ехать. Но куда? Везде то же самое. Ни одного города нет так, как нужно, как хочется. Приходится его себе придумывать. Путешествовать по книге. Вычертить план, схему, карту страны, не продуктов, в которой он мог бы жить. Он и сейчас живёт, но как-то нелегально, или, если принять во внимание окружение его границ бескрайними территориями, с которых каждую минуту жди лихих, беззастенчивых набегов, – словно в под-чинённом карликовом княжестве, подразумеваемую мощь которого и глубину не дано измерить посторонним, а считают все взаправду его и слабым и не имеющим веса на так называемой жизненной арене. Неприятные эпизоды, борьба за самостоятельность, спорная территория, очаг напряженности… В конечном счете есть чему огорчаться помимо собственной жизни. Она случается как-то сама собой, без особых усилий с его стороны. Строго говоря, можно вообще их не прикладывать – результат будет тот же. А сверхусилия, как известно, не приводят даже к обычному результату. Вот он хоть по карте идет по жизни, а чувствует, что не та она. Очень примитивна. Продукты. Читаем дальше (стр. 108): «… это его не выбило из колеи, собравшись с духом, он спустился вниз и поужинал пирогом с сёмгой, форелью из реки Уай, тушёным мясом по-крестьянски (говядине в пиве Гиннес с луком), добротным куском яблочного пирога и стилтонским сыром, после чего его внимание привлекли какие-то неясные звуки, раздававшиеся из-за двери». Но нет, это ковёр выбивали во дворе. Настойчиво, в уши резинкой: бух! бух!! Кто же это там трудяга такой? Гостев отложил роман в сторону. Он больше доверяет не людям, а небу, что над его головой, его необъятной шири и высоте, заполненной бойкими ветрами, песнями едва различимых птиц, миллиардами частиц рассеянного солнечного света… Но где это небо увидеть, сидя в квартире? Вот в углу окна, за шторой, верхний край окрашен через стекло скользкими красками – и всё, а дальше, а ниже, у гаражей Гостев увидел резинщика, выбивальщика, ковриста. Он узнал его. Это был Эверест Чашкин. Усталое лицо, словно вырезанное из самой усталости, сложного, неуловимого материала, неловкое, угловатое, в морщинах-недосыпах от ночных бдений, бесчисленных просмотров в темноте зала, при недостатке света – солнечного, вокруг, внутри; большие глаза – в них крупные капли тоски – и объёмный череп мыслителя с редкими волосами, зачёсанными назад, пострадавшими от умственной работы. Ковёр приличного размера, 3 на 4 должно быть, достаточно пестрый: какие-то загогулины расползлись от центра по краям. Сам Чашкин был одет в спортивный костюм синего цвета с широкой белой молнией, раздвоенной у подбородка. «Где-то рядом живёт, – подумал Гостев. – Как же он мне раньше не попадался?»
Раз в месяц его лицо появлялось в местной телевизионной программе. В передаче «На экранах города» известный кинокритик Эверест Чашкин вещал о новых фильмах, которые предстоит посмотреть любителям кино. Что называется хорошо поставленным, немного глухим голосом он рассказывал, например, о новой ленте прогрессивного режиссёра, в которой вновь сказывалось мастерство чуткого и проникновенного художника с затаённой болью и горечью ведущего неторопливый рассказ о сложных, подчас противоречивых драматических коллизиях в судьбе простой сельской девушки, пожилой женщины, директора крупного предприятия, юноши, приехавшего в столицу, капитана одного из кораблей, матроса с того же корабля, рабочего. Автор жёстко, а подчас и беспощадно судит тех, кто остаётся глухим и равнодушным к людским горестям и заботам, кто не протянул руку помощи в тру-дную минуту тому, кто так остро, а подчас и болезненно переживает ложь и несправедливость в окружающем мире. Хлёстко бичует он всех тех, кто так бездумно и варварски относится к личности человека, а подчас и к его душе. Бух! – по ковру, – бух! Равномерные взмахи руки, уже почаще, более ожесточённо, с некоторым остервенением, в задушевной манере, что называется «по душам», используя всю, присущую только ему психологическую палитру, яркими мазками воссоздаёт он гигантское полотно, монументальную фреску, повествующую о таинствах жизни и смерти, роковом предназначении человека и его сложных, подчас противоречивых исканиях, которые автор, как чуткий и требовательный художник, так проникновенно отобразил. Выразительные средства очень доходчивы и просты для восприятия зрителя. Выдающийся мастер и не стремится к внешнему изыску. Он не рядит пустоту в одежды многозначительности, сотканной из формального трюкачества. Чуткий и проникновенный художник (внимание: невероятно огромные уши, влажные глаза, подрагивающий носик оленёнка, черная, опять же мокрая, собачья пипка) успешно переводит на язык кино мысли и чаяния простых людей, их стремление к лучшей жизни, а подчас и к счастью. Правда, только правда в высшем её проявлении, в неприкрытой наготе, без недомолвок и умолчаний, доступно, обстоятельно, трагично, волнующе, а подчас и комично, легко, весело, чутко, но требовательно, в жёсткой манере, непринуждённо, мягко, неназойливо, всеобъемлюще отобразил. С какой-то горечью и затаённой болью в сердце Эверест Чашкин беспощадно, а подчас и противоречиво лупил по ковру, который вырастал до размеров гигантского полотна, монументальной фрески.
Гостев с трудом оторвался от столь волнующего зрелища, величественной картины к прерванному чтению, путешествию в другой город, страну. Он раскрыл книгу, «бух!» – а там всё то же, сначала котильон, потом контрданс, это вчера, шляпка, теперь уже украшенная лентами, кружево на платье, теперь на другом, буланже – танец такой, вся атмосфера затянута в тонкий муслин, у него – алый мундир, лицо под цвет его мундира, потому что покушал он плотно и выпил крепко, это тебе не пампушки с хреном, укусные. Бабушка в комнату: читаешь? Ага. Ты мне почитай. Прикинул: неожиданно, вслух, как-то ново, по-старому, семейно, в кругу, интересно, посмотрим, что будет. Вышел и сел на диван. Текст (стр.110) сразу пошел такой: «… что дух укрепляет тело и в самых суровых испытаниях. И всё же лейтенант Эдвард Гордон пребывал в сомнении, которое грозило перерасти в случае последующих событий в твердую уверенность в том, что он становится жертвой каких-то темных сил. Но зачем? Для чего вокруг него закручивается эта дьявольская карусель? Что значит появление этой незнакомой леди, её взгляды на него и таинственное исчезновение…»
– Стой, той, той! – встрепенулась бабушка. – Как книга называется-то?
– «Девонширская изменница». Роман.
– Ты расскажи хоть, о чём там было сначала…
– Да ты что?
– Чтобы я хоть понимала о чём речь.
Действие происходит в Англии восемнадцатого века в царствование короля Георга III. История в общем очень и очень простая поначалу. Полковник Бентам, его дочь Амалия Бентам – «её красота заставляет вспомнить скупое солнце северных широт» (стр.33) – и лейтенант Эдвард Гордон, чье расположение к белокурой, бледной и хрупкой красавице (и что он в ней нашёл? – недоумевает Гостев, – вот Делия Стоун – это да!), вырастающее до просьбы её руки и сердца в обмен на нежную заботу и искреннюю любовь, отнюдь не тешит сердце вышеупомянутого полковника. Старый служака хмурит брови и выказывает излишнюю суро-вость к молодому офицеру, обладающему приятной внешностью и манерами, но не имеющему достаточных средств для содержания будущей семьи в приличествующих тому условиях; к тому же у отца Амалии возникает некоторое сомнение по поводу… чего? ну?.. по поводу получения им офицерского патента. Но тем не менее все препятствия счастливо устраняются и происходит помолвка двух влюблённых молодых людей, чьи отношения, перемежаемые лёгкими обидами (надутые губки Амалии, терпеливо сжатые скулы Эдварда), скорее похожими на безобидные подтрунивания над обоюдными чувствами, крепнут день ото дня. Но вот на-ступает день совсем неожиданный и вовсе даже нежелательный в свете дальнейшего развёртывания событий. Во время поездки в Ладлоу, в местной гостинице (там где прошуршало платье) Эдвард Гордон встречает Делию Стоун, как оказалось потом знатную особу, имеющую влияние при дворе Георга III. Неизвестно по каким таким причинам, скрытым и от читателя и от молодого офицера, хотя и довольно-таки приятного по наружности, но всё же никак не сопоставимого по положению своему с тем положением, которое занимала в свете вышеупомянутая особа, также блиставшая и природной своей красотой, Эдвард Гордон привлекает её внимание – внимание, которого тщетно пытались добиться многие обласканные жизнью знатные особы, внимание, которое не останавливается ни перед чем для осуществления своих целей, отягощённых по обыкновению коварством, что известно лишь не-многим посвящённым и без того достаточно наслышанным о её дурной репутации. Действиями Делии Стоун руководит необъяснимая и тем более испепеляющая страсть, особенно после того, как Эдвард Гордон отклоняет её домогательства, к чему она совсем не привыкла, несмотря на то, что она почти вдвое старше его. Свой отказ он объясняет тем, что его сердце принадлежит другой. Опытная интриганка (вот тебе и леди! – удивляется Гостев), она оказывалась одинакова полезна и при возглавлявшем кабинет министров королевском фаворите Бьюте и при сменившем его Уильяме Питте, графе Чатеме. Искушённая в закулисной игре, она умело пользовалась раздорами между вигами и тори для усиления власти Георга III. Её личная жизнь была покрыта тайной. В случае с Эдвардом Гордоном она проявила неистощимую выдумку и упорство для того, чтобы расстроить его будущую свадьбу. Вскоре достоянием лондонского общества становится известие о помолвке некоей Лауры Бишоп с Эдвардом Гордоном. Полковник Бентам потрясён и раздосадован, им овладевает гнев. Стр.139: «Я всегда говорил, что его честность мне подозрительна! Как ты могла довериться…»
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































