Текст книги "Исчезнут, как птицы"
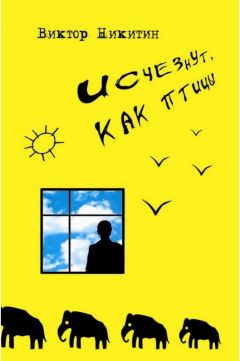
Автор книги: Виктор Никитин
Жанр: Жанр неизвестен
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 35 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
– Стой! – сказала бабушка.
– «… ведь честь и достоинство являются непреложным…»
– Той, той!
– Что такое? – Гостев оторвался от книги.
– Али не слышишь?
– Нет, а что?
– Звонок что ли…
Сердце застучало. Дождался? Но нет, кажется ложная тревога. Не слышно. Только: Чашкин во дворе довершал создание своей монументальной фрески, чутко, но требовательно; соседи за стеной глухо бранились, почти без слов гудели, рычали – и всё. Нет повода.
– Тебе показалось.
Мелькнуло что-то такое на лице Гостева – ответная судорога на бабушкино рассеянное выражение.
– Или ты шутишь так? – спросил он с надеждой и почти с мольбой оставить прошедшее в покое.
– А что мне шутить? – вскинулась бабушка. – Показалось, значит. Ты читай давай.
Чутко – к тексту, к собственному слуху. Бережно – к нервам, вообще ко всему тому, что тянется через человека, проходит сквозь него, как ток. Почти сначала, требовательно, как детскую считалку: Мидленд, Херефордшир, Молверн, Ладлоу, Амалия, Эдвард, Делия, Лаура…
Эдвард Гордон в полном затмении от обрушившегося на него несчастья. Он пытается объясниться с полковником и Амалией, но его не слушают. Ему отказывают от дома. Помолвка расторгнута. Кто такая Лаура Бишоп? Откуда взялось это имя? Поиски не дают результата, зато всё больше разрастается слух о том, что Эдвард Гордон женился на Лауре Бишоп и даже находятся якобы свидетели, которые видели это бракосочетание своими глазами. И это ещё не все. Теперь семейная драма: сестра Эдварда Гордона Ванесса кончает жизнь самоубийством, после того как её внезапно бросает жених, некто Герберт Флитвуд.
– Во, чёрт какой! – не выдерживает бабушка.
И это ещё не всё. По случайно попавшим в его руки бумагам ославленный Эдвард Гордон находит, что неизвестный ему Герберт Флитвуд, так подло поступивший с его сестрой (с ней брат не виделся несколько месяцев, находясь в переписке, из которой и узнал, что готовится её свадьба), этот самый Герберт Флитвуд на самом деле является Фернандо Родригесом, любовником леди Делии Стоун.
– Ну это просто!.. – бабушка разводит руками. Ещё несколько быстро проглатываемых страниц, смен имён, переодеваний, сбрасываний масок, ночных дозоров, дневных хождений, слежок, поездок и вот уже твёрдые – сжать клинок, рукоятку пистолета, горло врага – руки Эдварда Гордона держат нужную бумагу, которую читают его ставшие суровыми глаза, склонясь над свечой, отыскивая последние, самые верные строки, а из них следует ещё более неожиданное: Фернандо Родригес никакой не Фернандо Родригес, а Карлос Сантьяго, подданный испанской короны, в настоящее время англичанин, служащий Ост-Индской компании, ведущей войну в Южной Индии с княжеством Майсур. Стало быть Эдварду Гордону плыть туда, что он и делает, после чего звонит телефон.
Да, в самом деле, телефон прозвенел. Гостев поднялся с раскрытой книгой в руках и вышел в коридор. Снял трубку. Слушал молча, сжав губы, чтобы не спросить случайно «кто?». Тишина, её напряжение сдавливало ушную раковину, рождало таинственные шорохи, что-то похожее на короткий, испуганный треск кузнечика или робкие позывные сверчка. Гостев даже прищурился, словно чтобы получше разглядеть в темноте эти неясные звуки, прижал трубку ещё крепче. Прислушивался. Ухо было уже за решёткой, по ту сторону ожидания, мысли, разума, слух бродил в тёмном, безбрежном пространстве, натыкаясь на потрескивания, похожие на внезапные сполохи огня, а там, где-то ещё в глубине шла связь между континентами: далёкое дыхание далёких стран, холодное и жаркое, скорее всего даже жаркое, африканское, или это тут рядом, за углом, от телефона-автомата так сопливо и безутешно дышали. И вдруг послышалось Гостеву, что кто-то кашлянул, но женщина это была или мужчина невозможно было понять, возможно, это природа электричества так себя проявила, словно некий трансформатор сорвал своё электрическое горло от невероятного напряжения и осёкся. Трубку повесили. Повесил её и Гостев.
– Кто там? – поинтересовалась бабушка, когда он подходил к ней, медленно передвигая ноги, шаркая тапками, словно старик.
– Не знаю.
– Ошиблись?
– Да-а… – протянул он так же медленно и добавил: – Всё, хватит читать. Продолжение следует.
Глава четырнадцатая
Наваждение
Есть люди, которые хорошо пишут, а есть те, которые хорошо читают это написанное. Гостев был чутким читателем и требовательным. Ему было мало сюжета, пускай даже интересного, ему нужны были слова в первую очередь, – такая их организация, при которой стиль представлял собой жизнь в некотором смысле более властную и совершенную, чем та, что каждодневно давила на плечи плохо выделанной повседневностью. Его радовала присущая иным авторам невежливая по отношению к праздным читателям (спутавшим книгу с тарелкой или телевизором) обстоятельность мысли. «Так вам и надо», – говорил он и где-то там, внутри себя, потирал руки в предвкушении весьма эгоистического удовольствия от разбора словесных завалов. Для него текст тогда становился книгой, когда строчки начинали смотреть в глаза внимательному читателю и передавать ему заключённое в них послание. Гостев читал и в нём читали, к тому же передавали ему прочитанное, и он лучше себя узнавал. Он листал страницы и думал: за нас многое уже придумано; прослеживая движение сюжета, мы следим уже теми, придуманными глазами, которые оказываются вдруг и нашими. Читая, мы становимся героями, которых победили буквы. Мы пленены, и нам хорошо в этом плену. Буквами нам разрешено на территории плена и поездить, и помечтать, и полюбить. О, книга! Это предвосхищение сна, который готовит нам ночь, но очень многие спят и днём и не замечают этого. Читать. Читать медленно, проникать глубоко. Только там всё будет развиваться по сюжету. В жизни Гостева сюжета нет. Действующие лица конечно же подчиняются действию, а у него? Он только придумает сюжет, прикинет его, а он развивается совершенно иначе или сразу же погибает – ни одной серии не снимешь, ни одной главы не напишешь. А было время, когда он пытался сочинять что-то своё. Он писал рассказы и проверял их на бабушке, её одну он избрал себе в слушательницы. Родителям не доверял – резинка и продукты могли задать литературе такие вопросы, на которые она ответить вряд ли была способна. Первый его опыт назывался:
ВИДЕНИЕ
Это пришло внезапно. Я поднял голову и увидел то, что, как оказалось, длилось уже какое-то время. Я же подумал (глаза были устремлены в тетрадь, ручка бойко выводила, сокращая: «необ. усл. чего яв. дал. повыш.»), что причина слабых пульсаций над головой или где-то сбоку в неисправной лампе. «Жиз. ур. труд.» – и тут я споткнулся и вдруг понял, что не люблю себя. Я оказывается давно уже приговорил себя к бездействию. Разве можно такого любить? И даже испытал облегчение оттого, что сумел себе в этом признаться. Поднять голову, распрямиться – как это оказывается просто! Какая свобода! Я стал так свободен, что наконец-то доверился слуху, указавшему зрению путь в иное. И вот показалось: оно возникло из мгновенной металлической резкости, мелодичных шелестящих вздохов, веских капель дождя, мерного сияния раскалённого солнца и солнца в ореоле затмения, из плывущих космических звуков, на том месте, где недавно был виден девичий силуэт, схваченный морозом, её волосы, её пальцы, сыгравшие по стеклу морозное стаккато, которое спугнуло память. Да-да, мы стояли рядом, разговаривали, потому что уже чувствовали взаимное движение, она смеялась и мне это нравилось. Я смотрел на неё и слушал музыку, как искреннюю мечту о преодолении себя, о приближении к чему-то такому, что невозможно выразить словами. Я думал о прорыве. Я мог бы сказать о страхе, сознании беспредельной радости или прозрачной грусти. Но я тогда промолчал. Мне показалось, что из нашего тёплого дыхания может вырасти всё, что нам нужно. Нет слов – значит нет раздражения, нет и полярных толкований. Они, она, оно – я всё сбиваюсь, ищу теперь и никак не нахожу девушку эту, с которой я говорил, да всё не о том, не наедине. Можно не воспринимать всерьёз то, что я вижу, можно смеяться над моими фантазиями, называть их чушью собачьей и крутить пальцем у виска, приговаривая ещё и к неизлечимому, возможно приставшему с детства наваждению. И в самом деле, что-то подобное последний раз я видел разве что в детстве – так меня замучила эта взрослая жизнь. А что вокруг? Сидят, пишут. Ничего не видят, не слышат. И я был таким до недавнего времени, и у меня были взгляды, полные либо корысти, либо пристрастия. Теперь я свободен и всё ближе становлюсь к предметам, которые отказались разговаривать с нами. А эти камни, подобранные облаками с заснеженной земли, сейчас совсем не камни, а причудливые скопления, они материал для упражнений ума и новых названий мира. Но цвет, цвет! Какие краски горят в вечернем небе! Их так много, что не всем есть названия. Может быть, тот цвет, что мы назовём красным, лишь отразит наши понятия тепла, крови, огня, любви и будет приблизительным, и если мы потом узнаем истинное его название, мы улыбнёмся прежнему знанию, как доброму и наивному. И всё же видно, как фиолетовые, синие, зелёные, красные барханы мягко ссыпаются друг в друга, смазывая границы. Белоснежные шапки облаков посыпаны жёлтым песком, в сухом мираже застыли пальмы, караваны верблюдов, далёкие пирамиды, стены таинственного восточного города с поблёскивающим золотом минаретом. Есть во всей этой картине что-то от воздушности пирожного. Бесконечная, до самого горизонта красивая пустыня. Может быть, тайна её кроется в том, что второй день стоит тихая, ясная, безветренная погода. Без неё, без красоты тайны очень многое может оказаться пресным и поблекшим. Но лектор этого не видит, он продолжает читать будничным, свято оберегаемым скукой голосом, а студенты продолжают спотыкаться: «В сис. общ. отн. важ. роль игр.» Никто не замечает безусловность странного, никогда не случавшегося раньше свечения за его спиной, за окном, в морозном воздухе. Холод, холод. Мне холодно, но причина не в двадцатиградусном морозе, заставившем всех в аудитории накинуть на плечи пальто. Мороз пробегает по коже, когда я вижу растопыренные пальцы лектора и угадываю сетку трещин от мела на них. Это странно, но это скорее толчок накопившегося холода. Я сдерживаю его и снова смотрю в окно. Потом опускаю голову и вижу в своей тетради совершенно белую страницу. Исправить вряд ли что возможно. Лекция закончилась. Девичий силуэт испарился. Я начинаю догадываться, чем всё это может закончиться. И когда, прерывая путь выходящим на перерыв, я выбираюсь с последнего ряда к окну, магическое свечение неба угасает в подбирающейся темноте, внизу зажигаются фонари, идут троллейбусы, а вверху постепенно разрушаются пирамиды, поднимая прощальную золотистую пыль, рушатся пальмы, сбрасывая ценные блюда и тюки с добром, падают верблюды, рассыпаются в прах крепостные стены и, наконец, подожжённая последним багровым солнечным лучом, вспыхивает верхушка минарета. Вскоре от него остаются чёрные угли. Я отворачиваюсь от окна и вдруг говорю вслух: «Как жаль…» Все останавливаются. Лектор, глядя мне под ноги, говорит: «Да… жаль очень». Неожиданно он сбрасывает со своих плеч пальто. Все делают то же самое. У них какие-то странные, наконец-то нашедшие чему-то объяснение лица. И более чем странное лицо у той, которой я чуть было не стал. Она подходит ко мне. Её улыбка похожа на признание и предательство одновременно. Она молча берёт из моих рук портфель, открывает его на глазах у всех и высыпает из него песок. Мне становится стыдно и страшно одиноко, мысли путаются и рассыпаются в прах, я уже не смогу сюда вернуться. Горят мои щёки, я опускаю голову, плечи – и так до тех пор, пока от меня не остаются только слух и зрение. Все начинают отщёлкивать замки портфелей и кейсов, вытряхивать свои пакеты и сумки. Они тоже высыпают песок. Я ещё пытаюсь что-то записывать: «нич. страш. всё ещё мож. вер.» и с гнетущим удивлением обнаруживаю на месте записей обрывки страшного проклятия. Наконец лектор стыдливо кашляет и щёлкает пальцами. Открывается дверь и появляется уборщица. Она подходит к кучке песка и заметает меня в совок. Аудитория приходит в движение. Слышатся восклицания и оживлённые разговоры. Все снова одеваются и идут в буфет.
– Ну как?.. – недоспрашивал Гостев, у него дыхание перехватило, как только закончилось чтение.
– Да-да… – вздыхала бабушка чему-то своему. – Вот у нас тоже было… как это сказать… видение, – оживлялась она, – то, своё, тянуло сквозь многолетние вороха случайных наслоений – как много там ненужного и насильного! – ответный вздох былого и просило негромкого, задушевного слова; её память быстро и послушно раздевалась до того, что тогда носили: … понёва на мне, платочек так вот укутаешь и на улицу… это сейчас вот кохточку наденешь, чтобы тепле было, а тогда холодно как раз… а наране пошли за грушами… – так обнажался внутренний текст, запрятанный где-то в глубине её глаз, там уже зажглись памятные огоньки то ли двадцатых, то ли тридцатых годов, её губы были собраны в напряжённый узел, бугор, холм у них в деревне, за рекой, а лес подале, вот туда стало быть пошли наране за грушами… а сусед у нас рядом был, фамилия у него – Лежачий… Лежачего не бьют, – знаешь как говорят?.. это как у нас пластинка старая была… старик один жениться вздумал: на старой не хочется, а молодая не пойдёт, а если и пойдёт, то не поцелует, а если и поцелует, то назад сплюнет… а хотел он жениться на суседке моей… а одет как был – ты бы видел… пальто хоть городское, а парховенькое, всё зашмурыгал… а она девка видная, ну так богатые были, и одевалась хорошо, справила себе как раз одёжу новую, материал плотный – страсть, я щупала… а сама – такая халда была… сидит бывало, грибы развесит, нет, чтобы взять да по дому там что-нибудь, всё ж помощь какая, простирнуть там где, а то как скулёмает… ну вот, так у него ничего не вышло, растогокались они, и то – он же старше насколько и слава о нём дурная, к тому же глаз у него чёрный, знаешь, как говорят: не влюбляйся в чёрный глаз, чёрный глаз – опасный, а влюбляйся в голубой, голубой – прекрасный… колдовал он, говорили… из-за него лес однажды горел… он ведь курил, ну и бросил цигарку свою, а трава, что мох, разом занялась, и пошло пламя бузовать… во… мужики ему тогда по курилам его надавали как следует… ну он видать озлобился и затаил про себя… ну мы груш-то набрали у пазухи и идём обратно, тут суседка моя и говорит: ой, ктой-то камнем в меня бросил!.. я-то подумала, что это ухажёр её новый, шкут этот, Зинкин закопёрщик творит-забавляется, а она мне: да нет, сильно так, не в шутку!.. ну мы по-за оврагом идём, а там и днём тёмно, место такое… вдруг она как закричит… тьфу ты, прости господи, я ей: ты что, сказилась? орёшь, как оглашенная!.. а она: мне ктой-то под ноги словно бросился… я ей: ты что, ошмурела? никого же нету вокруг!.. гляжу: она уже боится, а я, в девках была, сроду ничего не боялась, боевая была, у нас все таковские, бабушка вон моя, та в Руесалим ходила… меня на кулачки звали драться, да!.. и вдруг слышим – ржанье лошадиное и голова над кустом конская… смотрит на нас, зубы выскалила, ушами прядёт… суседка моя аж белая вся сделалась… это он, говорит, Лежачий… а потом вдруг лошадь пропала и сбоку так, по-за кустами словно крадётся кто, но быстро так… ну мы тоже уперёд… друг за дружкой так, молчаком… он – по-за кустами, мы – по тропке… кто кого абакулит… а потом кусты-то кончаются, и тут мы всё ж, значит, сталкнёмся… так я сразу, первой чтоб, бах! – его по ушаке, как вдарила, так что он у овраг курдыкнулся, деманюка, – а мы бе-жа-ать!..
Потом стучать в дверь, колотить руками и ногами, откройте, откройте же скорее, за нами гонятся! – догонять Юру Гостева задыхающимся эхом «а-ать!» – но он уже не слушал, он уходил от погони и её устных рассказов в свою комнату, куда не мог проникнуть никакой Зинкин закопёрщик, безвестный шкут, а тем более целая лошадь, там садился за стол и заклеивал в конверт своё произведение, затем шёл на почту и отправлял его в адрес редакции какого-нибудь журнала. Потом наступало большое ожидание (у пальцев навязчивая память о дырочках почтового ящика, у сердца – рукописный ритм, у мыслей – бумажное русло), почти каждодневно выставляющее оценки: хорошо, беспомощно, туманно, достаточно откровенно, смело, не очень-то, совсем плохо, то есть абсолютно, что-то есть, полная неудача, или новый Гоголь явился. И, наконец, как видение (большое ожидание рождает порочный соблазн) долгожданный ответ: пальцы в очередной раз нащупывают… не может быть… и ухватывают потёртый угол плотного… да-да… коричневого конверта, всего перемазанного клеем, в котором приходится обнаружить собственную рукопись, пронумерованную сверху чужой, поспешной рукой, и клочок бумаги, расстрелянный под копирку непременным орудием официальных, зарегистрированных ответов: уважаемый тов. такой-то, прочли Вашу… ознакомились, зевнули – и не раз даже, что более чем удивительно для такой скромной вещицы, на такой, так сказать, короткой дистанции, вы лучше вокруг оглянитесь, посмотрите как живут люди, какие фабрики понастроили, гиганты соорудили!.. вы где работаете? на заводе? так идите на завод! присмотритесь, какие там процессы происходят, чем живут коллективы, пишите о нём, ведь всякий кулик своё болото хвалит, так и хвалите своё болото!.. Нет, не так, конечно, – совсем другими словами, но смысл тот же: слабовато, скучновато, а жизнь наша намного интереснее…
Свой второй рассказ Гостев уже не читал бабушке, опасаясь ответного вала её безбрежного и беспокойного прошлого. Настоящее колыхалось более ласковыми и тёплыми волнами такого уютного и сугубо внутреннего моря, – легко было по нему приближаться в гордом одиночестве и согласии с самим собой к надежде, как хотелось бы верить, на скромное, но серьёзное признание. В редакции очередного журнала читали опус №2.
ПИКНИК
Снова мы здесь. Глазам своим не верю: река заметно отошла от берега, рассталась с его отбитым краем, мальки у обветшавшего пенька, наполовину опрокинутого в воду, не играют, их беспокойные стайки исчезли. Над головой у меня вьются комары, по зарослям осоки летают мошки; ниже рваных, круглых листьев, словно приклеенных к воде, виден жук-плавунец, стремящийся на дно, а там, у пустой консервной банки, – раскрытые створки ракушки-перловицы.
– Красиво, правда?
На берегу, у заводи, растёт светло-серая ольха. Ольховые серёжки – бледно-зелёные. Они растянулись по веткам бесчисленными группками соплодий. Интересный цвет у ольхи: ветка кажется серой, но если приглядеться повнимательней, можно увидеть, что с неё слезла краска, словно красно-коричневый забор покрасили серебряным, а серебро не присохло. Я оторвал веточку и бросил её в воду. Вода – тёмная и тяжёлая, она, то медленно оттягивается невидимыми руками вместе с растительностью от ольхи, то притягивается. Это ветер. Одна палочка не подчиняется переменчивому движению воды и плывёт к выходу из зарослей, за ней скользит водомерка, она цепляется, потом отскакивает и толчками выскальзывает обратно к цветущей воде. Листья ольхи обтрепались, во многих местах дырочки, и их края обуглились кирпичным цветом. Один листочек полощется на ветру с сильным шумом, только его и слышно. Остальные просто вытянулись в сторону ветра. Две стрекозы низко пролетели над помятым подорожником и скрылись в шуме сыплющего пёстрыми листьями леса на другом берегу. Летом их было много. На высохшей и приподнявшейся тонкой траве, посреди кучек рыжеватой кашки, сидит красивая бабочка «павлиний глаз».
– Нравится?
Звякает ведро. Я оборачиваюсь и вижу пожилую женщину в сером фартуке. Она вытирает пот со лба, потом наклоняется и начинает полоскать бельё. Сквозь плеск воды слышен её голос:
– Вода холодная, не искупаться.
Мне кажется, что она хочет начать разговор, но я стесняюсь сказать слова, уже перетёртые через многие рты и даром посеревшие в монотонных речевых гонках, чтобы не оказаться погребённым под обломками слов из внезапно рассыпавшегося предложения. Они – не мои. Рассматриваю деревенские дома. Порывом ветра оттуда доносится странный звук: то ли плачет ребёнок резким жалобным криком, то ли блеет какое-то животное. Сзади говорят:
– Дочь моя тут, на турбазе, в посудомойках работала… вон на том берегу… и с парнем познакомилась. Женились. Ребенок уже, мальчик. Она теперь в городе живёт, приезжают к нам летом. Мы со стариком вместе… А старшей не повезло. Он, вроде, доктор был, симпатичный… вроде, непьющий, а дурной. Лаялись друг на дружку, как чёрт на петрушку. Удавился потом. Она так там и осталась, у Куйбышеве…
Вряд ли я её слушаю. «Красиво, правда?» Мой друг, лежащей на пледе, сонно и лениво говорит ей «угу». Я смотрю на него вопросительно, и он мне отвечает: «Подожди». Я слежу за курами, клюющими что-то в кустах, за приехавшим на велосипеде стариком с сумкой на багажнике и устало бредущими коровами, сопровождаемыми лаем собак из-за заборов.
– Вы «Огонёк» свежий не читали? – неожиданно спрашивает меня она и с глянцевым шорохом вытаскивает из-под фартука журнал.
Я не знаю, что ей ответить. Снова становится слышен непонятный крик, что там – ребёнок или животное?
– А у вас «Труда» случайно за тринадцатое число не найдется?..
Я пожимаю плечами.
– Там статья интересная про одного маньяка… – Она нервно хохотнула. Друг приподнялся с пледа. – Он приезжал к своим жертвам под видом…
На дороге слышится шум мотоцикла. Это вернулся старик, бывший несколько минут назад велосипедистом. Из коляски, откинув брезент, выпрыгивает ещё кто-то. Вместе они быстро спускаются к нам. Непонятный крик мешается с плачем. И тут мы уже ничего больше не ждём.
Давно мы так не бегали.
«О чём это?» – спрашивала Гостева редакция спустя некоторое роковое, но непродолжительное время ожидания, которое вежливо и корректно разбухало честолюбивыми помыслами. В углу непонятой рукописи стоял строгий инвентарный номер и помещалась чья-то неразборчивая пометка, сделанная весьма решительно: «см» что ли, или «гм», а может быть «кхм», – словно кто-то судорожно и правдиво прокашлялся буквами, и они-то были самыми верными и безошибочными во всей рукописи, в них была вся соль произведения, его яркий венец; да-да, – как-то так получалось, что этот неразборчивый кашель непосредственно становился частью текста, выпавшим из него случайно, а теперь, слава богу, найденным беззаветным тружеником словесности и добавленным им необходимым звеном, – тем, к чему никак нельзя было придраться ни в смысле правил написания, ни в смысле самого смысла.
«Как? Как? К-как – о чём?» – за-заикаясь спрашивал Гостев то ли себя, то ли неведомый ему примирительный орган, некий высший арбитраж, способный если не привести к обоюдному соглашению, то хотя бы к его, Гостева, оправданию, как свободного художника слова, к тому же чуткого и требовательного читателя. О чём? Да вот же – о жизни… Вот читал он, например, совсем недавно в этом же журнале («сориентированном», как говорилось в передовой статье, «преимущественно на женскую аудиторию») короткие лирические новеллы, так называемые миниатюры, скурпулёзно, с болезненной тщательностью написанные далеко не юным натуралистом и вроде бы писателем, – в них непременно наличествовал главным действующим лицом микроскоп с набором разных увеличительных стекол, причём желательным было как можно большее их увеличение, такая кратность, которая ничего бы, что попало в поле зрения, не пропускала: тут тебе и снегири, и рябина, а вот белка пробежала, потом снег шёл, баба понесла коромысло, машина проехала, мужик какой-то шмыгнул носом, задиристо как-то, отчаянно, носом красным, в прожилках, большим, тёплым, так что вдруг слеза смигнулась в глазу – правом, голубом, давно уже подрагивающим в предчувствии чего-то, и становилось неожиданно проникновенно-грустно, прозрачно-волнительно, и заканчивалось такими словами: «Давно уже минула та зима». Ещё был образец острой социальности, чуть притупившейся о тему, но (новыми средствами, свежими красками) тем не менее день в ней злобствовал непреходящей актуальностью, повествуя, как какие-то хулиганы-подростки, попусту катаясь, загнали вусмерть колхозную лошадь, – и этак в лицах, с переживаниями, с внутренним голосом природы: «И тут лошадь взмолилась: «Погодите, огольцы, что-то сердце забилось». Призыв её не был услышан, и что тут было причиной: не хватило её негромкого голоса, хулиганов было намного больше, так что они не помещались в миниатюру, заталкиваемые в неё бдительным, переживающим микроскопом, – а только вылезали они вместе с её тенью и тенью ещё той, бабушкиной лошади, лежащей на предсмертном, колдовском боку, засыпанной было собранными наране грушами, в следующем рассказе: теперь это щенок чей-то, брошенный, какие-то уже совсем каменные, донельзя отвратительные подростки – неблагополучные дети неблагополучных родителей, – с гиканьем гоняющие бедного заморыша, снова чья-то слеза и достойный финал: «Пронеслись годы… Мы выросли и стали иначе смотреть на жизнь. Но урок того осеннего дня не прошёл для нас даром…» Меньше всего горя было автору браться за такие продуваемые насквозь сюжеты уверенными, цепкими руками, как и вообще – просто наблюдать за окружающим миром и удивляться, и вдруг обнаруживать, что кроме него существуют другие люди и в чём-то даже более человечные, чем он. Вот, смотрите-ка, и улыбаются они и горюют, и пьют и едят, и женятся и разводятся, и ездят и ходят, – ну не удивительно ли? – думают даже где-то сходно, некоторые мысли так просто в десятку бьют. Я вижу, я чувствую их, – я вижу, как переваривается у них пища, я чувствую запах того, что готовится у них на кухне, – радость-то какая! Но чего-то Гостев не понимал… А ему отвечали: надуманно, слабо, не дотягивает до, потом ре, ми, фа, соль и так далее, по нотам, утверждённым для всеобщего громкого исполнения. А вы не то поёте и не так. О корабле – и без его капитана. Не типично. Ведь это всё равно что Новый год без Деда Мороза! Стиль для Гостева был его зрением, а оно в сущности было размытым, неизвестным пятном, которое легко для него, не для других, ложилось под кисть и объяснимо дробилось и множилось в картины, имевшие вполне благородные названия, несмотря на их кажущуюся абстрактность, что-то вроде: «Два красивых пятна» или «Три некрасивых квадрата», – в них было некое откровение, которое нужно было постичь, и не всякий смог бы это сделать, а только образованный соответствующим образом человек, такой как закавыченный Лёша, тогда ещё друг, лежащий (не путать с Лежачим) на пледе у реки, или упущенная девушка, она же Лариса Медникова, стоявшая у морозного окна, открытого в небесный мир разноцветной пустыни, истаявшей вместе с пальмами, минаретами и верблюдами, и то, только в том случае, если она вернёт автору портфель и поднимет вверх глаза. Но были другие названия, другие люди, которые вместо того, чтобы написать в газету и спросить: «Почему это так?» – стали писать книги и вышли в писатели, вместе с плохой работой торговли, связи, воздушного, водного и наземного транспорта, с новой формулой чего-то хитрого, над чем бьётся научный институт, завод, его скоростью, объёмом, недогрузом, перегрузом, технологией, недопоставками, перебоями, увеличением мощности, численности, качества, боеспособности, жизнестойкости и даже прямым вредительством. Они были густо перенаселены вечно крякающими дедами в шапках, сдвинутых набекрень, якобы олицетворяющих лихость, в портянках, символизирующих стойкий дух истории. Всем ведь хочется иметь свою историю. История и существует потому, что её хочется иметь. А народам особенно. Потому и выходит ложь, что «все средства хороши». Посоветовать художнику, указать ему где, что пририсовать: вот тут фигуру лишнюю замазать, она всё портит… а зачем это у вас один глаз нарисован? так не бывает, второй добавьте, как положено… а что это они делают? танец такой? нам неприличных телодвижений, вихляний нецензурных не нужно… приличный какой-нибудь танец исполните… ну, скажем, вальс, – вполне, вполне прилично будет… и зритель поймёт… поймёт и оценит. Понимаете, люди привыкли, чтобы на рубашке все пуговицы были, шляпа – чтобы с полями, ботинки к зиме – тёплые. Так и вы уж будьте любезны писать: сначала стелька, потом подошва.
У Гостева появлялось ощущение, что он сдаёт бутылки, а у него их не принимают: здесь горлышко отбито, тут трещинка, а у этих форма не та, импортные не берём. Он решил, что его творчество – это попытка создать систему доказательств самому себе. Им, бутылочникам, разве что докажешь? Итак, на приемные пункты больше не обращаться. Оставить занумерованные рукописи в покое. Бумаге – дать вольную. Последнее произведение Гостева было поэтическое.
СЕМНАДЦАТЬ
В её глазах блеснули слезы
А он сидел задумчиво и важно
Что наша жизнь пустыне Аравийской?
Всем бедам есть одна беда важнее
Что я люблю тебя безмолвно, безнадежно
Другим я быть хочу, себя же презираю
Во сколько лет познал ты мёда горечь?
Тебе, тебе одной моё посланье
Трамвай уходит, гаснет ночь
Заре навстречу жизнь уходит!
Твоё письмо хранить не смею
И в том залогом ваша честь
Когда б вы знали как мне больно
А дни становятся короче
Уют домашний ближе, слаще
Мы любим то, что мы едим
Народ всегда непобедим
Эти семнадцать строк служили Гостеву итоговым документом. Они были написаны перед майскими праздниками и положены в стол. Навсегда. На поверхности стола лежала книга. Теперь оставалось одно: читать и читать; небо в углу окна изменилось, – уже тёмное отражение ночи, возможной и даже обязательной потери, мельканье звёзд, крестов, цифр, обрыв плёнки, уход Чашкина, ведущего киноведа, пропажа фрески, вершина Эвереста в тумане, слово «конец», но это был конец дневных ожиданий, заканчивалась одна часть и начиналась другая, очень и очень многое теперь возможно только завтра, но кое-что можно сделать ещё сейчас, заглянуть на прощание в газету, вот хоть и праздник, а ВАШИНГТОНСКИЕ ЯСТРЕБЫ С КАПИТОЛИЯ ВНОВЬ БРЯЦАЮТ ОРУЖИЕМ, но ничего страшного и взрывоопасного, движение иссякает, выражение «успеть» исчезает, что определяется другим словом, глаголы к ночи умирают, остаются одни существительные, тихие и прозрачные, очень спокойные, они звучат односложно, без тревоги, с покорностью относясь к замене солнечного света банальным и сухим электричеством, небытие, чернота, тишина, нарушаемая лёгким шорохом переворачиваемых страниц и шорохом платья, словно вырезанного ножницами ночи, прямо на лестнице, платье, которое надо было видеть, и ещё суметь угадать сколько лет его обладательнице, её возраст терялся в его волнующих складках, её выразительное лицо – словно застывшее дыхание свечного освещения, его мгновенный отблеск, поворот шеи, посадка головы, вполне понятное великолепие для дамы её круга и тут же настораживающее затмение прекрасной интриганки – стоп, Делия Стоун, изображение, запечатлевшееся на сетчатке глаз бедного лейтенанта, не закрывало привычного изображения милой, пусть несколько капризной Амалии Бентам, надо им обеим немного отдохнуть, одна уже отдохнула сегодня, будем надеяться, в парке имени Культуры и Горького, где же еще? Лариса, милая, теперь ты уже, наверное, спишь, устала очень, лежишь и видишь сны, хорошие и добрые, даже не догадываясь, какое это ломкое чувство, сидела бы она вот здесь, в этой комнате, в углу, и что же? а то, что девушка в комнате – это совсем другая девушка, чем на улице, она наполняет комнату двояким смыслом, она и деталь её, которая притягивает больше внимания, и сама комната, в которую хочется тайно войти, но это только предположение, не мечта, нет-нет, этого слова надо бояться, какие мечты в самом-то деле, это уже что-то такое юное, чистое, наивное, это понятие женского рода, пусть она мечтает, ей это было бы более близко, а так, просто, приятно чувствовать, что можешь сделать твёрдый шаг, перебирать в руках возможности, как чётки, бросать на ковёр кости, чтобы посмотреть, сколько там выпало, какой ещё гранью повернётся к нему судьба, но вдруг заныло во рту, проклятая память, неудачная тема, зубная боль первомайских бус, первомайская боль зубных бус, перебирай их как хочешь, а ничего не помогает, нужны таблетки, заговоры, особая методика, согласно которой соблазнительно представить себе, что действительность мыслится комбинацией чисел, начать считать: раз, два, три, проходи зубная боль, проходи, четыре, считать, чтобы помочь себе, и вдруг сразу крикнуть: десять! – так больно от того, что числа о нас не думают, пойти в туалет, потом сунуться к крану, обнаружить пустую каплю, в которой не стало воды, и свет погас, и плюс электрификация – вот так подумать, затем вспомнить: у нас тоже есть свечи, они ужинают при свечах, мы будем читать при них, только вернуться к книге и чиркнуть спичкой, чтобы отпраздновать возвращение электричества, насчёт воды выяснить не удалось, «ура!» пусть кричат соседи, если они ещё не спят, куда им, рано ещё, бабушка вон не спит, шаркает где-то там в тёмных глубинах, но всё же затихает, пропадает боль, раз, два, а три уже не надо говорить, снова читать, только читать, в событиях книги есть последовательность, в его жизни нет, после прочтения – чувство должно оставаться в памяти или слово? – вот задача, ему её решать, сливаться глазами с текстом, проникать в него чутко, но требовательно, постепенно цепенея, холодея ко всему окружающему, пропуская через себя последние уходящие звуки: нарастающее завывание спешащего троллейбуса, салон почти пуст, одна опущенная голова, пара свесившихся рук, сухой, усталый зевок, его подъём в немыслимую гору, тёплую ночь, холодный космос, и всё же до слез, упругие дуги цепляют звёзды, луну, её серп слабым, рассеянным светом ложится на землю, выщербленный, неловкий асфальт, по которому слышится дробный перестук каблучков, сумочка, наверное, прижата к боку, спешит, волнуется, поздно, поправляет на ходу волосы свободной рукой, такая стройная, такая хрупкая, ах, как бьётся сердце и у неё, и у меня, любимая, моя любимая, милая, желанная, только тебе скажу одной или кто-то прошепчет ей вслед, дай бог человек хороший, да просто добрый прохожий, звёзды помогут тебе, и я тебе помогу, хотя бы тем, что подумаю о тебе и ещё раз скажу: любимая моя, моя любимая, это слово как звук поцелуя, обещание счастья, оправдание жизни, шар такой же, как Земля, надежда на то, что сегодня ты дойдёшь до дома, люблю тебя, люблю заочно, совсем не зная, может быть именно за то, что не вижу и придумываю тебя, моя прекрасная, такая желанная, за то, что одна ты, цветочек мой, и чувствуешь себя в этой ночи так же, как я, и слов моих не услышишь, да мне достаточно, что слышу их я, моя любимая, иди смело, ничего страшного впереди, всё тихо, опасности нет, нет насильника за кривым, покосившимся забором, неровности которого легко выравниваются плюсами мелованной любви, убийцы в тёмном подъезде, подвыпившего и горланящего что-то под гитару хулигана в беседке детского сада, но вот где-то песня пронеслась, не злобно, не развязно, голоса женские, свободные, праздничные, еле слышно, тут собака где-то сбрехнула и смолкла, огорчившись, тряхнув мордой, а песня прорвалась из-за домов, ее край хлопнул мягко, шутливо по чьим-то плечам, прошмыгнувшим в дверь троллейбуса, по тёмным, насупленным деревьям (неужели липы?), покачнулись ветви, спугнув кошку, и отозвалось: лю-ю-бимый мо-ой, ну почему-у-у-у – вклинился новый, спешащий в депо троллейбус, поймав свой ритм, ну почему, почему я читаю именно эту книгу, почему в подробном измерении она перевешивает все реальные отношения, такая милая, желанная, в которых для меня нет всё же подлинности, я не верю, жизнь для меня в каком-то смысле настолько проста, что у меня уже не возникает серьёзных, настоящих вопросов, и это «уже» делит меня без остатка для собственного развития в этой простоте, ну почему это так похоже на заклинание, на явный повтор, наши слова – это мы или то, чего мы не хотим, от чего освобождаемся? а мысли наши? но всё это протекало между пальцами какой-то чужой руки, когда книга не то, чтобы выпадала из рук, а просто становилась ещё одним ложем, на котором возлежит тело, так ему вернее и удобнее сберегать сон, бежавший от действительности случайными закоулками, оказавшимися настолько спасительными, что этот путь стоило выучить и повторять его в случае необходимости каждый раз, два, три, никогда не говорить десять, только читать, сравнивая эту книгу с той, которая клубится у него в голове, и находить, что его, пожалуй, получше, ведь она писалась уже бог знает сколько лет, с самого рождения, в ней было место для всех значительных дат и событий, и даже мелкие, совсем незначительные могли неожиданно возникнуть на её страницах, которых насчитывалось почти тысячу в каждом томе, а сколько тех томов было, это надо поинтересоваться в какой-нибудь всеобъемлющей библиотеке, куда входили по особым пропускам времени и желания, но сейчас времени совсем мало, гаснут все звуки, ничего лишнего, так он иногда засыпает, обрывая чтение на полуфразе, а днем это даже как-то очень уж низко выходит, однажды он, читая лёжа и уже расставаясь с иллюзией особой внимательности и острой работы пытливого ума, успел-таки глянуть в полированную спинку тахты и увидеть в ней отражение своего лица, очень далёкого для деятельного восприятия времени, очень близкого к поверхности озера, по которому пущенный в познавательно-игривые прыжки камешек не скачет, сигая рекордное число раз (десять – никогда), а сразу идет на дно, вызывая зевотные круги забвения, и так ему стыдно стало от того, что день похож на подслеповатого, жующего что-то ленивца, зацепившегося за ветку случайного дерева, он вроде бы добрый такой, беззащитный, а вот же откусывает по листочку от Гостева, дерева неопределённой, но всё-таки годной для всяких работ породы: край близок, обеими руками он держится за него, опустив голову, дыхание учащается, десять, но уже поздно, сознание сворачивается удобным клубочком на палубе корабля, плывущего в Индию, к Малабарскому берегу, там тоже ночь, легко быть романтичным будучи книгой, а не человеком, но почему в книге лучше, чем в жизни? сколько бы он продержался на так называемой воле стопроцентно совпадая с самим собой – минуту, пять? десять никак нельзя говорить, идти по улице после прочитанного и жить под впечатлением, под крышей старого, добротного дома, сооружённого на века, на средства тех, кто не спал ночами, всю жизнь проживших почему-то в городе Куйбышеве, каждый шаг, как строчка, как трепещущий на ветру листок, его словарный запас теперь – ого-го! – читай себя с любой страницы, всё о себе и обо всех узнаешь, но это глава четырнадцатая, последняя, сейчас станет понятно почему, почему велико искушение, тяжела утрата, когда бабушка открывает дверь и спрашивает: Юра, ты спишь? спрашивает озабоченно: Юра, иде ты? видя перед собой пустую комнату – кто крикнет «десять»? – в которой нет Юры Гостева, чуткого и требовательного читателя, начинающего писателя, просто внука и человека, и никак не может она взять в толк, что лежащая на столе толстая книга есть именно Юра Гостев, – кому теперь его или её перелистывать и читать? рассматривать иллюстрации и ставить на полку? – перешедший в иную, печатную веру почти случайно, проморгав пару морских, на подходе к Индии, строк, споткнувшись об не совсем удачное, длинное предложение, увязнув в его глубинах, теперь он оттиснут и переплетён, но бабушка, милая бабушка, я здесь, я живой, как бы не выглядело это необычно, у меня всё в порядке, так надо, не спрашивай почему, я сам ещё многого не знаю, теперь слушай: тебя что-то отвлечёт, ты выглянешь на секунду из комнаты, чтобы проверить квартиру и себя, свой рассудок, а когда вернёшься (ты говоришь: «вёрнешься»), в постели будет лежать спящий Юра Гостев, его появление будет конкретным, по поводу бабушкиной озадаченности и скорого, готового высунуть частый язык, липкого страха за эту ночь и будущее утро, а также все последующие дни, отсчёт которых так таинственно начат: раз, два, три, избегая говорить десять, через день на работу, где всё сначала, впервые, даже Лариса, которой теперь не было места, а в памяти Гостева зияла огромная дыра, затягиваемая поспешными, но готовыми для тревожного пользования выражениями, и надо было почему-то обязательно помнить, что жучок – причина пожара, а «жи-ши» пишется через «и», и это было очень странно, всё свидетельствовало о том, что он засыпал в сложных, подчас противоречивых исканиях, с затаённой болью в сердце ещё и по поводу его сына, а также неизвестного звонка, свечения в небе, замёрзшего окна, и тут был нужен чуткий и проникновенный художник, который яркими мазками со своей психологической палитры, что называется в задушевной манере, отобразил бы этот переломный момент и воссоздал гигантскую фреску, повествующую о....
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































