Текст книги "Исчезнут, как птицы"
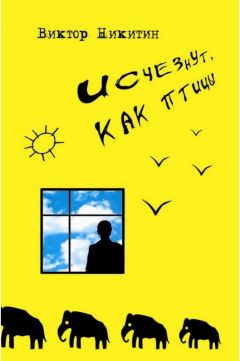
Автор книги: Виктор Никитин
Жанр: Жанр неизвестен
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 11 (всего у книги 35 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
В Вале Пальчикове после той ужасной ночи произошли разительные перемены. Он стал серьёзнее, меньше улыбался и шутил с товарищами. Они заметили это, потом обнаружили и причину такой метаморфозы, – никак ей не укрыться было от соболезнующих, дружеских взоров: большая и широкая, она часто попадалась рядом с их Валей, вдруг оказавшимся потерянным для них навеки, – то они пирожки с повидлом, так называемые «кручёночки», едят в студенческом буфете, запивая их томатным соком, и Валя при этом непривычно сдержан и тих, то по улице идут и молчат, и молчание это очень длительное, километра два или три этак протяжённостью. Свой диплом Валентин тоже вместе с ней писал, просиживая вечерами в общежитии. Шутки кончились вовсе. Друзья заволновались. «Что ты делаешь, а? – с тревогой и светлой надеждой на всего лишь временное помутнение разума друга, спрашивали они его. – Ты посмотри на неё получше! Совсем ослеп что ли?» «Да? А что такое?» – будто бы искренне и в то же время лениво удивлялся Валентин, совсем не интересуясь тем, что ему будут втолковывать его заботливые спасители. «Да у неё одна рука как две моих ноги!» – в сердцах замечал один из них, крепкий телом и высокий ростом. «Она… добрая», – неуверенно и почему-то вдруг шёпотом отвечал Валентин. «Про косу не забудь,» – вежливо наставлял другой. А Валя уже ничего не отвечал, он зевал. И тогда ещё один, самый образованный из них, вздыхал: «Сон разума рождает чудовищ». Но всё это проходило мимо, забывалось, а потом переименовывалось, рядилось в новые одежды и приглаживалось, и ничего такого дурного Валентин Пальчиков не замечал в своей новой жизни или откровенно не хотел замечать, раз уж так она складывалась.
Свадьбу сыграли в той же комнате общежития, приведшей его к такому знаменательному итогу. Число, день были те же, но месяц – другой, осенний, урожайный, щедрый как и деятельность человека в эту пору на плоды, и это непредумышленное повторение выглядело своеобразным юбилеем задушенной любви.
«Что ты в ней нашёл, а?»
Это невозможно было понять, тем более в таком утреннем гаме, когда ещё и воробьи на подоконнике так тревожно и надрывно о чём-то зачвикали, что… что… но что это должно было означать, на что наводить мысли, Валентин Степанович не смог себе объяснить, он утомился скрести вилкой по пустой тарелке и как-то небрежно, с лёгким замешательством, выронил её из рук, чем вызвал судорожное движение жены, оторвавшейся от плиты и чуть было не спросившей, если не выкрикнувшей в раннем, неоправданном обострении: «Что тут такое?» А вот что: за всеми этими размышлениями он незаметно съел всё, что лежало перед ним на тарелке. Кто это говорил: не хочу, плохо себя чувствую, тошнит, нет аппетита, смотреть на еду не могу, пить, только пить, воду? Казус – ещё и какой! Теперь ему совсем плохо. Может быть не пойти на работу? Из объяснительной: «…так как плотно позавтракал и не смог себя преодолеть…» Уважительная причина. Но кому её сообщить? И надо ли это ему делать?
– Чай будешь? – спросила Вера.
Валентин Степанович тяжело нагнулся и поднял вилку с пола. Понимает ли она хоть что-нибудь? Как же… Бесполезно. Похожа на курицу, которая снесла яйцо. Очки нацепила. Там линзы вот такие (он про себя отмерил сгоряча сантиметров десять) – молотком не разобьёшь.
– Будешь чай, я спрашиваю?
Он хмуро кивнул и полез вилкой за спину, так как испытал вдруг нестерпимый зуд. С чего бы это? Она? Приглядись к ней получше. Жена – это почти что не женщина. Когда с ней спишь – её уже не видишь.
– Сам наливай! Я занята.
Лучше не глядеть. «Она меня совсем не любит», – подумал Валентин Степанович. Себя он любил, ненавидел и боялся. Он подошёл к газовой плите и потянулся правой рукой через плечо стоящей к нему спиной жены к чайнику, стараясь не мешать ей, для чего левой растопыренной ладонью как бы оберегал её возможное движение назад.
– Осторожно, а то обваришь! – прервав работу, но не обернувшись, заметила она. Валентин Степанович на мгновение замер, сразу же сжав ладонь в кулак – так кожа зудела! Такое сказать, а? Какая подлость – так сказать, так подумать! В который уже раз! А зачем? Ведь ни разу же не было этого! И это ответ на его предупредительность? Иного не дождёшься. Чего захотел! Это же всегда так было, что в отношениях между мужчиной и женщиной заключена какая-то ускользающая от честного взгляда подлость. Едва её только стоит выявить и распознать, как отношения заканчиваются. И ничего хорошего вообще быть не может! Сесть на шею, на голову, подгонять, требовать – вот их задача! Ещё бы и родить как-нибудь за них, если бы это было возможно! – как кипятком обожгло Пальчикову мозг, он даже не заметил, как за столом очутился, – так это всё вдруг захватило и просветило его в направлении весьма далёком от обстановки, царящей на столе, на котором вместо однажды разбитого Верой заварного чайника высился служивший им керамический кувшин с круглой крышкой. За него и взялся Валентин Степанович всё той же левой рукой, которая не успела прежде послужить предупредительной ладонью, затем побывала кулаком, а теперь вот – ая-яй! какая невыносимая оплошность! – являлась слепком выскользнувшей из её легкомысленного обхвата ручки неудобного, злополучного, поганого этого кув… нет, того, что осталось от него.
– Я так и знала! – всплеснула руками Вера.
«Ну что теперь, задавиться?» – подумал Валентин Степанович. Трагедия. Наказание. Бежать-то куда?
– Что же у тебя руки такие нескладные, а? Куда же ты смотрел? О чём думал? – запричитала Вера.
– А ты сколько побила? – попытался оправдаться Пальчиков.
– Я? – широко удивилась она. – Поговорить захотел? Когда это я разбила?
– А вот!.. – тщетным воспоминанием заряжая голос, возвысился Валентин Степанович. – Чайник заварной!
– Какой заварной?
– Чайник!
– Какой чайник?
– С цветочками…
– «С цветочками?» – передразнивая и уже закрепляя, как с удивлением понимал ничего не понимающий более Валентин Степанович, своё обиженное преимущество, вопрошала Вера и заявляла тут же: – А не ты ли это сделал? Вспомни-ка хорошенько!
Она стояла напротив него. Уверенная. Прямая. С тряпкой в руке. Вот так же, как тряпку, она выжимает меня, подумал Валентин Степанович. Нет, так больше продолжаться не может. Пойти застраховаться что ли, от несчастного случая, – вдруг убью кого-нибудь? А вслух сказал: – Ладно. Пусть так. Я что, специально?
И горе. Какое горе в глазах!
– Выходит, что так.
– Ну да, – пробормотал он. Долгие годы готовился. И вот свершилось. Тема для письменного откровения: «Самый счастливый день в моей жизни».
– А как же иначе? – не отступалась Вера. – Мне вообще кажется, что с некоторых пор ты многое специально во вред делаешь.
– Как – во вред?
– А вот не знаю. Ты в себе разберись!
В себе. Разобраться. С некоторых пор. Уж не со студенческих ли лет? Это была правда, но не вся, лишь какая-то её необъяснимая часть, и он не мог больше об этом думать, потому что вспомнил вдруг, что на работу ему сегодня добираться придётся общественным транспортом, а это неизвестно ещё сколько времени займёт, так он отвык от всей этой суеты, она и так давила на него каждодневно через тысячи других мелких вещей, в которых проходилось разбираться до тошноты, до странного ощущения сухости во рту, устраняемой только несколькими чашками горячего чая, и теперь, перед выходом на улицу, в самый раз было подкрепиться его живительным ароматом, наполненным обещанием чего-то светлого и стойкого, к чему, вероятно, и стремился Пальчиков Валентин Степанович на протяжении нескольких последних лет. Чайник был горячий, коричневый и пузатый. При взгляде на него Валентин Степанович ощутил, как тело его уже пропитывается тем кипятком, который ему предстоит выпить, как у него по плечам, под мышками собирается жаркая, липкая влага, наполняя его ещё и заваркой – душистой, чёрной, крепкой до ломоты в зубах. Он, Валентин Степанович, больше, чем какой-то чайник вместит в себя жидкости, в нём больше жара, бодрости и опьянения. Чай – индийский. Слон на коробке. На слоне сидит кто-то. Голый, загорелый. Хорошо ему. Тюрбан. Опахало. Прохлада. Выверенность настроения и состояния окружающего мира. Чистота. Валентин Степанович шумно потянул из чашки, сделал удовлетворённый выдох. Хорошо и мне… И снова, долгожданно обжигая язык, Валентин Степанович шумно потянул из чашки, из стародавней, еще детской своей сине-белой чашки с отбитым краешком, маленькой выемкой, чёрной щербинкой, пещерой или бухтой, где можно было затаиться и отдохнуть хотя бы несколько минут от обязанностей гражданина, супруга, просто человека, закованного в обязательные городские доспехи, и сделал удовлетворённый выдох: песок, зной и неожиданное море рядом; ему теперь тоже неплохо, настолько, что можно даже не обращать внимание на скандалёзные происки жены, он проникся духом индийского чая, его медленной, завораживающей песней, исполняемой нездешними инструментами, у него тут, на кухне, своя чайная церемония, которой всё же не хватает времени, чтобы обратиться в полновесный, подобающий его, Валентина Степановича, обыкновению, ритуал. Дым, кольцами кверху, обнимающий невидимый ствол, извив аромата в ломкую вертикаль, тонкий стан, дрожанье струн, восточный танец, ещё пара тактов и совсем уж по-азиатски, то есть грубо: «Ты не заснул?» Нет, он не заснул, он уже в коридоре, кряхтя надевает ботинки, – пора бы их сменить на летнюю обувь, босоножки что ли? – разгибается от пола и, отдуваясь, отдаёт тепло своего сердца, жар, выступивший пот, холод, растерянность, злость, негодование, сомнение, обиду ставшей рядом жене, щёткой чистящей на нём пиджак (пятнышко заметила), всё ей, спрашивающей весьма трогательно, не к месту, не ко времени, вообще не к возрасту: «Платок носовой не забыл?» Он хлопает себя по карману, нет, это становится невозможным, какая-то пропасть, – колдовство? Он хлопает себя по лбу, бьёт себя в грудь, разрывает на себе одежду, он кричит: да-а!!! Он кричит: не-ет!!! Конечно, нет. Разве он идиот? Ничего этого он не делает, он молча хлопает дверью и выходит к лифту. А жена Вера, снимая очки, фартук, ненужную теперь строгость, напряжение, – всё это большими, похожими на ноги руками, – превращаясь в обыкновенную полную женщину, измученную подозрениями, но не работой, которая только по дому, вздыхает: «Эх, дура я, дура», и спрашивает себя весьма и весьма неожиданно: «И что я в нём нашла?»
Глава шестнадцатая
Некий символ
Когда – такое, когда – не такое, иногда совсем дурное. Что тут поделаешь? Эпитет – оправдание существительного, как явления, это в любом случае признание того факта, что оно существует вне разного к нему отношения. Когда его немного, да ещё и в холодной воде, оно светит всем, бывает богом в колеснице, в ладье, под ним творится зло, оно светит да не греет, такое ласковое, холодное, желанное, сумасшедшее, убийственное, жёлтое, красное и чёрное, – какое угодно… Солнце выкатывалось навстречу Валентину Степановичу преждевременно раскалённым для мая шаром, оно пробегало по горящим трамвайным путям, которые так влажно и густо змеились вслед за уходящим трамваем, что их казалось намного больше, чем есть на самом деле; оно отблёскивало в жирных поверхностях и колпаках мелькавших мимо машин, и Валентин Степанович с удивлением отмечал, глядя на огромный, вытянутый ввысь по зданию почты термометр, что с утра уже двадцать пять градусов нажарило. В то же время дул ветер, поднималась пыль, и уже с другим, не меньшим удивлением, он замечал, что с какой бы стороны он ни шёл, куда бы ни шёл или откуда бы ни возвращался, в какое бы время суток, утром ли, вечером, а всегда, с каким-то упорным постоянством, ветер дует прямо в лицо, горстями, так что приходится жмуриться, появляется нелепое, кислое выражение лица, глаза всё более становятся узкими, они уже практически не нужны, так только, щёлочки скоро останутся вместо глаз, чтобы только видеть, куда ставить ноги, чтобы не упасть, не поскользнуться, не провалиться в яму. На улице было много народа, и он никак не мог найти себе место в людском потоке, чтобы двигаться в согласии с общей картиной рабочего утра. Он шёл к остановке – и учился ходить. Странное состояние. Непривычная открытость. Поле, простреливаемое отовсюду сотнями взглядов. Любой жест, любое слово могут касаться его лично. На него «что-то» подействовало – слабое, судорожное выражение, попытка выразить тревогу, которая действительно зацепилась в душе Валентина Степановича неприятно колкими и мохнатыми лапками ожидания. И вот, пожалуйста. У него спросили время, громко, сбоку, над самым ухом: кто-то (лица он не разглядел, – солнце) спросил походя, спеша: «Который час?» Этот вопрос ему показался бесцеремонным, низводящим его до уровня выхваченного из толпы прохожего, которого можно ещё и по плечу хлопнуть или осадить, если бы он пытался протестовать, несколько даже презрительным, как будто спрашивающему особенно-то и не нужен был ответ, или он, никак не называя Валентина Степановича, относясь к нему безлично, всё же полагал его ответ само собой разумеющимся и нужен он был ему просто так, на всякий случай, ради некоторого уточнения, которое можно было впрочем и не делать. Всё это так, приблизительно, учащённо дыша, через плечо, на ходу, вполне совпадающее с таким же приблизительным ответом: восемь или полдевятого. Выглядело это так, словно он был случайным человеком не только для окружающих, но и для себя самого.
Потом обнаружилось, что у него нет с собой денег. Уже и трамвай подошёл, он полез в карман брюк и нашёл там пустоту, не ведающую хотя бы о мелочи на проездные талоны. Некоторое замешательство, вызванное этим примечательным случаем, легко разрешилось для Валентина Степановича в пользу если не тяжёлого, то всё же нежелательного решения: пойти позвонить жене. Автомат был рядом. Беря в руку трубку, он вспоминал номер своего домашнего телефона. Затем толстый указательный залезал в дырочки с цифрами и начинал накручивать диск: три, снова три, два… Стоп. В трубке не было гудка, она была немой, искалеченной, мёртвой. «Э-эй, сундучок?» – игриво спросил Валентин Степанович обшарпанный, стального цвета аппарат и несколько раз постучал по рычажку, тщетно вызывая его к жизни. Обе стороны нависшего над ним зелёного козырька были испещрены номерами и надписями, среди которых взгляд Пальчикова выхватил две: «Дам любому кто позвонит по тел…» (дальше замазано) и «Все бабы – суки!» Неудачный взгляд. И совершенно непонятные действия. Как он собирался звонить, если у него нет двух копеек? И, наконец, что он сказал бы жене: «Вера, я бумажник где-то забыл, ты мне его принеси?» Куда? На остановку? А самому сходить? «Что со мной?» – прошептал Пальчиков. Какая нелепость! Уйти куда-нибудь и дня два отлежаться. Первое и самое яркое ощущение: он занимается чем-то не тем, как если бы зимой он искал подснежники. Сон. Плащ. С него всё началось. Тут какие-то шебутные ребята перебежали дорогу. Голоса ломкие, прыгающие между собой, совсем ему непонятные: «Я те сказал, слышь?» Громкие, бесцеремонные… Молодёжь. Есть у него на её счёт подозрения. Ещё одна задача. Что-то из недосмотренного сна.
Плохо то, что он идёт по улице, глядит по сторонам и ничего не может запомнить. Всё проходит мимо него, его мысль не проникает в суть явлений. Из чего складывается жизнь? Даже тех мелочей, которые придают ей неповторимый вид, он не видит. Внешняя оболочка. Поверхностное скольжение. Можно глядеть в лицо человеку – и не видеть его. Слушать его – и не слышать. Ожидание. Оттяжка неведомой встречи.
Звонок: трамвай. Предыдущий был битком набит, этот же –неправдоподобно пуст для утра. Зайцем, пусть даже не закоренелым, Пальчиков быть не хотел, пришлось ему стать рассеянным и забывчивым пассажиром.
Он сидел во втором вагоне. Стучали колёса на стыках, в приоткрытое окно дул растрёпанный ветерок с полей. Трамвай быстро выбрался на окраину города, и теперь Пальчиков рассматривал однообразный пейзаж, состоящий с правой стороны, где он сидел, из утыканного вентилями трубопровода, протянутого по земле, опушённой свежей травой, и такого же параллельного движению трубопровода на эстакаде. Потом этих трубопроводов стало больше, ещё откуда-то вытянулись, обнялись с предыдущими и понеслись на фоне куч строительного мусора, разбросанного там и сям по неровной, холмистой местности, и грязно-серых, в узорах треугольников, бетонных стен, за которыми высились красно-кирпичные трубы. Вентиля парили, трубы дымили. Слева рос смешанный лес.
Пальчиков вышел на конечной остановке. Вагоны сделали неловкий, словно состоящий из одних углов, визгливый круг и Валентин Степанович спрыгнул на асфальтированную дорожку с отбитыми краями и поймал относительную тишину, она дышала ему в уши: где-то сзади глухо и редко лаяла собака; он оглянулся; он оглядывался, как будто впервые сюда попал, да так оно и было, никогда прежде не подъезжал он к месту работы именно с этой стороны; он оглянулся, слёзно прищурился, подняв руку к глазам, и скупо чихнул, прикрывая рот, рванувшийся навстречу солнцу (весьма краснорожему светилу), в направлении деревенских домов, видневшихся за кустарником и шелестящими от ветра тополями, где почти у самых рельсов, но за трамвайным кольцом, далеко уйдя со своих дворов, вышагивали, нервно вскидывая свои крошечные головки, куры. Пальчикову надо было идти в обратную сторону. Навязчиво пахло сиренью, прогретым чернозёмом, мазутом и почему-то пивом, хотя пивного ларька или какого-нибудь магазина рядом не было, может быть, пролил кто-то? – подумал Валентин Степанович, хотя думать ему надо было о другом, стрелки его наручных часов приближались уже к десяти, а он всё никак не мог… вихрем обдал его пронёс-шийся совсем рядом тряский, как обычно наглый, заляпанный раствором, так что номера у мерзавца нельзя было разобрать, грузовик… не мог добраться на работу, и он двинулся вслед за ним, кашляя в облаке пыли, – вот сволочь, вот гад! Навстречу Пальчикову, из другого облака, выехал, повиливая, мальчик лет двенадцати на дребезжащем «Орлёнке», в очках и милицейской фуражке, с горкой книжек на багажнике; он глянул тяжело на Пальчикова, потренькал звонком, сказал «би-би» и вздохнул – приходилось подниматься по неровному серому асфальту в гору. Валентин Степанович отчего-то смутился и ускорил шаг. Через минуту не выдержал, оглянулся: сверкали спицы, неловко соскальзывала нога с вертящейся педали, мальчик уже запрыгивал на ходу в седло, приторочив фуражку, успев сменить свой любопытный взгляд на безразличный солнечный затылок. Что-то странное, даже знакомое. Да нет, ничего особенного. Случайность. Глупость. «Ну-ну, спокойнее», – подумал Валентин Степанович и споткнулся: камень, разбитая бутылка под ногами, а подальше, у серой бетонной стены, в её вертикальном разломе (теперь надо шаг замедлить, идти потише) целая, в руках суетливого, часто шмыгающего носом человека в выцветшем фиолетовом берете, в замызганной спецовке с белоснежными рукавицами, свисающими из бокового кармана. Вот и вторая появилась из чёрной, заросшей сорняками дыры, блеснуло горлышко, вытянулись чьи-то заботливые руки, – передача с опоясанной стеной территории, нарушение, вынос, лазейка, возможно, хищение, сокрытое от посторонних глаз, но не от напоровшихся на эту неприятную сцену – что бы ему раньше пройти или позже? – глаз Пальчикова Валентина Степановича, ставших даже и виноватыми несколько оттого что был он случайным прохожим, а стал вот свидетелем, с чем никак не могли согласиться устремившиеся на него глаза принявшего злополучную пару, так и напомнившие ему властно: прохожий ты, после чего неизвестный громко высморкался себе под ноги, сноровисто утёрся натянутым на ладонь рукавом и заковылял, повернувшись спиной к прохожему и только прохожему, вдоль стены по узкой, основательно вытоптанной тропке. Валентин Степанович подождал немного, потом осторожно подошёл к дыре и, оглянувшись по сторонам, заглянул в неё. Доски от расщепленного ящика, бывшая тара, пустая консервная банка: запах томатного соуса, сразу наводящий изжогу; след чьей-то ноги, тяжело впечатавшийся в землю, какой-то варварский, грубый, от души видно шагнули, и ещё следы, другие, совсем рядом… фу ты! хамство какое!.. над которыми вились мухи. Значит, след, а в нём дымящийся окурок. Тоненькая струйка дыма. И ещё – одна, вторая, третья… Потолще, повыше, дальше, впереди, – там трубы дымят, вытягивая в голубое небо чёрные рабочие минуты. Скотство. Бардак. Валентин Степанович вздохнул и шагнул в пролом.
Снова рельсы. Не трамвай, – железная дорога. Дальний гудок – близкий смех. Звяканье металла, брошенный мотор на дороге (какой?), шорох щебня, ветер – умеренный. Рабочие прошли навстречу, женщина в синем халате – никакая. У всех лица страшно одинаковые, такие: а пошел-ка ты… Пальчиков никому не сказал «здравствуйте», и ему никто не сказал «здравствуйте». Он никого не знал, и его тоже никто не знал.
Он спустился по узкой лестнице, бережно держась за шаткие ржавые перила, и скрылся в облачном шипении вентилей; потом вынырнул на подъёме широкой лестницы, которая… А это ещё что такое? Вода, её плеск, журчанье, пахнет не пивом, – внезапной струёй, вот она: прямо на глазах пучится асфальт (Пальчиков уже поднялся к четырёхэтажному жёлтому зданию), обваливаются его кромки, сочится влага… Не замочить ноги. Обойти. Он берётся за ручку двери – сдержанный гул вентиляции, полуподвальный этаж, полуокна выглядывают из-за решёток, – но прежде оборачивается, застигнутый врасплох вездесущим солнцем: оно быстро блестит в растекающемся ручейке. Внизу пахнет разваренным горохом, вроде бы какао и ещё борщом. Из полумрака внутренней лестницы он входит в столовую. Его встречает шум утренней готовки: стук ножей об разделочные доски, женский голос, похожий на подгоревшую сковородку: «Валь, ты соль сыпала?» – где-то сбоку крышка стремительно съехала с кастрюли и звонко заплясала на кафельном полу… дым, подземный жар. Нет, горохом всё же больше… Пальчиков подходит к плите, тряпкой снимает крышку с ближайшей кастрюли – ах, горячо! – и внюхивается. «Ну как, Валентин Степанович?» – к нему подлетает повар, маленькая, полная женщина без шеи, в белом колпаке, с ярко накрашенными, почти кровавыми губами, и вопрос её от этого кажется жгучим и сочным. «Приятно», – отвечает Пальчиков, облизывая свои сухие губы, задыхаясь от её размалёванных губ. – Приятно пахнет». Она хихикает, приглашая его посмеяться, но он уже выходит из кухни и останавливается у одного из столиков в зале, под висящим на стене натюрмортом с дичью; берёт в руки пустую солонку и слышит сзади всё ту же подгоревшую сковородку: «Валь, а Валь?..»
На первом этаже безлюдно, только где-то за дверью одиночные выстрелы печатной машинки вбивают пространство коридора в деловое многоточие. Валентин Степанович на четвёртом этаже. Снова никого. С чего бы этот лёгкий трепет? Он тихо открывает тяжёлую дверь, обитую красным, и входит в маленькую полутёмную комнатку, приёмную с тремя телефонами на столе и неожиданным диким лимоном в горшке на подоконнике, видным между сдвинутыми зелёными шторами. Ещё одна дверь, полегче, попроще, за ней ковровая дорожка, простор, здесь бессолнечный воздух, приятный сумрак, мягкая тяжесть которого удобно вдавливает тело Пальчикова в кресло. Наконец-то: он откидывается на спинку, пряча руки под стол, закрывая глаза, и вдруг, словно очнувшись, спрашивает себя: «А, собственно говоря, что я здесь делаю?»
Это удивление при виде рухнувшего минуту назад здания, казавшегося таким прочным. Пыль. Рваньё и обломки. Надо что-то делать.
Сразу всё стало конкретным и острым: речь шла о предназначении. Телевизор в углу и магнитофон (сладкоголосая птица «Филипс») сейчас были не в счёт, их цветное и громогласное «я» заявляло о себе в иные минуты; особенно настаивали на своей ответственной функции телефоны, их тут тоже три, а вот поговорить не с кем, хотя они прямо-таки раздирались от оглушительного, резкого и звенящего в них молчания, – ну почему, почему никто не снимет трубку?
В верхнем ящике стола, монументального и угловатого лентяя (он скрипел и зевал, на нём надо было подписывать бумаги) с правой стороны среди прочих других вещей: носовой платок в пятнах крови, водочная этикетка с надписью «Старка», шахматный конь с откусанной мордой, лежала недавняя фотография хозяина кабинета, проклятого невидимки, некоего символа, начальника треста, увы! – Пальчикова Валентина Степановича, сделанная на анкету для несостоявшейся из-за болезни жены поездки за границу, в результате чего был отложен его отпуск. На снимке бритое, какое-то голое лицо, так что его хотелось закрыть руками от всеобщего обозрения. А если набраться смелости и себе признаться, – бледная и лысая слепая харя взирала на Пальчикова, в свою очередь смотрящего на неё в приоткрытый ящик. «У-у, брат, крепко ты сдал…» Лицо на фотографии сыто-усталое, шибко погулявшее. За таким лицом видны горящие избы, конный отряд в конце села, пепел по ветру, испуганный сельчане, шёпот «господи, пронеси!» и спокойные слова того самого усталого всадника, невольного зачинщика всех бед, горестного атамана, не ведающего, что творит, сказанные им с коня в ответ на протянутый каравай хлеба, пляшущий в дрожащих руках пожилой женщины: «Спасибо, мать». Герой междоусобной братоубийственной войны. На нём отсветы бессмысленных погромов, веселящих кровь налётов, отпечаток какого-то ухарства, «гой еси», бывшего в прошлом. Это не вихрастый, юношеский завиток и даже не «Валя – вор!» Тут плаката не повесишь. Такой сам кого угодно повесит, подумал Пальчиков о том, кто был изображён на снимке, потому что себя считал совершенно другим человеком. Он не то что зло кому-нибудь причинить или бесчинствовать попусту, он крика не любил и ничего резкого вообще не выносил, ведь если человек кричит, значит он недоволен собой, а он, Валентин Степанович, не заснятый, а нату-ральный, всё ж таки – ну как? доволен он собой? Пальчиков вздохнул и жёстко скрипнул лентяем. Как не крути покорёженную морду коня, фигуру шахматную (пальчиковская мысль: интересно, какая я фигура?), телефонный шнур, карандаш в руках, пуговицу на пиджаке, а стал он руководителем словно бы в беспамятстве, – штрихи лет незаметные, но действенные, дрожащие от приятельского хохотка, словно та развесёлая, общажно-гитарная братва какой-то волной (ужель того Дона, по которому гуляют?) вынесла его к возвышенности, зубцу посреди фальшивого океана возможностей и застрял он на нём не по своей воле краем того самого пиджака, через который так неизбежно познакомился с Верой, своей женой, ставшей для него и направляющей силой, и теперь вот вынужден быть серьёзным и донельзя ответственным. Только ведь подвигов никаких. Ноль свершений. Одна усталая видимость результата.
Вру. Вру. Пальчиков встал и начал снимать брюки. Не так обстоит дело. Начал складывать их, перекинув через руку, с поклоном, чуть ли не приветственный жест от себя совершая, извольте, мол, прошу вас, выравнивать их длину, прижав к ним подбородок и полуоткрыв рот. Длинная рубашка с вырезами по бокам, хорошо волосатые ноги, плотный задок; брюки и пиджак начинали лосниться. Кабинет, комната отдыха. Снова вру.
Иной раз, крепко выпив, он совершал немыслимые с точки зрения того трезвого, взвешенного отношения ко всему, что усаживало его в руководящее кресло, поступки. И он вдруг оказывался буяном, запертым в укромной, питейной комнате и обстоятельствах, – попробовал бы он «почудить» перед подчинёнными! – но как раз в условных, часто лицемерных теснинах и особенно, как-то слёзно даже, хотелось разгуляться. Такой вот момент. Посмотри, как дрогнуло горло: «Эх, жизнь наша!..» И тогда жалеть себя, жалеть годы, которые его не жалеют, безрадостный пейзаж за окном, – сразу осень, почему-то осень в глазах в любое время года, пейзаж расхлябанности и незавершённости, ни тебе руки мастера, ни богатства красок, содержания, единства замысла, особенно жалкий кран с его горестной худобой длинной, ребристой стрелы, сквозящий контур, тоскливая пустота.
Жить было сложно, жить – приходилось. Совершенно не поняв даже, что послужило толчком для подобных мыслей, хотя… может быть, долгое сидение у экрана телевизора в выходной, настолько долгое и бесконечно расслабленное, что он даже перестал понимать и видеть то, что видит, – он вдруг подумал, какое для него значение имеет его занятие работой, его подход к ней, как к основному делу в жизни, весьма похожему на увлечение своеобразной идеей, как если бы проникаясь телевизионной жизнью, охватывающей через передачи весь ход политики на земном шаре, Валентин Степанович совершенно искренне полагал себя причастным ко всему, что происходит в Америке, Европе, Азии и за счёт увиденного в чём там люди по улицам, на каких машинах ездят, что едят, каков курс доллара на токийской бирже и каковы виды на урожай в Австралии, поднимался в собственных глазах на высоту совершенно отличную от той, на которой он находился в своём родном городе, тоже вполне достаточной, чтобы сознавать, что кто-то ведь и улицы метёт, и трамваи водит, а то и похуже бывают случаи, нащупывающие в жизни не середину даже, а низ, самое дно которой неэстетично пахнет свалкой и пивной подворотней. Так вот, это его увлечённое проникновение в экран телевизора, а также в газетную информацию давало ему торжественный повод для ощущения себя кем-то большим, чем он является на самом деле. Он приобретал особое, всечеловеческое значение. И что с того, что об этом не догадывались ни жена, ни окружающие его люди? Его ум обладает более широкими полномочиями, чем возложены на него работой. Работа – это узкая, накатанная колея, ни вправо шагнуть, ни влево. А ему… Пальчиков открыл шкаф, брюки повесил на вешалку рядом с прикреплённым внутри, на стенке, рекламным календарём, на нём Индия, национальный колорит и самобытность отражены в изделиях из бронзы, латуни, меди и слоновой кости, мастерски используется и дерево – ореховое, чёрное, розовое, темы этих изделий – герои мифов, легенд, сказок… В Индию что ли рвануть? Смотаться на пару недель. Взять наконец-то отпуск. Внимание! Внимание! Произвел посадку самолёт «Аэрофлота» рейсом Москва-Дели. И сразу толпа людей в белых одеждах. Смуглые лица. Жестикуляция. Крики. Рикши настойчиво предлагают свои услуги, танцы на раскалённых углях; ручные обезьянки, опьянённые дудкой кобры, величественные храмы, древность, извлечённая из выловленной в океане бутылки. А дальше слоны, бенгальские тигры, фрукты, океан: чтобы его волны пятки ему лизали. Лежать на песке, раскинув руки, и смотреть в безоблачное небо. Тишина. От одного лишь шелеста пальм можно забыться. Развеваются бурнусы, тюрбаны, сари – или как их там называют… В общем вазы, кувшины, кумганы, конфетницы, пепельницы – каждое из этих изделий способно увлечь в мир прекрасного, пёстрый, причудливый мир «Клуба путешественников». Вдруг заурчал экскаватор за окном, словно вёсла в гигантских уключинах заскрипели, Индия закрылась дверцей дерева не орехового, чёрного или розового, а обыкновенного, всё вдруг стало обыденным, плоским, ничего у тебя в жизни нет, что себе заработал? ходьбу боком, развенчание, как если бы имея внешний респектабельный вид за счёт дорогого костюма (которого у Пальчикова не было), новой обуви (была) ухищрений парикмахера (ну-ну!) и прочих, прочих, расставшись с одеждой, вдруг обнаруживаешь, что ноги в венозных жилах, на груди некрасивые шрамы, тело в язвах, и вообще ты человек без брюк.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































