Текст книги "Исчезнут, как птицы"
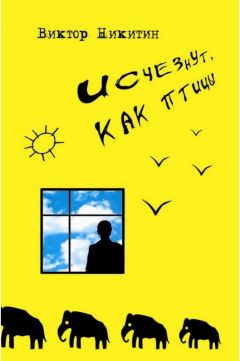
Автор книги: Виктор Никитин
Жанр: Жанр неизвестен
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 35 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
Гостев знавал в детстве одного парня, который специально собирал закомпостированные абонементы со всех имеющихся на маршрутах троллейбусов (их в городе было меньше, нежели автобусов). Тогда, зная номер троллейбуса и то, какой абонемент ему соответствует, он мог больше не платить, если, конечно, не поставят компостеры с новым узором дырочек. Скажем, сев в троллейбус с бортовым номером 187, он, порывшись в своём каталоге (поговаривали, что у него такой имелся), вытаскивал соответствующий данному номеру, вечный, никогда не стареющий закомпостированный абонемент и ехал очень даже спокойно, не волнуясь и не оглядываясь по сторонам в поисках вершителей скорого суда.
Сам Гостев проезда так и не оплатил.
Принято почему-то считать, что большинство «зайцев» составляет молодёжь, но это ошибочное мнение. Среди них попадаются и люди в возрасте, по внешнему виду которых можно с уверенностью сказать, что это вполне добропорядочные граждане. Безбилетники рискуют не ради экономии. Одни считают, что просто не обязаны платить, – не за что; напротив, им бы должны были выплачивать компенсацию за езду в «таких» условиях. Другие просто стараются как можно меньше платить вообще за что-либо, кроме самой крайней необходимости. Гостев не платил по лени.
Он был опытным безбилетником и настолько поднаторел в искусстве бесплатного проезда, что его никак не отличить было от спокойных за свою совесть (которая, как известно, лучший контролёр) пассажиров. Весь его облик, когда к нему обратились бы с требованием предъявить билет, словно говорил: «За кого вы меня принимаете? Да я уже четырежды обилеченный!» Под его внешней невозмутимостью крылся трезвый расчёт. Ему не нужен был никакой каталог. На всякий случай у него всегда имелся при себе чистый абонементный талон. Он знал всех контролёров города в лицо. Ему были известны все остановки, где вероятность проверки билетов наиболее велика. Он изучил психологию водителей, иногда берущих на себя обязанности контролёра. Он никогда заранее не двигался на выход к задней двери, – очень наблюдательный водитель именно в эту минуту объявит: «Выход через переднюю дверь!» Что тогда делать? Остановиться на полпути и не выходить? Тогда к тебе подойдут… Билет уже не станешь компостировать, поздно, водитель наблюдает в зеркальце и улыбается: хоть и сосед ты, возможно, хороший и друг наверняка весёлый, а всё ж попался, гад! Такого случая у Гостева быть не могло. Каждодневная возможность встречи с опасностью приучила его, рассчитав время до сотых долей секунды, шагнуть к двери тогда, когда она откроется, и спокойно выйти. Или он сразу, как входил, останавливался у задней двери. Его так просто не проведёшь, он такие трюки здорово изучил!
«Мы едем, едем, едем…»
«Закомпостируйте, пожалуйста!» Гостев обернулся. Девушка. Очень симпатичная. Длинные светлые волосы. Её лицо обдувает лёгкий ветерок в открытое окно. Но просьба не к нему, а к его соседу, ставшему совсем недавно законным пассажиром. Улыбающийся, слегка вспотевший, потом задыхающийся, он долго возится с талоном, прежде чем устанавливает его в компостере, затем поднимает руку, чтобы размахнуться для удара и… билет улетает на улицу. Пауза. Ветерок – коварный насмешник. Или это сам билет испугался чудовищного удара, подумал Гостев, и вовремя ретировался. «Извините…» Уже слышится чьё-то короткое «ха-ха». «Я вам сейчас возьму…» – «Да не беспокойтесь…» – «Ну что вы, девушка, мне так неудобно!..» Пострадавший, весь красный и теперь основательно вспотевший, идёт к водителю. Виновен. На опустившегося бродягу, пьяницу так не глядят, как ему смотрят в спину. Словно он предатель какой или жену с малыми детьми бросил. Скверный случай. Не только для него. Для всех, кто рядом, кто назван был «хорошими соседями» и «весёлыми друзьями» .
Снова остановка. Кто-то вздыхает за спиной Гостева: «Как в Африке», и он отвлекается. Поворачивает голову в сторону выхода. Кто бы это мог сказать? Шедший за ним по пустыне… Он? Посмотреть бы на него. Нет ничего проще, пожалуйста, – как бы с самой земли, с четверенек, вскарабкивались в автобус, поддерживая и одновременно отталкивая друг друга, Витюшка и Ага, более мертвецкие, чем живые когда-то, так что все потеснились, освобождая им проход. Как две слепые, вынырнувшие из тумана собаки, с какого-то невероятного Крыма приехавшие, отдыха затяжного и беспробудного. «Идиоты!» – подумал Гостев, вглядываясь в их внезапно загорелые лица. Как они здесь оказались? А где Шестигранник?.. Ему сразу же захотелось выйти. «Только бы не встретиться с ними взглядом». Но он совершенно напрасно беспокоился. Они вроде бы были здесь, и в то же время их здесь не было… Ага пробрался к сиденью, на котором сидела девушка, и, настойчиво задыхаясь в заикастых подступах, проваливаясь голосом и снова взлетая, внезапно разговорился: «Что ж ты здесь с-с-сидишь-то … а?.. Тебя же до-ма м-м-м… ать ждёт!» Девушка смутилась и встала. Все опешили. А Гостев изумился его неожиданному красноречию, и ему стало стыдно, он отвернулся.
Витюшка покачивался у дверей. Сейчас он был похож на только что проснувшегося верблюда, немного ошалевшего от жары и чуждой ему обстановки. Лицо глупо-удивленное, какое-то осевшее. Одинокий всадник. Худая, спотыкающаяся лошадь. «Передайте, пожалуйста, на…» – попытались было обратиться к нему, но вовремя отступились. «Куда там, – подумал Гостев, – он же ничего не соображает», – и подивился его взгляду, смурному, опустошённому, устремленному в безбрежную пустыню; да, перед ним расстилалась пустыня, отражение которой в его глазах было похоже на тихое, но очень веское сумасшествие, сопряжённое с тем зноем, что пылал внутри его организма и выступал через поры лица змеисто-багровыми переливами.
«Так это… нам выходить пора!» – оживился вдруг Ага.
«Ага», – кивнул Витюшка и тяжёлым, незрячим плечом потащил за собой растерявшегося Гостева.
Они оказались в дверях. Сверху, уверенно задирая ногу, шагнул Ага. Автобус остановился, и Гостев, чтобы не выпасть на улицу, обеими руками ухватился за… две бутылки, горлышки которых торчали из вместительных карманов его неизменной робы.
Он устоял, а Витюшка и Ага, так и не узнав его, и более того, не обратив на него никакого внимания, вошли в жаркую полосу дня и, потихоньку разламываясь на отдельные части, исчезли в облаке угара, которое опустилось им на головы.
«Меня же дома бабушка ждёт…» Гостев вздохнул. На тротуаре послышался дробный стук каблуков – бежала женщина с сумками в обеих руках. Раскрасневшееся лицо, подпрыгивающие на бегу формы – качка, болтанка – и улыбка, обнажившая два ряда чуть ли не впереди неё бегущих зубов. Бежит – и смеётся, что бежит. Не успеет, так улыбка и останется, как извинение перед прохожими за такой якобы немыслимый бег. Всё же успевает. Ставит сумки в проходе и, загнанно улыбаясь (она едет, какая удача!), копается в кошельке. Улыбка обращена к пассажирам, к ним, давно определившимся на своих местах, и выглядит оправ-данием, – вот, дескать, протряслась старая кошёлка. Что за новость, оправдание? За что? Да всё за тот же бег, за то, что спешила, бежала, как девочка, правда большая, летела как птица, правда подбитая, а значит, нарушила какое-то негласное правило. Женщинам неловко бежать, подумал Гостев. Поэтому, наверное, у них эта оправдательная улыбка – за то, что бег не соответствует их возрасту, в каком бы возрасте они ни были, их положению – в чём? в обществе? – какое бы они ни занимали, их какому-то установленному между собой статусу, тогда и несколько догнавших автобус женщин, дружно вздыхая, столь же дружно улыбаются, даже если они и не знают друг друга. Тут какая-то солидарность, верность тайной дамской присяге. Причём эти улыбки и смех у них всеобщи, они присущи и школьницам и пожилым женщинам. Загадка… Разве у мужчин можно заметить что-нибудь подобное? «Что же вы такое смешное видите? Чему смеётесь?» – хочет спросить Гостев у всех женщин, бегающих за автобусами, но они толкутся на выходе, лезут первыми ещё на ходу, в сутолоку спин словно зарывающихся в песок жуков, отчаянно шевелящих мохнатыми лапками, и вслед за ними, а также эвакуированными старушками, песенной девочкой и её мамой, он выходит у магазина.
Глава одиннадцатая
Благодарю вас, молодой человек!
Свежий хлеб в руке. Горячая мягкость проминается и почти сближает два давящих на неё пальца. Повезло. То-то бабушка обрадуется. Она знает, она помнит, чему ей радоваться в этой жизни. Мягкости и теплу, хорошей погоде и ещё чтобы «мирно было». А в душе у Гостева мира нет, не мягкая она, а острая, ершистая, своими руками её не пригладить, могли бы одни стать близкими в этот день, да не объявились; к тому же горячая (это не то тепло), как выжженная саванна – или пампасы? Теперь не важно, кто их разберёт? В общем, вытоптали её бесчисленные стада – ни буйволов, ни антилоп, ни слонов и жирафов, – пасущиеся в заранее пустом времени, потому что тратится оно на то, что совсем легко должно бы быть приобретено.
Как они его утомили! Сколько лишнего для сущей простоты! И встречи, аккуратно, словно ножом срезающие с Гостева тонкие пласты его слабой уверенности в собственном существовании. Одно расстройство. Здоровье, при его отсутствии, может стать такой же философской категорией, как стыд или страх. Страх – излишне сильное выражение, его крепость настоена на неведомых травах, по которым не пришлось побродить босиком; оно расползается как маленькое пятнышко преувеличения и разжигает эмоции. Но как же стыд? А человек, наверное, и произошёл от стыда – кому-то стало стыдно и появились люди. Миллионы их совершают поступки, и сердца у них есть, а в них отвага, в голове – цель, в ногах – стремление, всех охватывает движение, потребность излиться и насытиться…
Быть спокойнее. Идти быстрее. Избегать вредного влияния. Просто избегать. Вертеть по сторонам головой и довертеться: улица выхватывает из толпы и подводит к Гостеву персонажа, явно преуспевшего на её поприще, – позвольте, мол, вам представить начальника вашего, Шкловского Льва Александровича, хоть сегодня с утра вы уже виделись с ним и прекрасно знаете его, даже в таком виде вы не спутаете его ни с кем.
Почему-то становится неловко. Внезапно он заметил Шкловского, шедшего ему навстречу, – уличный ветерок хвалился галстуком, развевал полы расстёгнутого пиджака, а под ними выглядывал и нависал над брючным ремнём выпуклый живот на пуговицах, серый, в желтоватую полоску; заметил своего начальника, размахивающего букетом роз, целой охапкой, штук двадцать их было на скорый взгляд или двадцать одна, чтобы нечётное число их было или как выигрыш в очко, счастливым случаем. В общем, душа была нараспашку, навеселе. В самом деле, какая-то оторванность частей тела друг от друга, не распоясанность, правда, но что-то похожее на Свободную Республику Винных Паров, её явное присутствие. Пьяный матрос, подгулявший приказчик, мелкий хозяйчик… Хотя какой тут приказчик? Их нету уже давно, извели всех, очнулся Гостев.
Бредёт, пошатываясь, сбиваясь с шага, с наезженной колеи, словно «тпру-ру» про себя и тут же «но-о», совсем в другую сторону, как конь, запряжённый в повозку с грузом (рогожей прикрыт, не видать, что там), только груз этот где-то в нём самом, на плечах угнездился, себя он тащит вперёд, вздувая жилы на раскрасневшемся лбу, – седая прядь упала и пролегла по нему мокрой отметкой, конечно, жарко. Упарился.
Гостеву – всё впитывать до самой мелкой чёрточки. Но близко так, чтобы встретиться с ним дыханием и глазами (о сколько бы в них было… от кого к кому?.. вопросов, приказов, сожаления, недоумения и осуждения!), он не подошёл. Зачем? Уже виделись сегодня. Другое дело, что вид у его начальника теперь был такой, что он сам не хотел бы Гостева увидеть, если мог бы предположить себе такую незадачливую встречу. Выводы: человек вне работы – совсем другой человек, у него другая внешность, другое имя. Лев Александрович. Зачёркнуто и выброшено в корзину. Для кого-то он сейчас просто Лёва, – округло и надёжно, как тёплая ладонь. Или чуть кокетливое, добродушной запятой, словно взмах веера, – Лёвик. Где-то ждут его, разогревая застольные тосты. Он только идёт туда – не возвращается. Алых роз миллион распускается в парке Чаир… И эти капельки на их лепестках заметил-таки впечатлительный Гостев и решил: подъём чувств, свидание, женщина. Он спрятался за табачным киоском в ожидании, когда разудалый Лёва, имевший совсем недавно вполне оправданный обстановкой выдержанный глянец некоего плаката, на котором среди выдвинутых профилей рабочего и колхозника был и его, «думающего представителя технической интеллигенции», хотя и не без загадочных, попутных взглядов в сторону Гостева и чего-то ещё, смутного, до конца ему непонятного, – так вот, пока этот жизненно-плакатный Лёва-Лев обретёт устойчивый путь и затеряется в гвалте неряшливого уличного пейзажа, краски к которому выдавливались из тюбиков ногами многочисленных прохожих. Ещё несколько влажных секунд, горячих нетерпеливых мазков, крупная рябь перед глазами и последняя, почти случайная прорисовка деталей, наугад, полувидно, полунет полу пиджака, отвёрнутую ветром, слегка пузырящуюся спину Шкловского, седой снежок волос, рассыпавшийся над головой, руку, сжавшую факел, пламя, букет горячей признательности и щедрой любви – это уже напоследок, потому что невероятной силы людская волна, хлынувшая с противоположного берега (он свернул к светофору), накрыла его как раз на пешеходной зебре, а когда отхлынула она, унося с собой раздавленные, использованные тюбики, то обнажила дорогу, сразу же занятую нетерпеливым потоком машин.
Не успел Гостев дух перевести, как почувствовал, что его тянут за рукав. Он обернулся и увидел невысокого запыхавшегося мужчину. Очень замусоленный был гражданин. Сразу видно, приезжий, а то ещё что-нибудь похуже. Колкие островки небритости по щекам и шее. Лицо пропавшей желтизны, той лекарственной желтизны с коричневатым оттенком, что пропитывает пузырёк с таблетками, которые уже не вернут лицу цвет здоровья. В телогрейке и чёрной, заношенной ушанке. Похожий на ходока. В тяжёлых кирзовых сапогах. Он спросил: «Где тут можно?..» – и выразительно щёлкнул по кадыку. «Не знаю…» – сглотнул растерявшийся Гостев. Ходок взглянул, прищурившись, мимо Гостева, поверх городских крыш – в глазах жажда, долгий пыльный путь, желанное всё дальше, где-то там ещё впереди можно попытать ему счастья. «Эх!» – вздохнул он в сердцах и двинулся по прочерченной угнетённым взглядом дороге. «Тоже Сахара», – то ли пробормотал, то ли подумал Гостев. Что-то тут для него было знакомое; наверное, пыль на лицах таких вот щелкунчиков по горлу. Неожиданно вспомнил: перебинтованные, грязные пальцы, зажавшие мятую папиросу. Это было недавно. Такой же точно тип остановил его на улице и попросил двадцать копеек. В больничку, говорил, еду. Не в больницу, госпиталь, поликлинику или медпункт, а именно так: в больничку, – пряча глаза, шмыгая носом. Гостев отчего-то смутился и полез в карман за монетой. В больничку, твердил нуждающийся, в больничку еду. А не он ли это? Вылечился и теперь иного жаждет?
Какие подробности… Никогда Гостев его больше не увидит (ну а вдруг? – толкнулось в нём, и потом: зачем это «вдруг»?), а вот, однако, зачем-то он ему попался, так чтобы отметиться на его пути, как, впрочем, и следующий представитель загадочных уличных кругов.
Гостева остановили слова, произносимые терпеливо поучающим и смиренным тоном. Это были пространные и безадресные, совершенно в пустоту, мимо прохожих, не обращающих на него никакого внимания, рассуждения стоящего в одиночестве посреди тро-туара человека, которые Гостеву выпало прослушать с нарастающим удивлением. «… Различия в физическом строении обуславливают и различия в восприятии внешнего мира. То, что ты сос-тавляешь, твоё внутреннее ядро есть отражение внешнего мира таким, каким ты его видишь. Толстый и худой, высокий и маленький – для них нет единого названия мира, у всех мир – разный, разные его объяснения. Тайна одного человека всё же выше отношений между людьми, и это совсем не корыстная и горделивая планка, угловато приставленная к фальшивому пьедесталу, нет-нет, «отношения» – это воздушное понятие, отказ от тайны, же-лание с ней рассчитаться, согласное на расставание с собой изначальным и пополнение с намёком на обмен, обогащение. Отдать похуже, взять получше. «А что ты мне дашь за это?» – детский вопрос, прозвучавший в дворовой песочнице, который в итоге приравнял куклу с оторванной ногой к уже порядком надоевшему клоуну, бессмысленно раззявившему рот. Повзрослели вроде. Теперь не куклами меняются и не клоунами. Но вопрос остаётся. Без обмена очень многое остаётся невыясненным. Интим – намёк общества на тайну человека. Намёки и развивают отношения, присваивают им почётное звание «тайны», которое не вполне ими заслужено, – какая же это «тайна», если неизвестное «n» в лучшем случае равно двум, а чаще даже больше? Тайна отношений между людьми представляется более тайным отношением воздуха, которым они учащённо дышат, к самим людям. Он их оценивает. Они же этого не видят и ищут причины друг в друге. Потребность в друге… И его поиски», – договорил он и увидел Гостева.
Странный, очень странный лектор… Никакой заброшенности или потёртости во внешнем виде. Напротив, этот отменно выбрит, голубоглаз, с крупной головой, проросшей коротким белёсым ёжиком. Он шёл прямо на Гостева; дальняя, на первый взгляд случайная улыбка на чистом, белом лице, переходящая в сладкое, искристое «здравствуйте», совершенно такое же, как сахар, как и то, что он говорил далее, – на всём лежал отсвет видимых только ему граней, скорее всего граней истинного благообразия и какой-то нездешней святости. Он не говорил, а будто декламировал, и не Гостеву, а кому-то ещё. Гостев только присутствовал.
Начало было серьёзное, такое: «Можно вас спросить? Извините, – он тяжело вздохнул. – Дело в том, что у меня померли родители, а я жил в Загорске. – Он очень нажал на «з» и «г». – Вот… Ну и приехал сюда. Дом я свой продал. – Он махнул рукой с обмотанной вокруг неё пустой сеткой. – Но что-то мне не нравится здесь, что-то… Вот как-то заело, – начал он крутить сетку, – сам не пойму отчего… Никак что-то не получается, концы не сходятся… – Он выкручивал сетке несуществующие руки. – А я жестянщик, – неожиданно проговорил он, – квалифицированный жестянщик, – медленно, нараспев и уже увереннее заявил он. – Но вот пока не работаю».
Ошеломлённый Гостев посмотрел на него, не понимая, чего он хочет. Говорил он достаточно громко, чтобы их услышали прохожие, и Гостев нетерпеливо оглядывался по сторонам. Неизвестный чудак помолчал ещё некоторое время, потом решительно поднял глаза на Гостева и попросил: «Дайте мне три копейки («Скромно», – пробормодумал Гостев), мне только булочку купить небольшую. А я у вас больше не попрошу». Он пытливо смотрел на Гостева, и когда увидел, что тот полез в карман, стараясь нащупать мелочь, опять сказал: «А я больше и не попрошу».
Рука Гостева застряла в узком кармане брюк, но всё-таки он вытащил монету и мельком взглянул на неё, – нет, не угадал, – это было пятнадцать копеек. Досада его взяла, но всё же пришлось ему сунуть их в руку квалифицированному страннику, мужчине, жестянщику. А тот чувствительно приподнял левую бровь и, делая поклон, говорил уже в спину Гостеву: «Благодарю вас, молодой человек. Только благодарю». Гостев быстро уходил. Не оглядывался.
Об лица встречных прохожих стирался его взгляд. Случай тыкался в него слепой равнодушной мордой, оставляя следы чёткие, но необъяснённые. Надоело. Сил больше никаких нету. Слишком много случайных встреч для одного дня. Почему к нему так липнут? Знак, что ли, какой на нём начертан тайный, или, как в сказке, у него во лбу звезда горит и на её призывный свет они тянутся? Или предположить ему, что тут, может быть, рыбак рыбака видит издалека, и потому случайные волны, окатывая его с ног до головы, делают его притягательным для обращений к нему совершенно незнакомых людей, для их просьб, а затем и настойчивых требований, в результате чего с его стороны выходят уступки, сомнения иногда переходят в слабые попытки сопротивления и тогда выглядят, как худшее из оскорблений (на него так надеялись!), прихватывая целый поток обвинений: неверность, предательство, свернул на полпути, отказался – всё это подходит к нему, всё это может так и быть, он просто уверен в этом. Его могут о чём угодно попросить, главное, чтобы с улыбчивым стеснением, одновременно нисколько не сомневаясь в своей правоте, и он не сумеет отказать, он будет постепенно сползать к соглашению: я? меня? разве? возможно, ладно, хорошо, точно, замётано, железно… Вот так.
Привычка к замкнутости. Как если бы он находился в маленькой комнате и, зная, что за ней есть другие комнаты, тем не менее ни разу там не удосужился побывать. А к нему прорвались из других комнат. Зашли и интересуются: ты чего тут сидишь? Или: как пройти дальше? «Да не знаю!» – начинает он артачиться. «Брось куражиться! – говорят ему. – Ты же наш, тоже можешь поехать и уже едешь в эвакуацию, в больничку, зимой и летом одним цветом, в шапке-ушанке, чёрных сапогах», – ни жарко такому, ни холодно, не устаёт он от столпотворения в голове и словоговорения, дыхания улицы, её открытых недр, её невидимого гнёта. Вот они – они твёрже, как-то увереннее выглядят, чем он. Идут поодиночке, по двое, взявшись за руки, с детьми, – размашисто так шагают.
Если против тебя что-то одно, то это одно со временем станет против тебя всем.
У него нет к себе уважения. Уважать себя – значит отказывать другим. Того, кем пользуются, того не уважают. Гостев вдруг подумал, что его использует ГОРОД в своих каких-то непонятных целях, а может быть – о ужас! – и совершенно бесцельно.
Есть у города масштаб, размеры. Но как мелок он, мал. Он похож на скамейку, на которой всем хватило места, всех знаешь в лицо, сидишь посередине и сутуло жмёшься от плотного соседства.
Гостев глубже. Сколько их, таких прохожих? Что же теперь, на каждого он готов обратить внимание и потупить взор?
Нет, он не идиот.
Шарканье подошв по асфальту, цокот каблучков навели его на мысль, что из таких людей, как он, складываются минуты. Часы складываются ещё из чего-нибудь. О дне нельзя сказать ничего определённого. Неделя создана для оправдания работы, увязки графика, привязки к местности и обрывается с листком календаря. Месяц выложен днями, как кафельной плиткой. Секунды-Гостева там не найдёшь. Год – понятие космическое. Пустыня, тайга, город.
Всем правят закономерности безликой математики. Всем случайным встречам он обязан включению себя в систему статистики, которая относится не к собственно человеку, а к его роли в предлагаемых обстоятельствах, потому и не публикуется, так как выходит не совсем радужной или даже никакой не выходит.
Всё может быть… Пока что он идёт по улице. Но вот два раза его толкнут, наступят на ногу, заденут локтем, на третий раз он упадёт, сам он не встанет, его не поднимут, пере-шагнут пару раз, потом наступят, потом ещё, смелее, и он станет расхожим звуком, шарканьем подошв об асфальт, впечатается, затеряется в зёрнах щебня.
Впрочем, не скамейка… Ларису-то я не встретил. Я, тот, что был прежде, закончился, остался в прошлом году, в институтских стенах. Она – тоже. Если мы встретимся, то не узнаем в нас тех, прежних. Она совершенно другая. Наверное, хуже. Нет, не то, – незнакомей. Может быть, её никогда и не было. Я себе это всё придумал, сболтнул что-то лишнее, нафантазировал. Она назовёт своё имя, предъявит паспорт. Правда ли всё это? Поедем к ней домой. С родителями познакомит, квартиру покажет. Её ли всё это? А у меня? То же самое. Ещё хуже: заполняешь анкету, вписываешь своё имя, смотришь на него, шёпотом про себя проговариваешь, вслух говоришь, раздельно, громко и всё больше убеждаешься, что совершенно не знаешь этого человека. Чем громче, тем незнакомей. Ко мне это не имеет ни-какого отношения! Это не я! Вы ошиблись! И веду я себя в соответствии с… Словно обращаются не ко мне, а к доверенному лицу того, к кому думали, что обращаются. «Ну, хорошо, вы мне говорите, я вас выслушаю и ему передам». Одолжение. Замечают ли мою роль и меня, неловкого в этой роли?
Гостев задыхался. Он поднимал голову и щурился, и ловил лучик солнца в глазную линзу. Горел… Горел и воздух. День, подчиняясь солнцу, или солнце, подчиняясь дню, вытягивало из людей все соки, с каждым часом он надувался всё величественнее, становился всё шумнее, нахальнее, тяжелее, и частичка этой тяжести ложилась на плечи Гостеву, он ощущал её как спелый, готовый оглушительно треснуть над самой головой арбуз, но треска не было, только звон в ушах, – арбуз, привезённый из Средней Азии, солнце, пришедшее оттуда же, принёсшее с собой обильный сок, его брызги прятались под полосатой коркой, ведь день, как зебра, сейчас плохо, потом будет хорошо, сейчас хорошо, потом будет плохо, а хорошо будет дома, куда он, Гостев, всё никак не может попасть так, как ему нужно, чтобы заняться тем, чем он мог бы заняться, почитать, например, книгу, роман, «Девонширскую изменницу», чтобы избавиться от ощущения того, как бездарно и безалаберно уходит день, затягивая и его, Гостева, в пучину бессодержательности, которая готова в подобном освоении вобрать в себя и последующие дни. Спешить, чудом минуя сверхскоростных наследников Гоголя, чью прыткость какой пешеход полюбит. Подгонять минутную стрелку, ругать часовую за её короткую тупость, заострять их и ими же, как ножницами, разрезать арбузный день на аппетитные скибки, возбуждая желание что-то делать, не дожидаясь того мига, когда день начнёт сдуваться, уже как поднадоевший, праздничный воздушный шарик, потихоньку выпуская из себя солнечный свет, уличные звуки, запахи, чьи-то настроения, надежды и усталость, которой вечер подложит под голову подушку, и она смежит веки в сладко-крепких объятиях завтрашних обещаний.
Гостев – уморившийся, Гостев – спёкшийся на солнце. Медуза. Книга. Ветер, перелистывающий её страницы…
Тут он запнулся, дорогу ему перебегали две девушки-подружки. Взявшись за руки. Такие одинаковые. Смех, волосы и ноги – так это всё перед ним мелькнуло, без подробностей, тем же ветром захлопывая страницы только что было раскрытой книги.
«Эх!» – вырвалось в нём что-то несказанное и даже склонило голову.
И потом это «эх!» пыхнуло, отдаваясь по автобусу, когда тот осел под тяжестью пассажиров, ведь там было очень много голов, очень вёртких и неподвижных, и среди них одна особенно неподвижная голова Гостева, тем не менее очень спешащего домой.
И наконец, ещё одно «эх!», на этот раз последнее, выдохнула бабушка, когда взяла в руки хлеб, тронула его мягкими подушечками пальцев, – удовлетворённо, памятливо, словно откачивая сохранённое тепло в прямо-таки кричащие вены своих причудливых рук.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































