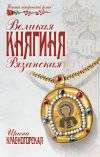Текст книги "История русской литературы второй половины XX века. Том II. 1953–1993. В авторской редакции"
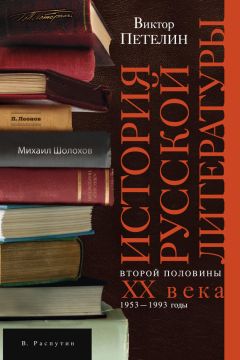
Автор книги: Виктор Петелин
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 25 (всего у книги 92 страниц) [доступный отрывок для чтения: 30 страниц]
Неблагополучная судьба романа заставила его подумать о том, что он ещё не завершил вторую книгу романа «Поднятая целина». Шолохов всё лето 1953 года с увлечением писал вторую книгу, осенью послал несколько глав романа в газету «Правда» с просьбой напечатать, главы тут же, в ноябре 1953 года, переслали Н.С. Хрущёву. 3 января 1954 года М.А. Шолохов передал 126 страниц романа главному редактору газеты «Правда» Д.Т. Шепилову с просьбой напечатать в газете.
Эта история с публикацией готовых глав «Поднятой целины» имеет свою, так сказать, предысторию, которую Н.С. Хрущёв хорошо знал. В 1951 году вышел 13-й том Собрания сочинений Сталина, в котором было опубликовано письмо Сталина Ф. Кону, дескать, Шолохов в «Тихом Доне» допустил ошибку в освещении Подтёлковского движения. Прошло с тех пор больше двадцати лет, но ошибка есть, ошибку надо исправлять. Переиздание «Тихого Дона» было приостановлено, редактором был назначен сотрудник «Правды» К. Потапов. В ЦК КПСС предупредили его, что в романе надо найти место для освещения роли Сталина под Царицыном. Шолохов не нашёл этого места в романе, но над редактированием готового романа задумался. Написал Сталину письмо с просьбой разъяснить ему, в чём он ошибся. Целый год Шолохов ждал ответного письма, но ответа так и не получил. О революции и Гражданской войне было написано много фальшивых книг, мифы выдавались за подлинные события. Устоять было трудно, и Шолохову пришлось подписать в печать «испорченный» «Тихий Дон» в апреле 1953 года: материальные трудности, а семья большая, кроме того, у Шолохова был огромный долг Управлению ЦК КПСС за постройку дома в Вёшенской – старый дом сгорел во время немецкой бомбежки станицы. А имя Сталина по-прежнему господствовало в стране. Однажды Шолохов пригласил своих московских друзей в номер Гранд-отеля и в ходе застолья рассказал, как Сталин освободил пленного белого казака из плена, а тот отошёл от окопа недалеко и вернулся, а сейчас он армией командует. Конечно, этот рассказ Шолохова разошёлся по Москве. Советовали Шолохову написать рассказ на эту тему, но он отказался.
«Посидел он за столом как бы в раздумье, и не мне, – вспоминал Федор Шахмагонов, – отвечая своим советникам, как бы про себя, произнёс: «Индульгенции на прощение грехов я не покупаю».
А мне пора было понять, какой пролёг водораздел между советскими писателями и «советским» писателем Шолоховым. Ушли на это понимание годы. Горная вершина между холмиками, да и холмики ныне с землёй сравнялись…» (Шахмагонов Ф. Бремя «Тихого Дона» // Плата за страх: Сборник. М., 1998. С. 159). Этот рассказ Шолохова о Сталине заинтересовал службы безопасности, вызвали на допрос Ф. Шахмагонова, который пересказал свою беседу в службе безопасности Шолохову, а Шолохов, выслушав, сказал, что и его в ЦК КПСС спрашивали: «– От Сталина вопрос?» Шолохов покачал головой. «– Нет, не от Сталина. Кто-то боится нарушения равновесия. А ну как и в самом деле напишу этот рассказ? Литературной славы это мне не прибавит, а вот политический вес как бы не перевесил Сашу Фадеева и все иные писательские авторитеты. Большая драка затеется в писательском мире. Мне она не нужна» (курсив мой. – В. П. Там же. С. 165). Осенью 1952 года Шолохов позвонил Сталину и попросил о встрече. Сталин назначил время этой встречи. По свидетельству Ф. Шахмагонова, в день встречи Шолохов на кремлёвской машине заехал в Гранд-отель, взял у метрдотеля две бутылки коньяка «КС» и разлил по стаканам. Когда стрелки часов подвинулись к роковому часу, в кабинет метрдотеля вошел Поскрёбышев:
«Едем, Михаил. Я на час передвинул твою встречу! Хозяин не будет тебя ждать!
– Я год ждал…
Не так-то громко были произнесены эти слова, а прозвучали как гром. Невозможные, вне логики того времени…
Лицо Поскрёбышева ничего не выразило, однако почувствовалось, что в душе он содрогнулся.
Шолохов, странно посмеиваясь, извлек из кармана галифе вторую бутылку и поставил её на стол. Не простившись, ни слова не молвив, Поскрёбышев задернул занавески и ушёл» (Там же. С. 168). Так трагически закончилась «ошибка» Шолохова в «Тихом Доне».
Эта «ошибка» Шолохова и вся история вокруг неё насторожили Хрущёва, когда ему доложили о главах нового романа, и Маленков познакомил его с Шолоховым, рассказавшим ему о запрете Суслова печатать эти главы. Хрущёв решил ознакомиться с главами «Поднятой целины». Во время отпуска читал эти главы Хрущёву помощник по идеологическим вопросам В.С. Лебедев. Хрущёву главы романа понравились, «Тихий Дон» он читал до войны, а «Поднятую целину» так и не прочитал. Прочитали и первую книгу «Поднятой целины». А потом, по воспоминаниям Ф. Шахмагонова, Хрущёв спросил Лебедева, надо ли печатать эти главы второй книги романа в «Правде». Надо, ответил Лебедев, ничто из текущей литературы и рядом не стоит с шолоховским талантом. Хрущёв согласился, действительно, в «Правде» «не зазорно печатать Шолохова». «В марте 1955 года, – вспоминал Ф. Шахмагонов, – «Правда» возобновила публикацию глав из романа «Поднятая целина». Сделано это было по прямому указанию Хрущёва.
Шолохов счёл возможным упрекнуть Суслова. Он позвонил ему и спросил:
– Как вы полагаете, Михаил Андреевич, «Правда» как общеполитическая газета уронила себя, публикуя «Поднятую целину»?
Суслов не ответил и положил трубку» (Там же. С. 197).
1954 год был периодом острой партийной борьбы против Г.М. Маленкова за абсолютную власть Н.С. Хрущёва в партии и государстве, столько было интриг, тайных и явных, что забота о романе М.А. Шолохова казалась мелочью, отвлекающей от главной линии. В самое ближайшее время нашлось столько явных «ошибок» Г.М. Маленкова, что он сам попросил отставки с поста председателя Совета Министров СССР.
Работа над романом двигалась медленно, то, что Шолохов написал до войны, пропало. Но память у него была поразительная, он помнил дух того времени. Шолохова разочаровало отношение Шепилова и Хрущёва к роману, именно в «Правде» нужно было опубликовать эти главы про любовь и неотвязные раздумья о судьбах женщин. Но не получилось, Алексей Аджубей вспоминал, что Хрущёв предлагал внести в романе поправки. Так что Шепилов и Хрущёв оказались такими же проводниками социалистического реализма, как и люди помельче, сидевшие в идеологических отделах ЦК КПСС.
То, что было напечатано в «Литературной газете» и «Огоньке», привлекло внимание критики и читателей, полностью роман был напечатан в журналах «Октябрь» и «Нева» в 1960 году. И это заставило многих читателей и критиков вновь взглянуть на роман как на единое целое.
А сейчас вновь возникают дискуссии вокруг М. Шолохова и «Поднятой целины», зачастую извращая суть романа и обвиняя его чуть ли не в лакировке процессов.
В последние годы участились высказывания об исторической правде в освещении сложных и противоречивых проблем прошлого. Об этом говорят в руководстве страны, бойкие журналисты подхватывают этот призыв, создаются комиссии, один состав комиссии даёт руководство страны, другой состав даёт разнородное общество. Возникают противоречия, споры, разные точки зрения. А разные точки зрения чаще всего возникают от неподготовленности сошедшихся в споре. Нужны документы, тщательный анализ этих документов, дискуссия, в ходе которой можно наметить какие-то предварительные решения. Последние темы, вокруг которых поднялась в обществе острая дискуссия, были – «Катынское дело» и «Сталин-преступник». Не раз об этих проблемах писали в газетах, журналах, книгах. Упоминали о достоверных фактах, приводили цитаты из дневника Геббельса, говорили о ненависти немцев к полякам и о формировании польской армии, ставшей частью Красной армии и сражавшейся против Германии. Но поляки настаивали на своём, а мы покорно с ними согласились. И о Сталине было много дискуссий и в газетах, и на телевидении, и в правительственных выступлениях.
Но не менее запутанна история с коллективизацией, здесь нас интересуют русское крестьянство, донское казачество, «Тихий Дон» и «Поднятая целина» Михаила Александровича Шолохова (по авторскому замыслу роман назывался «С кровью и потом», а то, что вёшенские коммунисты предложили, вызывало у него иронию, раздражение и недовольство). И конечно, самая острая, самая трагическая история коллективизации развёртывалась на Дону.
Абсолютной властью в государстве владели чекисты во главе с Генрихом Ягодой; в 20-х годах и до середины 30-х он был генеральным комиссаром государственной безопасности, наркомом внутренних дел СССР (1934—1936). Он был организатором и главным исполнителем массовых репрессий в Советском Союзе. Наркомом по земледелию с 1929 года был назначен главный редактор «Крестьянской газеты» и «Бедноты» Яков Аркадьевич Яковлев (Эпштейн), автор нескольких книг, в том числе «Деревня, как она есть» и «Наша деревня». Казалось бы, специалист по деревенским вопросам. Деревня мучилась над вопросами коллективизации, идти или воздержаться, а вокруг деревни уже выстроились такие опекающие организации, о которых блестяще пишет Александр Солженицын: «С конца 1929 года по начало 1931 произошёл тот самый «Великий Перелом». Предстояла палаческая коллективизация – и в этот решающий момент Сталин наметил для неё зловещего исполнителя Яковлева-Эпштейна, портреты его – и фото, и рисованные И. Бродским – тогда, и затем из года в год воспроизводились в газетах. Вместе с уже известным нам М. Калмановичем он даже входил в высший правительственный Совет Труда и Обороны (где – Сталин, Молотов, Микоян, Орджоникидзе, Ворошилов и мало кто другой). В марте 1931 года на VI съезде Советов Яковлев делает и доклад о совхозном строительстве, и доклад о колхозном строительстве (губительстве всей народной жизни). На этом славном пути разорения России среди сотрудников Яковлева мелькают и фамилии замнаркома В.Г. Фейгина, и членов коллегии Наркомзема М.М. Вольфа, Г.Г. Рошаля, как и других знатоков по крестьянскому делу. – В важную помощь Наркомзему – придан Зернотрест (выкачивать зерно для государства), председатель правления – М.Г. Герчиков, его портреты публикуются в «Известиях», ему поощрительно телеграфирует сам Сталин. – С 1932 отделили от Наркомзема Наркомсовхоз – на него двинут М. Калманович. – А председатель всесоюзного Совета колхозов с 1934 – Яковлев же. А председатель Комитета заготовок – И. Клейнер (награждён орденом Ленина). – М. Калманович тоже побыл в грозные месяцы коллективизации замом наркомзема – но в конце 1930 его переводят в замы наркомфина и председателем правления Госбанка, ибо в денежном деле тоже нужна была твёрдая воля. Председателем правления Госбанка поставят в 1934 Льва Марьясина, в 1936 году Соломона Кругликова» (Солженицын А. Двести лет вместе. Ч. 2. М., 2002. С. 284—285). Автор книги тут же упоминает Наркомвнешторг, Главконцесском, Центрсоюз, Наркомпрод, во главе которых лица с еврейскими фамилиями. Все эти руководители не знали крестьянской жизни, всех её сложностей и противоречий, они применили командный способ управления, насилие, совершили грубые ошибки, приводившие к голодомору (см. письма М.А. Шолохова И.В. Сталину), за что и поплатились, представ перед судом.
В этом была и крупная стратегическая ошибка И.В. Сталина, которую ему приходилось исправлять все последующие годы, 1936—1938. Но он знал о приближающейся войне, ему нужен был хлеб в закромах государства, продовольствие, чтобы кормить армию. Еврейская писательница Соня Марголина, объективная и во многом справедливая, на которую А. Солженицын не раз сошлётся, писала: «В конце 20-х годов впервые немалое число еврейских коммунистов выступило в сельской местности командирами и господами над жизнью и смертью. Только в ходе коллективизации окончательно отчеканился образ еврея как ненавистного врага крестьян – даже там, где до тех пор ни одного еврея и в лицо не видели» (Там же. С. 272).
М. Шолохов, работая над «Поднятой целиной» (авторское название – «С кровью и потом»), видел эти процессы, видел и в очерке «По правобережью Дона» под хохот казаков на колхозном поле выразил, в каком смешном положении оказываются те, кто приезжает из района командовать казаками. Белоусый немолодой казак рассказывает М. Шолохову в мае 1931 года (работа над романом была в самом разгаре): «Надысь был я в Боковской, там уполномоченный райкома из городских. Приезжает он на поля, колхозники волочат. Он увидал, что бык на ходу мочится, и бежит по пахоте, шумит погонычу: «Стой, такой-сякой вредитель! Арестую! Ты зачем быка гонишь, ежели он мочится?» А бычиной техники он не одолел, не знает, что бык – это не лошадь и что он, чертяка, по часу опорожняется. А погоныч и говорит: «Один начнёт – останавливай, потом другой; а ежели у меня их в плуге будет четыре пары? Когда я буду пахать? Так круглые сутки и сиди возле них?» Животы порвали, а Кальман-уполномоченный не верит, пошёл к агроному спрашивать…» (Шолохов М.А. Собр. соч.: В 8 т. М., 1960. Т. 8. С. 87). Вроде бы крошечный эпизод, но точно бьёт в цель.
Критики, литературоведы, политические деятели постепенно восприняли роман «Поднятая целина» как образец социалистического реализма В 1933 году один из идеологических лидеров ВКП(б) Карл Радек так и назвал свою статью – «Поднятая целина» – образец социалистического реализма», а через два года появилась статья в «Правде», которая утвердила это признание и для «Тихого Дона», и для «Поднятой целины». Столь же упрощённо поступила и киностудия со сценарием М. Шолохова и режиссёра Николая Шенгелая. Сценарий прочитал В. Кирпотин, один из идеологов социалистического реализма, и подверг острой критике: многое надо переделать. Сначала М. Шолохов следил за сценариями, а потом отказался, чаще всего от Шолохова оставались только имена персонажей, а сложность конфликта исчезала. Так возникло это упрощённое представление о романе и о творческом замысле писателя. Можете вспомнить первые сцены романа – раскулачивание кулаков. Приходит Размётнов к Фролу Дамаскову и вытаскивает из папки маленький листок о решении бедняков раскулачить, описать имущество и выселить из дома. «Таких законов нету! Вы грабиловку устраиваете!» – крикнул Тимофей. И он абсолютно прав. Он хотел в рик поехать, но давление местных коммунистов было беспощадным и несправедливым. Ещё описи имущества не завершили, а коня уже обобществили. Ведь и на самом деле – это грабиловка! Действительно, никаких законов не было – ни политических, тем более нравственных, гуманных. И Шолохов пишет Евгении Григорьевне Левицкой 18 июня 1929 года, что «жмут на кулака, а середняк раздавлен. Беднота голодает, имущество, вплоть до самоваров и полостей, продают у самого истового середняка, зачастую даже маломощного. Народ звереет, настроение подавленное, на будущий год посевной клин катастрофически уменьшится. И как следствие умело проведённого нажима на кулака является факт (чудовищный факт!) появления на территории соседнего округа оформившихся политических банд» (Шолохов М.А. Письма. М., 2003. С. 126). У писателей довольно часто бывает так, что вроде бы отрицательный персонаж высказывает справедливые мысли автора.
Так получилось и с трагическим конфликтом Александра Половцева с семейством Островнова.
В первой книге романа Яков Лукич, как послушный сын, попросил у восьмидесятилетней матери благословения на борьбу с советской властью. Она его благословила. Но уже в конце первой книги говорила старухам, что у них живут два офицера, которые готовят восстание против безбожников. В начале второй книги пришли к матери Островнова четыре старухи и попросили их познакомить с офицерами, но та отказалась. Жена сказала об этом Якову Лукичу, который распорядился не давать ей еды и воды. Жена возмутилась, ведь он ей сын. И родная мать, услышав шаги Якова Лукича, думала только о хорошем, вспоминая его маленьким, повзрослевшим, хозяином. А теперь она зовёт его, он не отвечает. Так она и умерла от голода и без воды, «старая кожаная рукавица была изжевана её беззубыми дёснами». Больше всех плакал Яков Лукич. «И боль, и раскаяние, и тяжесть понесённой утраты – всё страшным бременем легло в этот день на его душу…» (с. 17). И плакал от боли, что трагическая жизнь заставила так бесчеловечно с матерью поступить. И он не раз осудит себя как человека, пошедшего под давлением не тем путем. А его сын? Если в первой книге романа Семён Островнов показан поверхностно, как эпизодическое лицо, только упоминавшееся как помощник Якова Лукича, то во второй книге он действует уже как индивидуализированное эпизодическое лицо, самостоятельно мыслящее и чувствующее. Распоряжения Якова Лукича он воспринимает остро критически, особенно за завтраком, когда Яков Лукич упрекнул всех, мол, напрасно оскаляетесь, «а скоро, может, плакать будете!». Яков Лукич даже замахнулся на сноху, когда она включилась в обсуждение хозяйственных вопросов. «Отцовская несдержанность развеселила Семёна: он скорчил испуганно-глупую рожу, подмигнул жене, а та вся затряслась от беззвучного смеха». Потом Яков Лукич опрокинул на себя миску с борщом. «Сноха, закрыв лицо руками, метнулась в сени. Семён остался сидеть за столом, уронив на руки голову; только мускулистая спина его вздрагивала да ходуном ходили от смеха литые лопатки» (с. 12).
В январе 1930 года в Гремячий Лог прибыл верховой и остановился у Якова Лукича Островнова. Когда узнал в верховом есаула Половцева, «испуганно озирнулся по сторонам, побледнел». Островнов вместе с Половцевым «всю германскую вместе сломали, и в эту пришлось», в Новороссийске расстались. После того как гостя угостили, начался серьёзный разговор. «Считался Яков Лукич в хуторе человеком большого ума, лисьей повадки и осторожности, а вот не удержался в стороне от яростно вспыхнувшей по хуторам борьбы, коловертью втянуло в события. С того дня и пошла жизнь Якова Лукича под опасный раскат…» Яков Лукич рассказал Половцеву, что «жизня никак не радует, не веселит», в 1926 и 1927 годах налоги были «относительные», казаки стали богатеть, «а теперь опять пошло навыворот», «от этой песни везде слезьми плачут». Яков Лукич вернулся из отступа в 1920 году, оставив там всё своё добро, «работал день и ночь», а потом продразвёрсткой замучили, «и за дым из трубы платил, и за то, что скотина живая на базу стоит… Хоть и не раз шкуру с меня сымали, а я опять же ею обрастал… Стал я к агрономам прислухаться, начал за землёй ходить, как за хворой бабой… Я и зерно протравливал, и снегозадержание делал. Сеял яровые только по зяби без весновспашки, пары у меня завсегда первые. Словом, стал культурный хозяин и об этом имею похвальный лист от окружного ЗУ, от земельного, словом, управления… Первые года сеял пять десятин, потом, как оперился, начал дюжей хрип выгинать: по три, по пять и по семь кругов сеял, во как! Работал я и сын с женой. Два раза толечко поднанимал работников в горячую пору. Советская власть энти года диктовала как? – сей как ни мога больше! Я и сеял, ажник кутница вылазила, истинный Христос». И красный партизан Андрей Размётнов тоже советовал сеять как можно больше, советской власти «хлеб зараз дюже нужен», а сейчас могут обкулачить за семь кругов. Никто пока в колхоз не вписался: «Кто ж сам себе лиходей?» – такова позиция Якова Лукича, изложенная Половцеву, который призывает объединяться и бороться с властью. Но Островнов сразу не решается на борьбу. После колебаний соглашается быть участником антисоветской боевой организации Союз освобождения родного Дона. Половцев посоветовал Якову Лукичу вступить в колхоз, после его «разумной, положительной» речи казаки сразу подали «тридцать одно заявление». А на другой день Яков Лукич угощал на деньги Половцева надёжных хозяев и говорил совсем «иное»: колхоз – это ярмо. Навербовал Яков Лукич около тридцати казаков. Но не учли Яков Лукич и кулацкий штаб одного: Никита Хопров хотя и входил в это число, но решительно возразил подыматься против власти, «в вашем деле я не участник», и ушёл. Перепуганный Яков Лукич позвал Тимофея Рваного и сразу пошёл к Половцеву, который, обозвав Якова Лукича «подлецом», решился на убийство Хопрова. С ужасом Яков Лукич смотрел на всё происходящее, хватал за руки Половцева, чтобы он не убивал жену Хопрова: «Мы ей пригрозим, не скажет!», но Половцев убил жену Хопрова. «Яков Лукич, шатаясь, дошёл до печки, страшный припадок рвоты потряс его, мучительно вывернул внутренности» (с. 92). 4 февраля 1930 года Яков Лукич стал членом правления колхоза. Как раз в это же время Яков Лукич начал убой скота, из семнадцати овец зарезал четырнадцать: «Советская власть Якову Лукичу и он ей – враги, крест-накрест», «Он не хочет, чтобы мясом его овец питался где в фабричной столовой рабочий или красноармеец». Одновременно с этим к Якову Лукичу приходит Давыдов и радуется словам Якова Лукича, он предлагает по-новому вести хозяйство, показывает «похвальный лист» и «агрономовский журнал», который с радостью берёт с собой Давыдов: «Вот с такими бы можно в год перевернуть деревню! Умный мужик, дьявол, начитанный. А как он знает хозяйство и землю! Вот это квалификация! Не понимаю, почему Макар на него косится. Факт, что он принесёт колхозу огромную пользу!» – думал он, шагая в сельсовет» (с. 106).
Доверчивый Давыдов поверил Якову Лукичу, узнав только одну сторону его характера и его деятельности. Вскоре узнает и о второй черте его характера и его деятельности, как только Яков Лукич, как завхоз, велел посыпать песком воловню, после этого двадцать три быка не смогли встать с пола, «некоторые поднялись, но оставили на окаменелом песке клочья кожи, у четырёх отломились примёрзшие хвосты, остальные передрогли, захворали». Дежуривший на конюшне Молчун сказал о песке в воловне: «Выдумляет, сукин сын!», а Любишкин просто разъярился, узнав про песок. Но Давыдов уговорил его, дескать, надо по-новому хозяйствовать, «Островнов правильно сделал. Безопасней, когда чисто: заразы не будет». Узнав о последствиях выдумки Островнова, Давыдов приказал ему сдать дела, судить грозился за вредительство, а потом отмяк: «Нет, Островнов – преданный колхозник, и случай с песком – просто печальная ошибка, факт!» (с. 161). И виноватый Давыдов просто просил прощения у Островнова и продолжал своё дело. «Раздвоенной диковинной жизнью жил эти дни Яков Лукич. С утра шёл в правление колхоза, разговаривал с Давыдовым, Нагульновым, с плотниками, бригадирами. Заботы по устройству базов для скота, протравке хлеба, ремонта инвентаря не давали и минуты для посторонних размышлений. Деятельный Яков Лукич неожиданно для него самого попал в родную его сердцу обстановку деловой суеты и вечной озабоченности, лишь с тою существенной разницей, что теперь он мотался по хутору, в поездках, в делах уже не ради личного стяжания, а работая на колхоз. Но он и этому был рад, лишь бы отвлечься от чёрных мыслей, не думать. Его увлекала работа, хотелось делать, в голове рождались всякие проекты. Он ревностно брался за утепление базов, за стройку капитальной конюшни, руководил переноской обобществлённых амбаров и строительством нового колхозного амбара; а вечером, как только утихала суета рабочего дня и приходило время идти домой, при одной мысли, что там, в горенке, сидит Половцев, как коршун-стервятник на могильном кургане, хмурый и страшный в своем одиночестве, – у Якова Лукича начинало сосать под ложечкой, движения становились вялыми, несказанная усталь борола тело…» (с. 158). Яков Лукич оказался в драматическом положении, о котором мало кто догадывался.
Не понравился Островнову новый жилец, Вацлав Августович Лятьевский, нахальный, смелый, который тут же стал приставать к снохе. Сноху он поучил ременными вожжами в сарае, а Лятьевского стал опасаться. Лятьевский прямо сказал Островнову, что ему и Половцеву деваться некуда, «мы идём на смерть», а зачем ему-то восставать: «Эх ты, сапог!», «Хлебороб и хлебоед! Жук навозный!», по словам Лятьевского, Островнов в ответ сказал:
«– Так житья же нам нету! – возражал Яков Лукич. – Налогами подушили, худобу забирают, нету единоличной жизни, а то, само собою, на кой вы нам ляд, дворяны да разные подобные, и нужны. Я бы ни в жизню не пошёл на такой грех!
– Подумаешь, налоги! Будто бы в других странах крестьянство не платит налогов. Ещё больше платит!
– Не должно быть.
– Я тебя уверяю!»
После этого Яков Лукич, «взалкав одиночества», думал: «Проклятый морщенный! Наговорил, ажник голова распухла. Или это он меня спытывает, что скажу и не пойду ли супротив их, а потом Александру Анисимовичу передаст по прибытию его… а энтот меня и рубанет, как Хопрова? Или, может, взаправди так думает? Ить что у трезвого на уме, то у пьяного на языке… Может, и не надо было вязаться с Половцевым, потерпеть тихочко в колхозе годок-другой? Может, власти и колхозы-то через год пораспущают, усмотрев, как плохо в них дело идёт? И опять бы я зажил человеком… Ах, боже мой, боже мой! Куда теперь деваться? Не сносить мне головы… Зараз уж, видно, одинаково… Хучь сову об пенек, хучь пеньком сову, а все одно сове не воскресать…» Полузакрытыми слезящимися глазами он смотрел на звёздное небо, вдыхал запах соломы и степного ветра; все окружавшее казалось ему прекрасным и простым…» (с. 167—168). Яков Лукич после беседы с Лятьевским вновь почувствовал себя в трагическом положении, ни дворяне, ни Советы со своими чудовищными налогами ему не нужны, он хочет быть самостоятельным и независимым, а он постоянно в чьих-то цепях.
Яков Лукич почтительно относился к своим постояльцам. Иной раз он высказывал своё неудовольствие их пребыванием, но всё-таки надеялся, что они изменят власть в стране и он снова беспрепятственно сможет самостоятельно жить, работать, независимо от колхозов, наживать своё имущество. В колхозе он многое делает, нарезает землю выходцам, но по-прежнему принимает дворян, вспоминая Первую мировую войну. В его доме дворяне убили Нагульнова и Давыдова. Образ Островнова и образы всей его семьи изображены сурово и объективно как трагические, и страдания Якова Лукича, особенно после смерти матери, в которой он был повинен, больно отдаются в сердце читателей: «Подруги покойницы обмыли её сухонькое, сморщенное тело, обрядили, поплакали, но на похоронах не было человека, который плакал бы так горько и безутешно, как Яков Лукич» (Кн. 2. С. 17).
Ничего другого Шолохов не мог сказать об Островнове, но и без этих авторских заметок ясно, что в этом образе М. Шолохов хотел показать тяжкую долю хозяйственного крестьянина, оказавшегося между двумя жерновами власти, белогвардейской и советской.
Предстал вместе с сыном как рядовые участники заговора перед судом и сослан был по приговору в места заключения.
С первых слов у Якова Лукича Половцев чётко поставил задачу – организация колхозов вызвала недовольство казаков, не только кулаков, но и зажиточных середняков. Тут можно воспользоваться недовольством и поднять восстание, мятеж, а заграница поможет. «Приезжий снял башлык и белого курпяя папаху, обнажив могучий угловатый череп, прикрытый редким белёсым волосом. Из-под крутого, волчьего склада, лысеющего лба он бегло оглядел комнату и, улыбчиво сощурив светло-голубые глазки, тяжко блестевшие из глубоких провалов глазниц, поклонился сидевшим на лавке бабам – хозяйке и снохе… Гость, хлебая щи со свининой, в присутствии женщин вёл разговор о погоде, о сослуживцах. Его огромная, будто из камня тёсанная, нижняя челюсть трудно двигалась; жевал он медленно, устало, как приморённый бык на лёжке. После ужина встал, помолился на образа в запылённых бумажных цветах и, стряхнув со старенькой, тесной в плечах толстовки хлебные крошки, проговорил:
– Спасибо за хлеб-соль, Яков Лукич! А теперь давай потолкуем» (с. 7—8). Половцев рассказал Якову Лукичу, что в Новороссийске их предали союзники и добровольцы, он вступил в Красную армию, командовал эскадроном, но какой-то станичник сказал, что он участвовал в казни Подтёлкова, по дороге бежал, долго скрывался, потом пришёл в станицу, показал документ о службе в Красной армии, много лет учительствовал. А сейчас наступило время действовать. Якову Лукичу пообещал, что, вступив в колхоз, «крепостным возле земли будешь». В его организации «уже более трёхсот служивых казаков» (с. 22). Как только узнал про Хопрова, тут же накричал на Якова Лукича, как в прежние есаульские времена: «Па-а-адлец! Что же ты, твою мать, образина седая, погубить меня хочешь? Дело хочешь погубить? Ты его уже погубил своей дурьей неосмотрительностью… А ты – как бык с яру!» (с. 86). Половцев мгновенно оценил обстановку, взял наган, велел Островнову, побледневшему от страха и смятения, взять топор, вместе с Тимофеем Дамасковым отправились к Хопровым. Убийство Хопровых Половцев провёл умело и бесцеремонно: «В нём внезапно и только на миг вспыхивает острое, как ожог, желание, но он рычит и с яростью просовывает руку под подушку, как лошади, раздирает рот женщины». А вернувшись в горницу Островнова, мыл руки и отфыркивался, а уже ночью пил взвар, «достал разваренную грушу, зачавкал, пошёл, дымя цигаркой, поглаживая по-бабьи голую пухловатую грудь» (с. 93).
Потом Половцев деятельно готовился к восстанию, что-то писал, чертил какие-то карты, тяжко думал о перспективах своего дела. В станице его уже искали, пора, казалось бы, начаться восстанию. Однажды ночью Половцев прибыл к Островнову: «Голос Половцева был неузнаваемо тих, в нём почудились Якову Лукичу какая-то надорванность, большая тревога и усталь…» Переговорив с Яковом Лукичом о текущих делах, Половцев сказал, что будем начинать восстание с хутора Войскового. «Половцев помолчал, долго и нежно гладил своей большой ладонью вскочившего ему на колени чёрного кота, потом зашептал, и в голосе его зазвучали несвойственные ему теплота и ласка: – Кисынька! Кисочка! Котик! Ко-ти-ще! Да какой же ты вороной! Люблю я, Лукич, кошек! Лошадь и кошка – самые чистоплотные животные… У меня дома был сибирский кот, огромный, пушистый… Постоянно спал со мной… Масти этакой… А вот кошек чертовски люблю. И детей. Маленьких. Очень люблю, даже как-то болезненно. Детских слёз не могу слышать, всё во мне переворачивается… А ты, старик, кошек любишь или нет?
Изумлённый донельзя проявлением таких простых человеческих чувств, необычным разговором своего начальника, пожилого матёрого офицера, славившегося ещё на германской войне жестокостью в обращении с казаками, Яков Лукич отрицательно потряс головой» (с. 197—198).
В хуторе Войсковом, куда Половцев прибыл с Яковом Лукичом, казаки ему разъяснили, что они не поддержат идею восстания и выходят из Союза освобождения Дона. В марте появилась статья Сталина «Головокружение от успехов», в которой резко говорилось о погоне за стопроцентной коллективизацией, местные коммунисты буйствовали, загоняя казаков в колхозы, а теперь наступило время свободного выбора для казаков, хочет – вступает, а хочет – воздерживается. А вернувшись в Гремячий, Островнов «впервые увидел, как бегут из глубоко запавших, покрасневших глаз есаула слёзы, блестит смоченная слезами широкая переносица.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?