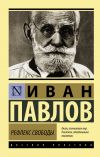Текст книги "Рождение человечества. Начало человеческой истории как предмет социально-философского исследования"

Автор книги: Виталий Глущенко
Жанр: Философия, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 11 (всего у книги 13 страниц)
«Из предыдущего должен быть сделан вывод, что в строго научном смысле у животных нет эмоций. Просто у них в качестве неадекватного рефлекса (следовательно, тормозной доминанты) нередко фигурируют подкорковые комплексы, являющиеся по природе более или менее хаотичными, разлитыми, мало концентрированными, вовлекающими те или иные группы вегетативных компонентов. Это люди, наблюдатели, по аналогии с собой трактуют их как эмоции»241241
Поршнев Б.Ф. О начале человеческой истории (проблемы палеопсихологии). С. 468–469.
[Закрыть].
Чтобы слишком не углубляться в специальный вопрос о теориях эмоций, отметим лишь, что в свете нашей проблемы здесь существуют две крайние точки зрения и множество промежуточных. Первой крайней точке зрения положил начало Герберт Спенсер, а решающий вклад в ее распространение внес своим научным авторитетом Чарльз Дарвин242242
Дарвин Ч. О выражении эмоций у человека и животных. СПб: «Питер», 2001.
[Закрыть]. Она состоит в применении к психике положений биологической эволюции и сведении развития первой к одному из моментов второй. Наиболее радикальное выражение этой мысли: эмоции (и субъективная жизнь вообще) присущи всему живому, жизнь без эмоций невозможна. Соответственно, эмоции человека в своей структуре отражают степень развития его биологической эволюции. Противоположная точка зрения сформулирована советским психологом Алексеем Николаевичем Леонтьевым: «Даже так называемые низшие эмоции являются у человека продуктом общественно-исторического развития…»243243
Леонтьев А.Н. Потребности, мотивы и эмоции. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1971. С. 35.
[Закрыть]. К слову, такая точка зрения не обязательно отказывает животным в эмоциях, а лишь дает понять, что по своей природе это совсем другие «эмоции».
Множество промежуточных точек зрения в этом вопросе способны привести лишь к путанице, примерами которой мы располагаем в достаточном количестве, но задачи нашего исследования не позволяют нам так далеко отклоняться от темы, чтобы приводить здесь их изложение. Остановимся на том, что мы вслед за Поршневым придерживаемся по данному вопросу основной линии советской психологической науки, фактически отрицающей эмоции у животных, во всяком случае, не позволяющей смешивать эмоции человека с тем, что называют эмоциями у животных. Общее направление этой линии, как уже было отмечено в первой главе, задал Л. С. Выготский, осознав центральное место речи в человеческой психике: «Мысль не выражается, но совершается в слове». И не только мысль, – добавим мы, – но и эмоция, так как появление интонированного звука (а так же «интонированного» жеста – мы говорим о ритуале) было одновременно появлением эмоции.
Интересно, что уже на заре научных исследований эмоций была высказана мысль, от которой оставался всего один шаг до «единой универсальной эмоции» Поршнева. Причем, любопытно, что высказал ее американский философ и психолог Уильям Джеймс – один из основоположников «органической теории эмоций», развивавшей идеи Спенсера – Дарвина, т. е. представитель противоположного для нас лагеря:
«Затруднения, возникающие в психологии при анализе эмоций, протекают, мне кажется, оттого, что их слишком привыкли рассматривать как абсолютно обособленные друг от друга явления. Пока мы будем рассматривать каждую из них как какую-то вечную, неприкосновенную духовную сущность, наподобие видов, считавшихся когда-то в биологии неизменными сущностями, до тех пор мы можем только почтительно составлять каталоги различных особенностей эмоций, их степеней и действий, вызываемых ими»244244
Джемс В. Психология. СПб: Изд-во К.Л. Риккера, 1911. С. 325.
[Закрыть].
Развить свою идею основоположнику прагматизма помешал биологизм его концепции. В самом деле, ведь если эмоции присущи всему живому, или – в смягченном, как у Джеймса, варианте – живым организмам, обладающим нервной системой, то схема развития эмоций в своих самых общих чертах должна совпадать с эволюционным древом, по крайней мере, той ее ветвью, которая ведет от полипов и медуз, предок которых и должен был бы обладать искомой «первоэмоцией». Представление о собственном «эволюционном древе» эмоций не вяжется с биологической теорией их происхождения. Но нам здесь важно отметить, что, развивая противоположную – социально-историческую теорию эмоций, возникшую как отрицание биологической теории, Б. Ф. Поршнев пришел к той же самой мысли, с которой когда-то начинала биологическая теория, но которую она оказалась не в силах развить.
Итак, люди принимают у животных за эмоции неадекватный рефлекс, который, как мы знаем, обладает таким свойством, как повышенная имитатогенность, т. е. легко передается от одного животного к другому через имитацию. Определенная просодическая окраска их звуковых сигналов является неотъемлемым признаком самих сигналов, т. е. не является знаком. Так же как звуковой сигнал сопровождает определенную инстинктивную модель поведения, диктуемую ситуацией, неотделим от нее и не имеет четкой направленности, его просодические свойства продиктованы морфологией и общим состоянием животного организма, неотделимы от данного сигнала и не предназначены что-то кому-то передать. Мы уже отмечали, что для первой сигнальной системы сигналы, издаваемые животными, в качестве таковых в целом совершенно равнозначны другим явлениям и предметам окружающей среды.
Здесь нам может быть интересно мнение практического специалиста по коммуникации человека с животным – профессионального дрессировщика, который советует «избегать пользоваться интонацией при подаче команд в ходе дрессировочного процесса»245245
Панфилов П.Б. Интонация в дрессировке собак // Научный сборник Российской федерации служебного собаководства. М., 2002. №3. С. 81.
[Закрыть]. Интонирование сигнала мешает его восприятию животным, включает у него ориентировочный или, – если интонация звучит угрожающе, – оборонительный рефлекс, в итоге это либо замедляет у животного процесс распознавания сигнала, либо приводит к другим поведенческим реакциям, что в любом случае препятствует образованию условного рефлекса. Как видим, нормальное функционирование первой сигнальной системы несовместимо с интонированием сигнала, приданием ему тем самым особой эмоциональной окраски и направленности. Неподготовленная морфологически, центральная нервная система животного неспособна принять эту особую эмоциональную направленность сигнала, относящуюся к явлению суггестии, но она реагирует на неизбежно присутствующую в суггестии интердиктивную – отклоняющую рефлекс – функцию. Другими словами, препятствием служит интердиктивная функция интонации как речевого знака.
Определяя эмоциональные процессы как «широкий класс процессов внутренней регуляции деятельности» и поясняя, что «эту функцию они выполняют, отражая тот смысл, который имеют объекты и ситуации, воздействующие на субъекта», А. Н. Леонтьев разделяет их на три подкласса: аффекты, собственно эмоции и чувства246246
Леонтьев А.Н. Потребности, мотивы и эмоции. С. 28.
[Закрыть]. Обратимся теперь к тому, что он пишет в этой связи о самом простом и генетически, по-видимому, наиболее раннем подклассе эмоциональных процессов – аффектах:
«Одна из особенностей аффектов состоит в том, что они возникают в ответ на уже фактически наступившую ситуацию и в этом смысле являются как бы сдвинутыми к концу события (Клапаред); в связи с этим их регулирующая функция состоит в образовании специфического опыта – аффективных следов, определяющих избирательность последующего поведения по отношению к ситуациям и их элементам, которые прежде вызывали аффект. Такие аффективные следы («аффективные комплексы») обнаруживают тенденцию навязчивости и тенденцию к торможению. Действие этих противоположных тенденций отчетливо обнаруживается в ассоциативном эксперименте (Юнг): первая проявляется, в том, что даже относительно далекие по смыслу слова-раздражители вызывают по ассоциации элементы аффективного комплекса; вторая тенденция проявляется в том, что актуализация элементов аффективного комплекса вызывает торможение речевых реакций, а также торможение и нарушение сопряженных с ними двигательных реакций (А. Р. Лурия); возникают так же и другие симптомы (изменение кожногальванической реакции, сосудистые изменения и др.). […] При известных условиях аффективные комплексы могут полностью оттормаживаться, вытесняться из сознания. […] Другое свойство аффектов состоит в том, что повторение ситуаций, вызывающих то или иное отрицательное аффективное состояние, ведет к аккумуляции аффекта, которая может разрядиться в бурном неуправляемом аффективном поведении – “аффективном взрыве”»247247
Там же, с. 36–37(курсив мой – В. Г.).
[Закрыть].
Мы видим, что если аффекты и регулируют деятельность, оставляя после себя навязчивые «комплексы», тормозящие спровоцировавшую аффект деятельность в дальнейшем, то происходит это не в интересах действующего субъекта, который в состоянии аффекта не контролирует свои действия, т. е. перестает быть действующим субъектом. Положение не меняется, если понимать под субъектом коллективного субъекта суггестии: в любом случае аффект – это «ответ на уже фактически наступившую ситуацию», никак не выполнение прескрипции. В этом смысле аффекты противоположны собственно эмоциям, основным свойством которых является «отчетливо выраженный идеаторный характер», т. е. способность «предвосхищать ситуации и события, которые реально еще не наступили, и возникают в связи с представлениями о пережитых или воображаемых ситуациях». Другая важная особенность эмоций, отличающая их от аффектов, «состоит в их способности к обобщению и коммуникации»248248
Там же, с. 38.
[Закрыть].
Скажем пару слов и о чувствах: они, разделяя с эмоциями перечисленные признаки, в дополнение к ним имеют «отчетливо выраженный предметный характер, возникающий в результате специфического обобщения эмоций». В отличие от ситуативных эмоций, чувства формируют устойчивые эмоциональные отношения к объектам и образуют ряд уровней249249
Там же, с. 39.
[Закрыть]. Генетически это самый молодой и наиболее сложный подкласс эмоциональных процессов, который в связи с нашим исследованием далее нас интересовать не будет.
Думаем, уже понятно, что нам предстоит описать переход от первой формы эмоциональных процессов – аффектов к собственно эмоциям, причем, как мы уже знаем, в непосредственной связи с изменениями в системе звуковой сигнализации. Только с эмоций в собственном смысле начинается субъективное отражение знаков – действие суггестии. Аффекты – явление еще интердиктивной (а значит – первосигнальной) природы. Раздражитель, вызывающий аффективную реакцию, является по сути интердиктивным сигналом – он тормозит двигательные реакции и вызывает навязчивые состояния. Сам по себе аффект – это интердиктивный ответ на интердикцию, т. е. контринтердикция, дополнение действия интердикции контрдействием – либо через вытеснение аффективного комплекса из сознания, либо через бурную неконтролируемую реакцию «аффективного взрыва».
Говоря о начале человеческой истории, мы должны исключить такую аффективную реакцию, как вытеснение – для нее еще не было психологического инструмента, грубо говоря, нечем еще было вытеснять. Значит, остается только «аффективный взрыв» – то самое «состояние аффекта», которое допускается в качестве смягчающего вину подсудимого обстоятельства в современном уголовном праве. Надо полагать, что звуковой сигнал, издаваемый при «аффективном взрыве» нашими предками, имел такой же бурный и неуправляемый характер, как и весь «взрыв» в целом, и все же у него была одна характеристика, которая роднит его с интонированным звуковым сигналом второй сигнальной системы: поскольку контринтердиктивное действие направлено на прекращение действия интердикции, постольку и звук, издаваемый при «аффективном взрыве», при всей его неосознанности, имеет объективную направленность на источник интердикции. Другими словами, в отличие от обычных звуковых сигналов животных, которые не адресуются никому, а лишь сопровождают их рефлекторную деятельность, аффективный звуковой сигнал имеет четкую направленность, адресата, в фигуре которого адресант («человек Петр») получает «другого» («человека Павла») и таким образом – «зеркало», предпосылку для возникновения субъективности.
Правда, поскольку речь идет об адресате – палеоантропе (непосредственно, либо представленном своими агентами-неоантропами) и адресанте – неоантропе, чей именно аффективный крик становится отправным пунктом перехода к интонированному звуку, постольку в «зеркале» человек видит изображение не «другого человека», а «античеловека», чему суждено существенным образом повлиять на качество намечаемой субъективности. Понадобится еще целая всемирная история, чтобы вывернуть эту вывернутую наизнанку человеческую субъективность на ее действительную, лицевую сторону.
Как и во всех предыдущих примерах, решающим условием для перехода нам послужит групповое участие в этом акте неоантропов. Поскольку звуковые сигналы в первой сигнальной системе не бывают сами по себе, а всегда сопутствуют какой-то модели поведения, постольку для целей нашей реконструкции нам логичнее всего принять как внешнее необходимые условия описания, данные нами ранее в предыдущих эскизах, по отношению к которым переход от аффективного звука к интонированному будет иметь сопутствующий характер.
Так, случайная встреча двух покрытых красной охрой неоантропов, прежде чем они разглядели друг в друге сородичей, могла сопровождаться аффективным криком, который в момент узнавания изменил свои просодические характеристики (высоту тона, тембр, интенсивность и т. п.) и таким образом стал элементом знака «мы» наряду с окраской тела. Впоследствии он мог применяться уже и самостоятельно в ситуациях, когда неоантропы не имели возможности друг друга видеть. Этот же звуковой сигнал мог сопутствовать состоянию эйфории или даже доводить до экстаза в ходе ритуала группового опьянения. При этом внешне неочевидный контринтердиктивный сигнал – собственно опьяняющее воздействие, сопровождающееся некоторым рассогласованием моторных функций, т. е. отрицательным по сути для организма эффектом, – в известном смысле «отменялся» этим совместно издаваемым звуковым сигналом, провоцируя деятельную активность группы.
В ходе изложения прежних примеров мы пришли к выводу об изначальном разделении элементов знака между совершающей ритуал группой неоантропов и имеющей место в реальности знаковой ситуацией (см. Эскиз 3). Если так, то нам неизбежно придется проследить данное разделение и в генезисе первого слова. А поскольку далее мы конкретизировали, что первым ритуалом, по всей видимости, был ритуал жертвоприношения, то нам предстоит «озвучить» именно его. Распределение звуковых ролей в этом ритуале на наш взгляд могло быть таково. Прежде всего, кандидат на роль жертвы, – скорее всего, ребенок, не включенный в группу и ассоциирующийся у нее с реальным палеоантропом, – подвергается со стороны группы мощнейшей интердикции. Она совсем не обязательно передается ему посредством звукового сигнала, скорее, в интердиктивный сигнал складывается для него вся сопутствующая ситуация, вся сумма поведенческих актов неоантропов, приготовляющихся совершить акт жертвоприношения. Поведение группы провоцирует у кандидата контринтердиктивный звуковой сигнал в виде аффективного крика, на который группа отзывается его имитацией, однако не точной копией, а с приданием ему особой «групповой» интонации. Этот групповой клич легко преодолевает контринтердикцию крика жертвы, тормозя жизненно важные функции ее нервной системы и возвещая о рождении социальности.
Таким образом, первое слово рождается путем интонирования аффективного крика. Интонация вносит в него элемент надындивидуальности – подчиняющей себе всего индивида (и прежде всего его нервную систему) всеобщности. Вот эту всеобщность и именуют социальностью, которую мы теперь можем определить как отношения, формирующиеся на основе второй сигнальной системы. Социальность подчиняет себе реальность, элиминируя из неё асоциальный элемент. Со временем, по гипотезе Поршнева, ритуал жертвоприношения превратился в относительно более щадящий обряд инициации250250
Поршнев Б.Ф. О начале человеческой истории (проблемы палеопсихологии). С. 391–392.
[Закрыть], а остаточный след озвученной модели ритуала можно попытаться увидеть в древнегреческом театре с особой ролью в нем хора, ведущего диалог с изначально единственным актером251251
Кулишова О.В. Хор в древнегреческом театре V в. до н. э. // Маска и театр в зрелищной культуре античного мира. СПб, 2015. С. 36–51.
[Закрыть], однако рассмотрение этих вопросов уже выходит за рамки задач нашего исследования.
Заключение
При написании работы мы пришли к выводам, которые излагаем ниже в порядке соответствия поставленным во Введении задачам.
Первое. История вопроса о начале человеческой истории вплоть до выхода книги Б. Ф. Поршнева «О начале человеческой истории (проблемы палеопсихологии)» – это история становления средств и методов его разрешения. Собственная история у вопроса начинается только в 1974 году – с выходом указанной книги. В скрытом виде вопрос заложен уже у Декарта – в его идее о способности к речи как главном отличии человека от животного, – однако, связав в своей философии эту идею с дуализмом души и тела, Декарт надолго отодвинул научную постановку вопроса: несколько веков ученые занимались тем, что отрицали дуализм, не замечая задачи поиска общего основания, на котором он смог развиться. Важнейшими вехами на пути к научной постановке вопроса о начале человеческой истории в развитии социально-философской мысли стали: идея поступательного исторического развития, впервые выдвинутая в XVIII в. Джамбаттистой Вико; идея Гегеля о всемирной истории как восходящем ряде эпох, а также наиболее полно развитая Гегелем общая для немецкой классической философии идея о прогрессе истории как прогрессе свободы; марксистская концепция исторического материализма, развившая названные идеи немецкой классической философии в материалистическом ключе, что позволило прочно связать их с достижениями в области естествознания; наконец, идея ускорения исторического прогресса, которая сама по себе наводит на мысль о точке в истории, в которой скорость прогресса была нулевой.
В истории науки важнейшими этапами для формулирования вопроса о начале человеческой истории стали: проблема «недостающего звена» («обезьяночеловека»), возникшая на основе эволюционной теории и одновременно сформулированная К. Фохтом и Э. Геккелем; исследования первобытной психики (идеи Э. Дюркгейма о «коллективных представлениях» и Л. Леви-Брюля о «дологическом мышлении») и детской психики (Ж. Пиаже, А. Валлон, Л. С. Выготский и др.); учение И. П. Павлова о двух отрицательно индуцированных в отношении друг друга сигнальных системах, к которой он пришел после долгих лет бесплодных попыток экспериментально вывести сознание напрямую из рефлекса; достижения советской психологической науки, разносторонне развивавшей идею Выготского о центральном месте речи для функционирования человеческой психики; создание Поршневым теории тормозной доминанты и бидоминантной модели высшей нервной деятельности на основе синтеза нейрофизиологических концепций Павлова и Ухтомского. Лишь на последнем этапе в руках исследователей появился аппарат, при помощи которого стало возможно приступить непосредственно к решению вопроса.
В СССР, несмотря на заявленную актуальность проблемы отношения биологического и социального, постановка вопроса оставалась абстрактной. Поршнев был единственным советским марксистом, которого заинтересовал момент качественного перехода и кто перенес вопрос на конкретную почву действительной истории человечества. С точки зрения научной методологии концепция Поршнева предложила слияние социально-гуманитарных наук с естественными, мост между ними. В перспективе это должно было основательно повлиять на внутреннюю структуру всего научного знания, и уже сейчас принятие концепции Поршнева придает гуманитарному знанию иное звучание. Так, введение в научный оборот представления о действительно существовавшем исторически «античеловеке» дает основание для нового развития этики как научной дисциплины.
Одновременно концепция Поршнева окончательно устраняет предпосылку идеи «золотого века». Не разумный, а безумный вышел человек из природы и лишь по мере социально-исторического развития завоевывал себе разум. Становится очевидным, что уходящие корнями в первобытность так называемые «традиционные ценности» имеют смысл лишь в логике тотального противостояния закрытых групп («мы» – «они»). Утверждение, что признаки человеческой социальности не являются заданными раз и навсегда, а меняются в ходе истории на противоположные, получает свое научно-методологическое обоснование.
Подытоживая выводы, сделанные нами при решении первой поставленной задачи, мы можем выдвинуть следующее общее положение. Наш подход к теме не только теоретически возможен (научно правомерен), но и подготовлен всем предшествующим развитием науки. Ключевую роль в этой подготовке сыграла палеопсихологическая теория Б. Ф. Поршнева, который показал принципиальную решаемость вопроса о начале человеческой истории и этим обозначил подведение единого основания под весь комплекс социально-гуманитарных наук, приблизив решение проблемы «гуманитарного синтеза». Один из основополагающих вопросов социальной философии в его концепции принимает форму предельно четко поставленной научной проблемы – проблемы перехода от низшей формы инфлюации (интердикции) к ее высшей форме (суггестии).
К сказанному остается добавить, что научная разработка понятия суггестии позволила Поршневу указать на ключевое соединение, в котором проблемы глоттогенеза, антропогенеза и социогенеза обнаруживают себя не как три разные, а как единая проблема: в этой точке одновременно начинают свое развитие речь, психика и общество. Вплоть до начала цивилизации (появления письменной речи) человеческая психика суггестивна – не знает разделения на субъект и объект. Психический, говорящий и социальный индивид синкретично слиты.
Второе. В значительной мере сложность концепции Поршнева, ее терминологического и понятийного аппарата, предопределена тем, что человеческая психика в начале истории противоположна нашей. При этом развитие теории Поршнева лежит в русле тенденций развития психологической науки своего времени, что подтверждается практически одновременной разработкой идеи дипластии Поршневым и близких к ней теорий «когнитивного диссонанса» Леона Фестингера и «двойного послания» (double bind) Грегори Бейтсона. А открытие в начале 1990-х годов так называемых «зеркальных нейронов» не только проясняет важный для концепции Поршнева нейрофизиологический механизм подражания, но и может послужить экспериментальному подтверждению предложенной Поршневым теории тормозной доминанты и построенной на ее основе бидоминантной модели высшей нервной деятельности.
Третье. Множество «загадочных» явлений животного мира, которые современные этологи и зоопсихологи пытаются объяснять приписыванием животным субъективности, социальной жизни, мышления, стирая тем самым грань между животным и человеком, можно объяснить при помощи понятия интердикции, не прибегая к антропоморфизации. Корни интердикции уходят вглубь нервной системы позвоночных, где они, вероятно, задействованы в механизме простого переключения рефлексов. Учитывая широкий природный изоморфизм сигналов первой сигнальной системы, наличие явного «интердиктора» для возникновения интердикции необязательно. Вектор общего развития явления интердикции в эволюции позвоночных направлен из точки, где оно служит всего лишь описанием случайного сбоя, поломки рефлекторного механизма, к приобретению им статуса явления, необходимого для выживания вида.
Четвертое. В явлении интердикции материя позволяет нам увидеть in natura отблеск собственного идеального свойства – мыслимости, познаваемости. Оно возникает в связи с раскрытием объективной противоположности между наличием и отсутствием чего-либо и имплицитно несет в себе эту противоположность. Прежде чем начать субъективно ощущать мир вещей в его разнообразии, – а вместе с ним и объективную реальность мира, – человек получает возможность ощущать отсутствие необходимых вещей. Первое слово ребенка – не просто интердикция (по Поршневу), но контринтердикция, так как оно не просто выражает «запрет» на получение им требуемой вещи, но и отклоняет этот «запрет» тем, что необходимая вещь «проявляется» в слове. Таким образом ребенок предохраняет себя от фрустрации.
В снятом виде интердикция сохраняется во всех аспектах речевого взаимодействия: произнесение определенного слова с определенной интонацией тем самым отменяет произнесение всех других слов и других интонаций; общаясь о чем-то, мы тем самым отклоняем общение о чем-то другом. Примером проявления у человека интердикции «в чистом виде» может служить младенческий плач, характерный только для нашего вида.
С появлением троглодита (палеоантропа), у которого явление интердикции заняло место безусловно необходимого для его жизнедеятельности, запустился эволюционный механизм самоотрицания интердикции. Этот механизм реализовался в человеке (неоантропе), в архитектонике коры головного мозга которого присутствуют новообразования (префронтальные отделы), наделяющие его свойством особой податливости на интердикцию – свойством, полезным не ему, а его предковому виду. Корни этого противоречия можно наблюдать в нейрофизиологических особенностях отряда приматов в целом, эволюции которого одинаково свойственны две линии: на развитие повышенной лабильности нервной системы, обеспечивающей устойчивость к неврозам за счет реализации неадекватного рефлекса, и на развитие высокой имитативности. При том что неадекватный рефлекс обладает повышенной имитатогенностью, такое сочетание само по себе создает угрозу возникновения фатальных для популяции ситуаций. Достигнутые в ходе эволюции отряда приматов сверхлабильность и гиперимитативность у неоантропа функционально превратились в свою противоположность: на любое изменение дифференцировки, которое адекватно было проигнорировать, сверхлабильная нервная система реагирует, и это ведет ее к «трудному состоянию», а резкие переключения гиперимитативности с торможения на возбуждение и наоборот провоцируют персеверацию, т. е. навязчивое состояние – первейший признак невроза. Поэтому, в отличие от других приматов человеку свойствен невроз.
«Странности» поведения троглодитид, такие как создание избыточных каменных «орудий», не имеющих утилитарного предназначения отверстий в скальных поверхностях и т. п., можно объяснить их потребностью в аутостимуляции, также как и палеолитическую «живопись» ранних Homo sapiens (Куценков). Однако между ними имеется существенная поведенческая разница: изображения, создаваемые людьми, в отличие от следов «орудийной» деятельности троглодитид, не представляют стереотипического имитативного ряда, т. е. не копируют друг друга. Таким образом, здесь перед нами другая интердикция, а именно – контринтердикция, присущая только человеку. Куценков не заметил этой разницы из-за того, что отверг палеопсихологический понятийный и терминологический аппарат Поршнева.
Контринтердикция («интердикция II» по Поршневу) – среднее звено в метаморфозе интердикции в суггестию. Однако в ходе этого метаморфоза среднее звено не могло не претерпеть свой собственный внутренний метаморфоз. С началом обратного вала перемещений в расселении человечества (около 15 тыс. лет назад) бегство как преимущественная контринтердиктивная реакция на палеоантропа сменяется иным типом преимущественной контринтердиктивной реакции – убийством «чужого». Этим объясняется отмечаемый палеоантропологами резкий рост насилия в этот период.
Пятое. Врожденная склонность к неврозам у человека – следствие не свертывания естественного отбора (как у Давиденкова), а самого отбора, причем сам отбор был уже не совсем «естественным»: еще вполне стихийный, он находился уже «как бы на грани естественного отбора и искусственного отбора» (Поршнев). Интердиктивное воздействие со стороны общества на нервную систему индивида является скрытой подоплекой возникновения неврозов у человека. Современные представления о подвижности психической нормы уже сами по себе намекают нам о «патологичности» нормы.
Несомненная заслуга С. Н. Давиденкова – нейропатологическое объяснение природы ритуала, незамеченное современниками и мало известное до сих пор. Но мы не можем принять вывод Давиденкова о рациональности мышления первобытного человека: необходимость и практическая эффективность ритуала не только не дают нам оснований говорить о рациональности архаичного сознания, но даже не подразумевают еще его существования. Только рефлексия ритуала дает первую форму сознания – анимизм. А то, что многие исследователи склонны усматривать в действиях дикарей привычную логику, объясняется объективным существованием законов логики – ее присутствием в самой природе.
Шестое. Открытие у африканских охотников и собирателей хадза случайных перемещений по принципу «блуждания Леви» как поисковой стратегии может служить дополнительным подкреплением теории инстинктивного труда в начале человеческой истории. Также результаты исследований доместикации растений позволяют утверждать, что этот процесс не был сознательным актом, и таким образом также может служить косвенным свидетельством в пользу теории инстинктивного труда. Анализ текстов Ригведы позволяет выделить в них предмет и средства труда, но самого труда как целенаправленной деятельности в них нет, как нет и сознания человеком самого себя в качестве трудящегося. Таким образом, процесс труда (по Марксу) у ариев Ригведы еще не сложился. Другим косвенным подтверждением теории инстинктивного труда могут послужить результаты исследований детской речи и психики группой Пиаже, которые показывают, что дети до 7–8 лет мало используют информативную функцию речи для регулирования своих коллективных действий. В целом наивно полагать, что первобытные люди, условия развития которых коренным образом отличались от наших, могли обладать психикой аналогичной нашей. Труд в начале человеческой истории мог быть только чем-то противоположным в своей основе труду как целесообразной деятельности. Это не был уже животный инстинктивный труд, поскольку он подчинялся суггестивной прескрипции общности, но это все еще был «животнообразный» (используя выражение Маркса) инстинктивный труд, поскольку процесс труда не находил своего отражения в сознании трудящегося человека. При этом инстинктивный труд не совсем чужд «классическому» труду «Капитала», и следы первого можно отыскать во втором: так, стоимость (в отличие от потребительной стоимости) по Марксу создается «расходованием человеческой рабочей силы в физиологическом смысле», т. е. именно неосознанным, «животнообразным» трудом.
Седьмое. Отношение «мы» («люди») из отклонения отношения «они», а равно и знаковая функция человеческого поведения из компенсаторной, могли возникнуть только как отрицание, причем такое отрицание, которое сняло саму необходимость с одной стороны – в отклонении отношения «они», а с другой – в компенсаторной функции поведения.
На примере возможного поведения неоантропов, использующих красную охру с компенсаторной целью (Эскиз 1. «Красная охра»), мы показали, как простая случайная встреча двух одинаково выкрашенных охрой неоантропов могла изменить модальность их отношений, а вместе с ней и функцию окрашивания – с компенсаторной на ритуальную. В представленной модели ритуал – первая форма социального поведения. Аналогичное изменение модальности отношений и смену компенсаторной функции поведения на ритуальную мы показали на примере совместного опьянения неоантропов (Эскиз 2. «Опьянение»). Наличие двух независимых эквивалентных примеров позволило нам констатировать появление знаковой функции.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.