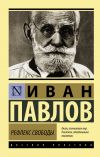Текст книги "Рождение человечества. Начало человеческой истории как предмет социально-философского исследования"

Автор книги: Виталий Глущенко
Жанр: Философия, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 13 страниц)
Приведенных примеров интердикции в животном мире достаточно, чтобы сделать некоторые первые выводы. Прежде всего, о том, что никаких оснований для стирания качественной грани между животным и человеком, биологическим и социальным, они не дают: необычное поведение животных, по крайней мере во многих случаях, можно объяснить, не прибегая к антропоморфизации, опираясь на явление интердикции.
Другой вывод относится к более глубокому пониманию нами самого явления интердикции – его места в первой сигнальной системе. Не будем забывать, что представление о неадекватности неадекватного рефлекса весьма условно. Если его называют неадекватным, то подразумевают при этом его неадекватность ситуации, в которой он себя проявляет (и которая имеет тенденцию непрерывно меняться), но ни в коем случае не неадекватность биологическому виду: несвойственный своему виду рефлекс животное имитировать не будет. Один и тот же рефлекс может быть адекватным и неадекватным. Изменения экологии вида может привести к тому, что какой-то рефлекс навсегда перестает проявлять себя как адекватный (сохраняясь в «депо неадекватных рефлексов»128128
Поршнев Б.Ф. О начале человеческой истории (проблемы палеопсихологии). С. 197-206.
[Закрыть]), но это не отменяет общего правила, потому что когда-то он все-таки был адекватным. Что же касается имитатогенности рефлексов, то для сохранения вида она имеет не только значение, на которое чаще всего обращают внимание, говоря об имитации у животных, – ее значение для «обучения», передачи опыта, – но и то экстренное значение, которое позволяет особи реагировать на сигнал опасности, непосредственный источник которой от нее скрыт. Так, антилопе, мирно пасущейся на лугу и не замечающей угрозы, тем не менее, вдруг приходится срываться с места и бежать, реагируя на поведение других антилоп в стаде, хотя, если бы антилопа умела рассуждать и принимать решения, ей бы такое бегство могло показаться неадекватным, ведь никакой опасности не видно. Адекватный рефлекс просто не нуждается в столь срочной имитации, зато в стремительно меняющейся ситуации вовремя расторможенный неадекватный рефлекс может оказаться как никогда адекватен, как мы уже отметили ранее, его повышенная имитатогенность биологически оправдана. Но поскольку интердиктивный сигнал – сигнал первой сигнальной системы, постольку его роль способна сыграть любая поступающая извне информация: визуальная, акустическая, ольфакторная, тактильная или другая, и самое интересное здесь то, что наличие интердиктора для этого не обязательно. Если центральная нервная система оказывается перед лицом новой дифференцировки, роль случайности резко возрастает, и интердиктивным сигналом в таком «трудном состоянии» может стать любой внешний сигнал, как то порыв ветра, хруст обломившейся ветки и т. д. Достаточно сильный сигнал может прервать действие рефлекса, во власти которого находилась особь, и запустить новый. И здесь мы берем на себя смелость развить и дополнить гипотезу Поршнева: корни интердикции уходят вглубь аппарата первой сигнальной системы, где они, по-видимому, задействованы в механизме переключения рефлексов.
Наконец, еще один вывод. Примеры интердикции у животных нами излагались в целом без всякой системы, так что простые и сложные кое-где оказались перемешаны; для целей и задач социальной философии их систематизация не существенна. Нам важно было показать лишь, что эти примеры не суть проявления у животных каких-то интеллектуальных способностей, и, действительно, функциональные границы первой сигнальной системы – рефлексов – нигде не нарушены. Но даже на основе бессистемного ряда примеров можно увидеть, что в процессе эволюции позвоночных общий вектор раскрытия понятия интердикции направлен от точки, в которой она служит всего лишь описанием случайного сбоя, «поломки» рефлекторного механизма, к тому моменту, в котором интердикция приобретает статус явления, необходимого для выживания вида.
Б) Интердикция у человека в онтогенезе и филогенезе
Все предметы и явления объективной реальности мыслимы, познаваемы – в этом состоит идеальное свойство материи. Правда, идеализм отрицает у материи идеальные свойства: для него, наоборот, материя является одним из «свойств», воплощением идеи. Спор материализма и идеализма разрешится, конечно, совсем не в теории, и тем не менее нельзя обойти вниманием ту особенную роль, которую исследование явления интердикции способно сыграть для усиления в этом споре позиций материализма. Именно в явлении интердикции материя позволяет нам видеть – пусть всего лишь как краткий отблеск, но зато in natura – свое идеальное свойство. Для раскрытия этого тезиса продолжим анализ интердиктивной функции первого слова в онтогенезе человека, начатый Поршневым.
Каким бы ни было первое слово ребенка, оно всегда передает одно и то же отношение, т. е. по сути это одно слово, отражающее невозможность чего-то получить. Во взрослой речи близкое значение выражается словом «нет», – но не тем словом «нет», которое антоним слова «да», а тем «нет», которое антоним слова «есть», т. е. означающим не противоположное согласию несогласие, а противоположное присутствию, наличию чего-либо, отсутствие.
Сделанное замечание крайне важно. Антонимия «да» – «нет», передающая противоположность между утверждением и отрицанием, либо согласием и несогласием, сама по себе подразумевает наличие в сознании какой-то вещи – это всегда утверждение или отрицание чего-то, согласие или несогласие с чем-то. Нельзя утверждать или отрицать, соглашаться или не соглашаться до всякого знания об этой вещи. В этом смысле противоположность «да» – «нет» можно назвать вторичной. Совсем другое дело – противоположность «есть» – «нет». Мы вполне можем констатировать присутствие или отсутствие чего-либо, о чем мы ничего не знаем, какого-то нечто. И можно представить ситуацию, при которой мы бы не знали, что это нечто противостоит или может противостоять каким-то другим нечто, т. е. является вещью в ряду других вещей, так что и сама констатация этого нечто в факте присутствия или отсутствия становится излишней. Таким образом, противоположность «есть» – «нет» первична, она до вещи.
Механика появления первого слова, описанная Поршневым, такова: ребенок тянется к какому-то предмету (первостепенную важность общения с миром для него в этом возрасте имеет тактильный контакт), но ему этот предмет ощутить не позволяют, и в речи присутствующих при этом взрослых звучит слово, которое ребенок повторяет как своеобразную замену неполученному предмету. Это слово закрепляется в качестве «звукового комплекса», который ребенок будет издавать всякий раз, переживая лишение, отсутствие чего-либо. Это и есть интердиктивная функция первого слова – единственная его функция.
«Почему чаще других первым словом оказывается “мама”? Потому что самым частым и самым сильным “нельзя” в этом возрасте является отказ в материнской груди (а также отказ ребенку, тянущемуся к матери на руки) и произносимое кем-либо слово “мама” нередко может совпасть во времени с таким отказом и с моментом наступления зрелости соответствующих нейрофизиологических структур головного мозга. Слово “мама” и будет выражать отказ, запрещение. Однако то же самое может случиться, когда ребенку дают послушать тиканье часов и произносят при этом “часы”, но не дают их ему в руки; он произнесет “часы”, и это будет выражением запрета, так что родные вполне могли бы теперь всегда вместо “нельзя” произносить “часы”»129129
Там же, с. 234.
[Закрыть].
Здесь мы можем заметить, что сам Поршнев больше обращает внимание на выражение первым словом отказа, запрещения, «нельзя», а не отсутствия или лишения чего-либо. Такое предпочтение понятно, если вспомнить, что в противоположность большинству исследователей глоттогенеза, рассматривавших проблему в ракурсе «человек – среда», он взялся рассмотреть ее в ракурсе «человек – человек». Однако, не оспаривая в первом слове элемента запрета, мы все же поставим в центр внимания именно элемент отсутствия, поскольку иначе останется риск понимания первого слова в уже речевом смысле – как запрещающего знака, т. е. имеющим и суггестивную, а не только интердиктивную функцию. Таково слово «нельзя» в речи взрослого человека, которое вовсе не аналогично первому слову ребенка, еще не перешагнувшего порог речи. Поршнев и сам настаивает на том, что первое слово «не является “знаком” какого-либо предмета или действия, не имеет “значения”», – следовательно, не имеет и значения запрета, – оно вообще «еще не принадлежит к речевой деятельности»130130
Там же.
[Закрыть]. Скорее, о нем можно было бы сказать, что это слово – действие, замещающее собой другое действие, невозможное для выполнения, действие с отсутствующим предметом. Служа заменой тактильного контакта с недоступным для ребенка предметом, оно предохраняет его от фрустрации.
В некотором смысле функционально ближе к первому слову в онтогенезе команда запрета, которую дрессировщик адресует животному («нельзя», «фу»), однако есть существенная оговорка. В случае команды дрессировщика мы действительно имеем интердиктивный сигнал, обращенный напрямую к рефлексу, но только в этом случае для самого животного запрет вовсе не является словом: мы не можем представить себе собаку, говорящую сама себе «фу» (звуками или жестом) всякий раз, когда она не имеет возможности получить какую-то вещь. В отличие от команды дрессировщика, первое слово ребенка, хотя и не принадлежит еще к речевой деятельности (речь появится, когда возникнут отношения между словами), все-таки уже слово – «продолжение в социальном теле»131131
Там же, с. 31.
[Закрыть] человеческой особи. Собственно, первое слово уже и не просто интердикция, а «интердикция интердикции» – контринтердикция, т. е. уже не просто команда «нельзя», но в то же время и преодоление этой команды. Первое слово потому и предохраняет ребенка от фрустрации, что то, чего нет, все-таки есть – в самом этом слове.
Итак, к сделанным ранее выводам мы можем добавить следующий: явление интердикции возникает в прямой связи с объективной противоположностью между наличием и отсутствием («есть» – «нет») чего-либо и имплицитно несет в себе эту противоположность. Теперь перед нами задача: из этого объективного отношения вывести субъективность, позволившую развиваться социальности. Для этого рассмотрим логическую выкладку, в которой буквами обозначим нарастающий ряд вещей:
есть А – нет А;
есть Б – нет Б;
есть В – нет В;
и т.д.
В правом столбце перечисляются отсутствия А, Б, В…, которые «материально» совершенно идентичны друг другу. Отсутствие – пустое место, оно равно самому себе, что бы на его месте ни отсутствовало. Таким образом отсутствие мы можем представить посредником между двумя абсолютно разными вещами. Но в то же время, если необходимо А, то может ли Б его заменить? Нет. И в этом смысле отсутствия уже не равны друг другу: «нет А» – совсем не то же самое, что «нет Б». Их (А и Б) нет в наличной объективной реальности, их нельзя в данный момент ощутить, но они различимы между собой, отражают разнообразие мира, и стало быть, они есть информационно132132
Урсул А.Д. Отражение и информация. – М.: «Мысль», 1973, с. 40. Необходимо отметить, что мы категорически против отождествления «идеи» и «информации», но здесь перед нами тот редкий случай, когда эти понятия действительно сближаются. Идея всегда содержит в себе качественный, оценочный, субъективный момент, в отличие от объективной по своей природе информации, она всегда ad hominem, но в данном случае качественно само раскрытие для человека «информационного поля».
[Закрыть].
Итак, активное, деятельное отсутствие – «нет» и «есть» одновременно – соответствует тому, что в палеопсихологии называется интердикцией. Это отсутствие, которое существует и отражается нервной системой как особое действие. Мы уже отметили, что эта сторона интердикции раскрывается перед нами лишь в более сложном явлении контринтердикции, которого не встречается в природе до человека, но ясно, что прежде чем раскрыться, оно должно уже заранее скрыто существовать в интердикции. И в самом деле, уже в простейшей интердикции первого уровня «отмена» рефлекса подразумевает его скрытое «где-то» существование. А поскольку, как уже было сказано, отсутствие может служить посредником между совершенно разными, никак не связанными между собой вещами, постольку мы видим уже в интердикции предстоящее второй сигнальной системе непосредственное осуществление связи всего со всем.
Так, прежде чем ощутить мир вещей во всем его разнообразии, объективную реальность мира, человек начинает ощущать в нем отсутствие вещей. Таким образом, нарушая синкретическую гомогенность отражения мира первой сигнальной системой, интердикция закладывает предпосылку для появления субъективности: приоткрывает перед человеком некое «идеальное пространство», в котором еще ничего нет, но которому далее предстоит заполняться представлениями, образами, понятиями, значениями, смыслами. Без этого «идеального пространства» социальная жизнь была бы невозможна.
Итак, в интердикции, которая не принадлежит сама сфере «духа» и является «высшей формой торможения позвоночных»133133
Поршнев Б.Ф. О начале человеческой истории (проблемы палеопсихологии). С. 232.
[Закрыть], т. е. явлением из области биологии, материя демонстрирует свое идеальное свойство познаваемости (мыслимости) в виде объективной неравнозначности отсутствий А и Б. Перед человеком высвечивается то идеальное, которое изначально имеет в себе материя.
Разумеется, что идеальное здесь – еще не идея в полном смысле слова. Идея – это всегда идея чего-то, как бы абстрактна она ни была, а здесь идеальное, скорее, можно было бы назвать «идеей идеи», местом под идею, которое, в отличие от действительной идеи, неустойчиво и скрывается, как только ситуация «нет А» сменяется ситуацией «есть А». Чтобы идеальное не исчезало, ситуация «отсутствия» должна закрепиться, или, другими словами, – заодно возвращая проблему в физиологическую плоскость, – ультрапарадоксальное состояние должно приобрести инертность, устойчивость. Этот метаморфоз неоантроп однажды пережил в филогенезе и всякий раз переживает в онтогенезе вместе с приобщением к речи, которая предоставляет ему не только необходимое идеальное пространство, но и материал для формирования мира идей, являющегося одновременно продуктом и предпосылкой социального развития.
Интердиктивная функция – исторически первая функция человеческой речи, и она сохраняется в ней навсегда: «вторая сигнальная система – это стимулирование таких действий индивида, которые не диктуются его собственной сенсорной сферой», следовательно «она прежде всего должна осуществить торможение этих прямых побуждений и поступков, чтобы возможно было заменять их поступками, которых не требовала чувствительная сфера индивидуального организма»134134
Там же, с. 86.
[Закрыть]. Еще И. П. Павловым был установлен факт отрицательной индукции первой и второй сигнальных систем, но на этом проявления интердиктивной функции речи не заканчиваются. «Ультрапарадоксальная “фаза” для человека в отношении высшей нервной деятельности на уровне второй сигнальной системы стала пожизненной»135135
Там же, с. 454.
[Закрыть], а значит, интердикция не только проявляется во всех аспектах речевого взаимодействия между людьми, но и становится «подкладкой» всей их психической деятельности при овладении речью. При некоторых психических патологиях подкладка оголяется, что представляет собой отдельную большую тему для исследований: всякий негативизм – немотивированное отклонение воздействия со стороны других людей, в том числе словесного воздействия, – физиология сводит к ультрапарадоксальному состоянию136136
Долин А.О. Патология высшей нервной деятельности. М.: «Высшая школа», 1962.
[Закрыть]. Но, конечно, у здорового человека интердикция проявляется исключительно в «снятом» виде, хотя и в таком виде ее можно зафиксировать. Начать с того, что любое произносимое слово отменяет собой произнесение всех других слов. Общаясь о чем-то, мы тем самым тормозим общение о чем-то другом, выбирая определенные интонацию, тембр, лексику, тем самым не говорим по-другому, а между тем известно, что об одном и том же можно сказать по-разному и от этого зависит реакция на сказанное. Таким образом наша речь тормозит спектр неприемлемых для нас реакций слушателя – и в этом ее интердиктивная функция. Лишь во вторую очередь, опираясь на скрытую подготовительную работу интердикции, все более расширяя спектр тормозимых реакций, речь способна предписывать необходимую реакцию, что составляет ее суггестивную функцию. На понимании этих простых фактов строится вся так называемая «информационная политика».
Как уже было отмечено, если первое слово человека и не имеет никакой другой функции, кроме интердиктивной, то это все же несколько иная интердикция, не совсем та, которую мы наблюдаем у животных. Эта интердикция представляет собой не собственно «отнятие», или «отсутствие», а его активное отражение, т. е. направлена против него. Это – контринтердикция. На примерах интердикции у животных мы увидели, что вектор собственного развития этого явления в эволюции живой природы направлен на то, чтобы «найти» вид, у которого оно могло бы закрепиться как безусловно необходимое для жизнедеятельности. Таким видом стал предковый вид Homo sapiens – палеоантропы. Однако с того момента, как такой вид появился, запустился механизм самоотрицания интердикции: заняв у наших предков место основного нейродинамического комплекса в их взаимодействии с окружающим миром, имитативно-интердиктивный комплекс неизбежно оказался потенциально направлен и на себе подобных, а это значит, что вся внутривидовая коммуникация палеоантропов протекала в условиях перманентной угрозы. И эта угроза реализовалась в появлении подвида, быстро дивергировавшего в особый вид Homo sapiens.
* * *
Примером человеческого чисто интердиктивного (не контринтердиктивного) поведения может служить младенческий плач, характерный только для человека. Младенец плачет и тем самым прерывает всякую иную деятельность матери или особи, ее заменяющей, «требуя» себя успокоить, – таким образом, по классификации Поршнева это интердикция наивысшего, третьего уровня. Разумеется, что в наше время воздействие интердикции на мать, благодаря развитию у нее второсигнальных механизмов, совсем не так фатально, как оно могло быть на заре человеческой истории, но нам здесь важно отметить, что это именно врожденное поведение, подтверждающее лишний раз, что людьми все-таки рождаются, а не становятся, как любят иногда заявлять моралисты. Вот что об этом писал российский исследователь Олег Тумаевич Вите:
«Человеческий ребенок рождается с фундаментальным видовым (присущим человеку как особому виду животных) биологическим дефектом: система адекватного инстинктивного реагирования на сигналы окружающей среды глубоко нарушена. На малейшую помеху удовлетворению инстинктивных потребностей может возникнуть неадекватная реакция, скажем, голодный младенец может кричать-плакать, отказываясь при этом от груди. И от матери требуются специальные усилия для того, чтобы успокоить малыша, – как описано выше. Только после этого он сможет начать сосать грудь. Даже домашние животные не ведут себя так. Некоторые исследователи (например, американский антрополог Эшли Монтегю) говорят о врожденном сломе всей системы инстинктивного поведения у человека.
А слом системы инстинктивного поведения – это ведь именно биологическая особенность, причем, с биологической точки зрения, особенность вовсе не благоприятная для выживания вида. Однако человек разумный выжил и даже преуспел в своем, зачастую рискованном, стремлении подчинить себе всю остальную природу. И в нагрузку к обретенному стремлению к всемогуществу получил особую привилегию: время от времени страдать от невротического поведения…»137137
Вите О.Т. Материнская функция утешения // Персональный сайт Вите О.Т. [Электр. ресурс] URL: http://www.olegwitte.ru (Дата обращения: 27.06.2015).
[Закрыть]
Олег Вите, к сожалению, недавно ушедший из жизни, был самым известным и эрудированным из популяризаторов наследия Поршнева. Это благодаря, прежде всего, его усилиям увидела свет полная версия книги «О начале человеческой истории». В 2009 году он опубликовал статью, в которой применил палеопсихологический аппарат Поршнева к результатам психоаналитических исследований, – первый опыт такого рода. И, как отмечает исследователь, «быть может, самый неожиданный результат предложенного в статье сопоставления филогенетических представлений Поршнева и онтогенетических представлений психоанализа – удивительная легкость их согласования»138138
Вите О.Т. Палеопсихология Поршнева и психоанализ: тревога восьмимесячного и некоторые смежные проблемы психического развития // Журнал практической психологии и психоанализа. – М.: Институт практической психологии и психоанализа, 2009, № 2. [Электр. ресурс]. URL: http://psyjournal. ru/psyjournal/articles/detail.php?ID=2834 (Дата обращения: 30.06.2015). Сокращенная версия статьи был представлена как доклад на конференции «Восточноевропейская и западноевропейская ментальности: есть ли надежда на взаимопонимание?», проводимой Частным университетом им. Зигмунда Фрейда в Вене в марте 2009 года.
[Закрыть].
Действительно, в психоанализе давно и хорошо известно о фрустрирующем воздействии речи на детей, – правда, не как об одном из проявлений интердиктивной функции речи. В центре внимания статьи объяснение появления у младенцев в возрасте примерно восьми месяцев открытой около семидесяти лет назад Рене Арпадом Шпицем негативной реакции на незнакомых, «чужих» людей. С тех пор никто не сомневался в важности «восьмимесячного» рубежа для психического развития ребенка, однако его убедительного теоретического объяснения не было, пока Вите не разглядел ему параллель у Поршнева и не распознал в «тревоге восьмимесячных» важный этап формирования второй сигнальной системы – невротическую реакцию на интердикцию, или «ОНИ-чувство» по терминологии автора, отталкиваясь от которого делается возможным «МЫ-чувство» – ощущение общности и, как его оборотная сторона, суггестия. Включенный в социум с самого рождения, ребенок подвергается с его стороны возрастающему психологическому воздействию, и очень важно для саморазвития ребенка установить этому воздействию жесткие границы. Теперь ребенок будет стремиться отклонять те воздействия, которые им ощущаются как «чужие». Сюда же указывают и проявления негативизма в психопатологии, которые в ранней филогении вида наверняка имели важный биологический смысл.
Однако интересующее нас явление интердикции – его проявления в онтогенезе и филогенезе человека – следует рассмотреть и с другой стороны.
«Наибольшую ступень интердикции мы назвали генерализованной интердикцией: имитационное провоцирование некоторого одного действия парализует возможность каких бы то ни было других действий (очевидно, за исключением функционирования автономной нервной системы) и это состояние парализованности, вероятно, может продолжаться долго – даже после прекращения действия данного имитатогенного агента.
Тем самым высшую форму интердикции можно было бы считать низшей формой суггестии: это уже не торможение лишь того или иного отдельного действия, но навязывание некоего состояния, допустим, типа каталепсии. Однако таков лишь зачаток суггестии, ибо под ней (под “внушением”) понимается возможность навязывать многообразные и в пределе даже любые действия. Последнее предполагает возможность их обозначать»139139
Поршнев Б.Ф. О начале человеческой истории (проблемы палеопсихологии). С. 430.
[Закрыть].
Но чтобы реагировать на суггестию даже в низшей форме «генерализованной интердикции», нервная система должна быть эволюционно подготовлена к этому, заранее должна уже обладать определенным параметром, а именно – в ней должен присутствовать некий особый «блок», способный разом переподчинить действие всех афферентных и эфферентных импульсов диктату второй сигнальной системы. Таким параметром центральная нервная система Homo sapiens, действительно, обладает, – Поршнев назвал это свойство «податливостью на интердикцию», – и обеспечивается оно наличием у человека в архитектонике коры головного мозга верхних префронтальных отделов, характерных только для него. Даже у нашего утилизировавшего интердикцию предкового вида этих отделов мозга не было. Их же появление у неоантропа поначалу совсем не способствовало его адаптации и даже наоборот – ставила под сомнение саму возможность его существования. Значит, морфологические особенности мозга неоантропа были выгодны не ему самому, а кому-то другому. Так мы подошли к вопросу об особенностях дивергенции палеоантропов и неоантропов, который будет рассмотрен ниже, здесь же отметим, что именно за «большелобостью» кроются физиологические причины склонности человечества к неврозам.
У животных в природных условиях невроз – явление практически не наблюдаемое, и это понятно: невроз – черная метка для животного, в естественной среде животное-невротик обречено. Поэтому обычно, когда ведут речь о неврозах у животных, по умолчанию подразумевают экспериментальные неврозы, искусственно достигаемые в лабораторных условиях: создается ситуация, при которой в центральной нервной системе животного сталкиваются два разнонаправленных рефлекса, – ее называют «трудным состоянием» нервной системы, – и, если такому «трудному состоянию» удается придать инертность, то возникает невроз.
Что касается отряда приматов, то эксперименты показали чрезвычайную устойчивость к неврозам даже низших обезьян140140
Каминский С.Д. Динамические нарушения деятельности коры головного мозга. – М.: Изд-во АМН СССР, 1948. С. 135.
[Закрыть]. Это не значит, что неврозы у них невозможны: столкновение таких жизненно важных рефлексов, как, например, пищевой и оборонительный, ограничение двигательной активности, нарушение биоритмов (например, естественного светоритма смены дня и ночи) или иерархических отношений в стаде, а также некоторые другие факторы способны вызывать у приматов сильнейший невроз, нередко связанный с вегетативными нарушениями и приводящий к гибели животного141141
Хананашвили М.М. Экспериментальная патология высшей нервной деятельности. – М.: «Медицина», 1978. С. 43-50, 66–72.
[Закрыть]. Но в большинстве случаев, способных вызывать невроз у других животных, центральная нервная система приматов легко выходит из «трудного состояния» – не в одну, так в другую сторону: т. е., если оказывается невозможна реализация адекватного ситуации рефлекса, то обезьяна поведет себя неадекватно, но не «зависнет», не утратит своей обычной активности. Как же тогда получилось, что человеку невроз, наоборот, свойствен?
Дело в том, что высокая нейродинамическая лабильность приматов была изначально сопряжена с высокой подражательной способностью142142
Является ли эта связь относительно случайной или же она является следствием развития обоих явлений из общего корня, мы пока еще не знаем.
[Закрыть], отмечаемой у них подавляющим большинством отечественных и зарубежных исследователей. Причем эта способность у них эволюционировала:
«Если мы рассмотрим подражательность в рамках одного отряда – приматов, то увидим исключительное явление: огромный эволюционный подъем интенсивности этого явления, в том числе резко восходящую кривую от низших обезьян – к высшим, от высших – к ребенку человека, к автоматической подражательности у человека в патологии»143143
Поршнев Б.Ф. О начале человеческой истории (проблемы палеопсихологии). С. 215.
[Закрыть].
С одной стороны, высокая лабильность и, как следствие, устойчивость к неврозам приматов могли благоприятствовать самой возможности такого развития имитативности, но с другой – между ними с самого начала было заложено противоречие. Невроз – черная метка для животного, но даже при высокой степени имитативности, свойственной виду, стать черной меткой для всей популяции он неспособен: в каждом организме невроз формируется индивидуально. Имитатогенность – свойство рефлекса, и если рефлекс у животного заторможен, то он, само собой, не спровоцирует имитацию. Так же как и имитировать сигнализируемые другими животными рефлексы невротик оказывается не в состоянии. Такое животное естественным образом попадает в своей группе в изоляцию. Одним словом, сам по себе невроз неимитатогенен. Но, напротив, имитатогенен – и даже слишком имитатогенен – неадекватный рефлекс, при помощи которого приматы избегают невроза! Получается, что, попав под действие невроза, животное ставит под удар себя как особь, но сохраняет от опасности популяцию; уходя же от невроза через неадекватный рефлекс, оно спасает себя, но из-за высокой имитатогенности неадекватного рефлекса подвергает опасности популяцию. Несложно представить, какими фатальными последствиями чревата ситуация его массовой имитации. Таким образом, спасающая приматов от неврозов высокая лабильность нервной системы и способствовавшая их эволюции высокая имитативность вместе таят угрозу создания фатальных для популяции ситуаций.
У обезьян развитию данной угрозы противостоит жесткая иерархия в стаде, которая, во-первых, сужает для отдельной особи круг имитатогенных источников, во-вторых, вносит в него упорядоченность, при этом наиболее лабильным молодым особям обеспечивается место в самом низу иерархической пирамиды. Но, как уже было отмечено, имитативность в отряде приматов интенсифицировалась по мере роста и ветвления его эволюционного древа, и в определенный момент жесткой иерархии стало недостаточно для предотвращения опасности высоковероятной спонтанной интердикции. И вот, у наиболее близких к людям антропоидов – шимпанзе мы видим уникальную для животного мира форму стадности. Речь идет о так называемых тасующихся группах, впервые описанных в конце 1960‐х годов британской исследовательницей Джейн Гудолл144144
См., напр.: Lawick-Goodall J. van. My Friends the Wild Chimpanzees. Washington, 1967; Idem. The Behaviour of Free-Living Chimpanzees on the Gombe Streem Reserve // Animal Behaviour Monographs. London, vol. 1 (3), 1969; Гудолл Дж. Шимпанзе в природе: поведение. – М., 1992.
[Закрыть]. Своеобразие этой формы заключается в том, что значительную часть года шимпанзе кочуют небольшими группами по 3–6 особей, собираясь вместе по 25 и более особей в местах изобилия пищи, чтобы потом снова разойтись мелкими группами – уже другими по составу. При том что вообще исследования Гудолл имели и продолжают иметь большую популярность, Поршнев был едва ли не единственным в научном мире, кто высоко оценил проигнорированное большинством ученых открытие тасующихся групп:
Поскольку имитативность в эволюции отряда приматов продолжала нарастать и дальше, нет сомнений, что троглодитиды сохранили за собой эту форму стадности. По крайней мере, она хорошо согласуется с выводом «о крайней подвижности и изменчивости размеров первых социальных группировок»146146
Толстов С.П. Проблемы дородового общества // Советская этнография. – М., 1931, №3–4. С. 83.
[Закрыть], сделанном на основе археологических находок нижнего и среднего палеолита. Не менее хорошо она объясняет одну из уникальных особенностей Homo sapiens – избыточный поисково-половой инстинкт, который достался нам в наследство от палеоантропа и в условиях высокой дисперсности вида соответствовал норме. Из-за быстроты дивергенции естественный отбор не успел его уничтожить, и теперь нам его необходимо вытеснять и сублимировать в каждой индивидуальной психике147147
Поршнев Б.Ф. Принципы социально-этнической психологии (Доклад на VII Всемирном конгрессе антропологических и этнографических наук. Москва, август 1964 г.). – М., 1964; Он же. Возможна ли сейчас научная революция в приматологии? // Вопросы философии. – М., 1966, № 3; Он же. Социальная психология и история. 2-е изд., доп. и испр. – М.: «Наука», 1979.
[Закрыть]. Наконец, Поршнев замечает по поводу тасующихся групп, что «только такое представление, и, вероятно, никакое другое, способно дать реальное биологическое обоснование гипотезы о праисторическом “промискуитете”»148148
Поршнев Б.Ф. О начале человеческой истории (проблемы палеопсихологии). С. 237.
[Закрыть]. Сегодня мы можем добавить, что нечто напоминающее тасующиеся группы наблюдается у хадза – одного из самых архаичных по своей социальной организации народов.
Но даже уникальная форма стадности не спасала троглодитид от некоторых странностей поведения. Прежде всего, мы говорим о чрезмерном, не согласующимся с реальными потребностями, производстве так называемых каменных «орудий труда». Палеолитические стоянки зачастую буквально усеяны стереотипической продукцией каменной индустрии разной степени готовности, подавляющая часть которой никогда не использовалась. Но если каменные отщепы и ядра хотя бы частично находили себе применение, то существуют такие памятники палеолита, сама возможность утилитарного использования которых сомнительна. К ним отнесятся чашевидные углубления в скальной поверхности, обнаруженные в 1992 году в пещере Аудиториум в Центральной Индии австралийским исследователем Робертом Беднариком, датируемые финальной фазой нижнего палеолита149149
Bednarik G.R. Ancient images, ancient thought: archaeology of ideology // The Palaeolithic Art of Asia. Proceedings of the 23rd Annual Chacmool Conference. Calgary: Univercity of Calgary, 1992, pp. 383–390; Он же. Art Origines // Anthropos, 1994, N89, pp. 168–180; Он же. The Pleistocene Art of Asia // Journal of World Prehistory, 1994, N8(4), pp. 351–375.
[Закрыть]. Еще не менее 500 таких углублений, тоже датируемых финалом нижнего палеолита, обнаружил в 1996 году в пещере Дараки-Чаттан, в 400 километрах к юго-западу от первой находки, индийский профессор Гирирай Кумар150150
Kumar G. Daraki-Chattan: a Palaeolithic cupule site in India // Rock Art Research, 1996, N 13, pp. 38–46.
[Закрыть]. В 2004 году появились сведения об аналогичных находках в Южной Африке151151
Hoek M. van. New Cupule Site in the Free State, South Africa // Rock Art Research, 2004, N 1, pp. 92–93.
[Закрыть]. Все они хронологически не могли быть созданы Homo sapiens, но подобные им более позднего времени уже были известны ранее, – речь идет о чашевидных углублениях в пещере Ла Ферраси во Франции и на реке Муррей в Австралии, – они были созданы людьми. Исследователь «палеолитического искусства» П. А. Куценков, от которого мы почерпнули эти сведения, на их основании делает вывод, «что между ископаемым неоантропом, палеоантропом и архантропом [так у Куценкова, правильнее – археоантроп – прим. В. Г.] существенной поведенческой разницы не было»152152
Куценков П.А. Эволюционная патопсихология (перелистывая книгу Б.Ф. Поршнева «О начале человеческой истории») // Историческая психология и социология истории. – М., 2008, № 2. С. 192.
[Закрыть]. Мы принимаем этот вывод лишь отчасти.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.