Текст книги "Евреи в блокадном Ленинграде и его пригородах"
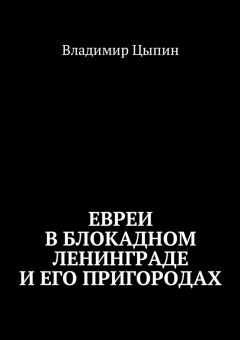
Автор книги: Владимир Цыпин
Жанр: Документальная литература, Публицистика
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 18 (всего у книги 22 страниц)
Заключение
Около миллиона ленинградцев погибло в годы войны. Уже почти не осталось в живых активных участников обороны блокадного Ленинграда, переживших страшные годы лишений, болезней, страха и обид. Доживают свой век дети блокады. Всё меньше остаётся евреев в Санкт-Петербурге. На долю евреев сейчас приходится около 0,8% населения. Даже в 1897 году было больше – 1% (12 тыс.), не говоря уже о довоенном времени, когда их доля равнялась 6,3% (201,5 тыс. из 3191,3 тыс.) всего населения Ленинграда. Материалами, приведёнными в настоящей работе, мне хотелось подчеркнуть ту важную роль, которую сыграли евреи Ленинграда – Санкт-Петербурга в истории города и особенно в тяжёлые годы ленинградской блокады.
Приложение
Воспоминания евреев – блокадников
Прошло уже почти 75 лет со времён ленинградской блокады Существует много воспоминаний евреев, переживших те страшные годы. Наиболее полно они представлены в книге «Чтобы помнили» (Иерусалим, 2002).
Привожу здесь только некоторые из них, те, которые меня особенно тронули. Я, конечно же, читал воспоминания и людей других национальностей, и ещё раз должен подтвердить, что жизнь евреев была так же тяжела, как и жизнь всех блокадников.
Воробьёва Мирьям ИосифовнаДо войны я жила в г. Пушкине, в 6-м военном городке, где находилась наша часть и где я служила с 1939 года военврачом 3-го ранга пехотного полка. Начало Великой Отечественной войны застало меня 22 июня 1941 года в лагерях под Лугой во время воинских учений. Я уже была в должности старшего военврача 24-го мотострелкового полка 24-й танковой дивизии. По боевой тревоге, так и не зайдя домой в Пушкин, мы двинулись через Ленинград на фронт в направлении Выборга. Под Выборгом наша часть не была в бою. В начале июля мы были срочно переброшены обратно на юг, на Лужский рубеж, где активно наступали немцы. Мы вступили в бой и держали оборону Луги до конца, пока не получили приказ отступать. В полку я была единственной женщиной, поэтому я сама возила раненых в медсанбат (обычно это должен был делать военфельдшер или санинструктор). Там было много женщин, которые ко мне очень хорошо относились, старались организовать мне «баню» и угощали чем-нибудь из домашних посылок. Однажды, после долгого перерыва (шли непрерывные бои), я всё же «вырвалась» и привезла раненых в медсанбат. Каково было мое удивление, когда, увидев меня, женщины вдруг заплакали, а мужчины подходили и радостно протягивали мне руки. Оказывается, для них я «воскресла». Незадолго до моего появления было сообщение о моей гибели на некой высоте, где меня видели убитой, и они уже успели меня оплакать. Я осталась жива, но как раз в эти самые дни в одном из боев под Волосово, совсем недалеко от нас, погиб мой муж.
Мы попали в окружение. Было предписано закопать наше имущество в землю и отходить к Ленинграду. Отступали с боями. Несли очень большие потери. Погиб наш командир полка майор Трайденков и начальник штаба капитан Зуев. Вначале нам пытались помочь: наши самолеты сбрасывали нам бумажные мешки с сухарями, но к нам они так и не попали – они падали на немецкую территорию.
Из окружения мы выходили тяжело и продолжали терять очень многих. Шли ночью, по лесным тропам, цепочкой. Шоссейную дорогу, занятую немцами, надо было пересечь до рассвета. Оказывать медицинскую помощь солдатам и офицерам приходилось на ходу, нужно было все время нести носилки с ранеными.
Мой помощник, санинструктор, был вскоре убит, вместо него остались две недавно присланные молоденькие девушки, которые еле двигались, ослабев от голода и бессонницы. Реку Оредеж надо было перейти вброд. Мои девушки жались ко мне, они не умели плавать. Как раз в это время к берегу на лошади подъехал офицер из соседней части, который знал меня. Я попросила его помочь, но вместо помощи он, выругавшись, резко повернулся, обдал нас с ног до головы брызгами и был таков! Подобного «мужского» поведения на войне я больше не встречала. Мы шли по болотам и питались одной только клюквой. От нашего полка в живых почти никого не осталось, и мы, немногие, примкнули к какой-то части, выходящей из окружения. Наконец поняли, что добрались до Пушкина, что мы почти дома, но радость была преждевременной – нас встретили артиллерийским огнем: Пушкин уже был занят немцами. Пришлось поспешно отступать. Узнали, что Ленинград – во вражеской блокаде и никакие поезда давно не ходят. После многих дней скитаний, измученная, в прожженной шинели, я, наконец, вместе с другими бойцами вышла к железнодорожной ветке близко от города, где случайно оказался поезд, который довез нас до города.
На Московском вокзале было много военных. Выйдя на площадь, я увидела улыбающихся девушек, и это потрясло меня: неужели то, что я вижу – реальность, и правда, что я жива?! Был конец сентября, меня уже действительно считали погибшей: об этом успел доложить начальник медсанчасти 24-й дивизии, но узнала об этом я позже. Пешком пришла к своим дальним родственникам на Петроградскую, они, обрадовавшись, что я жива, нашли мне чистое белье и затопили для меня ванну (!), о чем я могла только мечтать. Прошло много времени, и они начали волноваться, – что со мной, почему я так долго не выхожу? А я, прислонившись в тепле к какому-то тюку, мгновенно уснула и не могла проснуться несколько часов. Когда меня все-таки разбудили, я не верила, что вышла из окружения и что все происходящее вокруг – не сон.
На следующее утро на сборном пункте я была направлена во фронтовой эвакопункт №50, а оттуда – в эвакогоспиталь №2011, расположенный на углу Кировского пр. и ул. Скороходова, в знаменитом здании переведенного сюда в середине прошлого века Пушкинского лицея. Таким образом, произошло мое, хоть и символическое, но возвращение домой – в Царское Село. Позже наш госпиталь стал считаться образцовым, и в этом была немалая заслуга тех врачей, которые работали и руководили им. Начальником госпиталя был С. Я. Фрейдлин, главным хирургом – В. Г. Вайнштейн, начальником медслужбы – И. Мильштейн, зам. по хозчасти – Минкин, невропатологом – Л. Голубовский, окулистами – Р. М. Коган-Абезгауз и И. Е. Барбель, гастроэнтерологом – Е. М. Гринкер, стоматологом – М. О. Лапшиц и многие другие. Политруком госпиталя был И. Лейтус, а военкомом – Анисимов.
Во время учебы я мечтала стать окулистом, в полку мне пришлось стать общевойсковым врачом, а здесь, в госпитале, нужны были прежде всего хирурги. Владимир Григорьевич Вайнштейн, выдающийся хирург и замечательный человек, стал для меня, как и для других молодых врачей, прекрасным учителем и настоящим духовным отцом. На всю жизнь я благодарна ему не только за то бесценное в профессии хирурга, чему он научил меня, но и за его удивительную доброту и душевную щедрость.
Я была направлена ординатором в палату, где на моем попечении сразу оказалось 60 раненых! Когда я в первый раз не без волнения вошла к ним, (а это был бывший гимназический конференц-зал), то увидела где-то в дальнем конце огромного, холодного помещения фигурку какой-то старушки. Но под теплым платком и белым халатом, надетым на ватник, оказалась молоденькая медсестра, студентка ЛГУ Соня Лускинд, ставшая моей подругой.
Всю жизнь мне суждено вспоминать первую ампутацию. На операционном столе оказался молодой солдат, почти мальчик. Он спросил меня: «Доктор, а как же я без ноги смогу танцевать?». Я утешала его, как могла, но ответ мог быть только один – протез. С тех пор во мне постоянно поселилось тревожное чувство ответственности за чужую, очень хрупкую молодую жизнь, грубо искалеченную чьей-то злой силой, а также щемящая, мучительная, тщательно скрываемая мною боль от ежедневного переживания чужой трагедии.
В госпиталь часто попадали снаряды и авиабомбы. На время воздушной тревоги раненых быстро спускали в бомбоубежище, тяжелых несли на носилках. Иногда мы сами становились жертвами бомбежек. Были ранены М. О. Лапшиц, жена начальника госпиталя, медсестра А. Канадчикова и многие другие. Самое тяжелое время – зима 1941—1942 гг. Постоянный голод, холод, отсутствие света, тепла, воды и электричества делали нашу и без того нелегкую жизнь и работу крайне тяжелой. Воду носили из замерзшей Невы, оперировали при коптилках, есть было практически нечего. Но мы старались бороться с отчаянием, не теряли энтузиазма и присутствия духа, и даже проводили научные конференции. В журнале «Вопросы военно-полевой хирургии» №9 за 1943 год была и моя публикация. Главной наградой нам было выздоровление тяжелораненых.
Помню концерт 9 августа 1942 года в Большом зале Филармонии с премьерой 7-й симфонии Шостаковича, на котором мне посчастливилось побывать. К гнетущим и страшным воспоминаниям относилась работа в помощь горздраву по выявлению живых и мертвых в городских квартирах Петроградского района. Непросто описать все это… иногда трудно было отличить живого человека от мертвого, мужчину от женщины. Для многих путь из дома мог быть уже только последним и вел, как правило, на Пискаревку.
…И наконец-то столь долгожданная Победа! Но немалым, в том числе и для меня, оказался счет нашим потерям. Погиб мой муж, Иосиф Богомольный (1915—1941) и его друзья, студенты Академии художеств, ополченцы Эммануил Лян, Семен Кемельсфельд, Леонид Аксельрод, Яков Шохор и многие другие. В бою под Невской Дубровкой погиб мой родственник Семен Кизельштейн, а в блокаду, под бомбами – мои тетя и дядя, Ревекка и Зиновий Долинские. После окончания войны наш госпиталь еще некоторое время работал, но когда выписался последний раненый, госпиталь опять превратился в один из самых знаменитых лицеев России.
Каминский Фридрих. «Наш город стал городом мертвецов»Войной оборванное детство,
как плод, засохший на корню.
Голод всё усиливался, а тут началась зима, ударили небывалые холода. Хлебную норму по карточкам все больше урезали, пока она не достигла 125 грамм на человека. Хлеб был очень тяжелый, липкий, черный – наверное, в ржаную муку добавляли глину, опилки и еще что-то. Поэтому суточная норма хлеба представляла кусочек со спичечный коробок. Но открылся путь, который назвали «Дорогой Жизни», – по замерзшему Ладожскому озеру, и, кроме хлеба, можно было получить по другим продовольственным карточкам еще кое-какие продукты в мизерном количестве: сахарный песок, крупу и т. п. Но даже то, что было положено получать по карточкам, не было гарантировано. Надо было простаивать в очередях всю долгую, длинную, ужасно холодную ночь, чтобы успеть попасть в ту часть очереди, которой хватит хлеба по карточкам. Карточки выдавались каждую декаду, и все покупатели были прикреплены к своим магазинам. Если не хватало хлеба в своей булочной (наша булочная была на Садовой улице), то в этот день остаешься без хлеба – нигде его не получишь. Наша мама надевала на себя все, что могла, и стояла по ночам в очереди за хлебом. Иногда ей на смену на короткое время приходил Леня.
Прекратилась подача воды, не работало паровое отопление, нечем было топить, не стало электричества. Дома опустели. Все было страшно и невыносимо: голод, холод, отсутствие воды, темнота, бомбежки, обстрелы, пожары, безнадежность. Главное – тупое, непреодолимое желание есть. Ни о чем другом невозможно было думать – только о еде. Мама прятала наши порции хлеба от нас, чтобы мы сразу не съели. Каждую порцию полагалось разрезать на несколько частей, чтобы съедать ее постепенно. Вот попробуйте разрезать спичечный коробок хотя бы на шесть частей, чтобы каждый кусочек съедать часа через два. Труднее всего было удержаться мне – я любил поесть, поэтому мне становилось все хуже и хуже.
У младшего брата Фимы потребность в еде была гораздо меньшая. Но в отличие от всех нас он утолял свой голод тем, что ел горстями поваренную соль, которой оказалось сравнительно много, так как нечего было солить. После войны у него обнаружили очень редкую и тяжелую болезнь кишечника. Зато он не ел лепешек из сухой горчицы, которые мы пекли на «буржуйке» – самодельной чугунной печурке. Сухую горчицу, которую сначала свободно продавали в магазинах, а затем по карточкам в счет крупы, что уже исчезла, нужно было отмачивать в воде несколько суток. Но мы так долго ждать не могли; оставляли ее в воде только на одну ночь, а на следующий день пекли из этой горчицы лепешки, накладывая их прямо на печурку. Горечь от горчицы мы не чувствовали или не обращали на это внимания. Редким лакомством были студень из столярного клея и вареные кожаные ремни. Ремни нужно было мелко нарезать и долго варить в кипятке. Роскошной пищей была дуранда – жмых на корм скоту. Дуранда была даже не из подсолнечных семян, а из каких-то других, гораздо более горьких. Дуранду очень редко удавалось купить на черном рынке.
За водой надо было ходить с большим ведром, привязанным к детским саночкам, сравнительно далеко – на реку Фонтанку (более близкий к нам канал Грибоедова в эту суровую зиму промерз до дна). Доставкой воды занималась наша мама с Леней. Особенно трудно было тащить при помощи веревки ведро с водой из проруби, пробитой в толстом льду. Вода в ведре сильно расплескивалась, в лучшем случае ее оставалось не более половины.
И наконец, еще один из ужасов блокады – жуткий холод, проблема с топливом: нужно было искать доски, различные куски топлива, искать, во что бы то ни стало. Иначе не выдержать холода, а также ни воды не вскипятить, ни сварить хоть что-нибудь. Мы в своей квартире сожгли всё, что можно было заложить в «буржуйку». Поэтому у нас с Леней каждый день начинался и заканчивался поисками топлива, несмотря на то, что наши ноги распухли от цинги, и ходить было чрезвычайно трудно.
…Наш город стал городом мертвецов. В центре Ленинграда многие дома были разрушены мощными бомбами, как бы разрезаны сверху донизу… В нашем доме осталось очень мало жильцов. Многие уехали, многие погибли от голода, холода, обстрелов, некоторые тихо умирали в своих квартирах.
27 января 1942 года, очень ранним утром, когда мороз достигал почти 40 градусов, мы (дети с бабушкой) проснулись от какого-то дикого ужаса. Было тихо, а в окнах – светло как днем, хотя циферблат показывал всего четыре часа утра. Окна были не завешены. Свет с улицы шел какой-то мертвый, зловещий. Наконец послышались шум и крики. Мы подбежали к окнам и поняли, что наш дом горит. Огонь распространялся сверху – горели крыша, чердак и два этажа над нами. Наверное, ослабевшие дежурные проглядели одну или даже несколько зажигательных бомб. А поскольку людей в доме было очень мало, да и те еле двигались, то пожар нескоро обнаружили и почти не тушили. Вскоре мы почувствовали гарь и дым и наконец, увидели языки пламени, ворвавшиеся в нашу квартиру через лопнувшие оконные стекла.
Мать, как всегда, была в очереди за хлебом. Мы спали в верхней теплой одежде и, не раздумывая, в ужасе бросились бежать к дому в конце нашего переулка, куда несколько дней назад решили перебираться и где уже стояли две узкие железные кровати и «буржуйка». Только прибежав туда, мы сообразили, что наша мама ничего не знает ни о пожаре, ни о нас. Леня отправился искать маму. Но они разминулись – кто-то уже успел подойти к очереди за хлебом и закричать, что дом №12 в переулке горит. Мама кинулась к нашему дому. В квартире ничего не было видно из-за густого дыма, выжигавшего глаза, и морозного тумана. Обезумевшая, она металась в страхе по квартире и не могла нас найти. Наконец появился Леня, и только тогда наша мама стала спасать от огня документы и самые необходимые вещи. Выбегая в сплошном дыму с вещами на полуразрушенную лестницу, мать хваталась руками за железные перила, чтобы не упасть, и пальцы и ладони рук ее примерзали к железу. Поэтому после пожара ее кисти рук и особенно фаланги пальцев напоминали кисти рук скелетов – одни кости без мяса и кожи. Впоследствии руки матери немного зажили, но остались на всю жизнь изуродованными, а пальцы – омертвевшими, нечувствительными ни к холоду, ни к теплу…
В страшную зиму 1941—1942 годов от голода почему-то умирало больше мужчин, чем женщин и детей, но уже весной 42-го стали умирать женщины и дети. Нашей бабушки не стало в середине апреля, когда иждивенцам и детям уже подняли хлебную норму до 250 грамм в день. Она умерла очень тихо, незаметно, и я даже не сразу понял, что она умерла, хотя лежал с ней на одной кровати. После смерти она пролежала рядом со мной еще двое суток, а потом ее опустили на пол рядом с кроватью, и приходилось переступать через нее, чтобы пройти, – комната была очень узкой. Мама зашила бабушку в новую простыню, которою удалось вынести из пожара, и в таком саване бабушка пролежала рядом с кроватью почти две недели (в комнате было чуть выше нуля градусов). Наша мама умоляла похоронить бабушку в гробу, и за похороны была согласна отдать, кроме бабушкиной хлебной карточки на декаду, и свою. Но требовали еще одну – детскую, на что мама никак не могла согласиться.
После того, когда так и не удалось договориться о похоронах бабушки, мама была вынуждена привязать ее тело к детским санкам, отвезти в Юсуповский сад на Садовой улице и положить на гору трупов. Отсюда, так же, как и из других районов города, мертвых блокадников свозили на кладбище у железнодорожной станции Пискаревка (ныне Пискаревское мемориальное кладбище), затем бульдозерами сбрасывали в заранее вырытый ров. И засыпали землей. На Пискаревском кладбище в Санкт-Петербурге нет отдельной могилы нашей бабушки с надписью «Хая-Рахель Айзиковна Лифшиц-Факторович, 1878—1942»…
Наконец стало тепло, солнечно, появилась надежда на спасение. Мы постепенно стали вставать с постели и выходить во двор и на улицу. Во дворе нас радовали редкие зеленые ростки травы, мы ими любовались, потом срывали, ели, приносили домой. Так у нас дома появились охапки сорной горькой травы – лебеды. Иногда удавалось сорвать и принести крапиву – это была большая удача; вымытая крапива лежала на полу. Я снова слег, но сползал с кровати, чтобы оторвать несколько листиков крапивы и съесть. Крапива как будто не жгла ни руки, ни губы, ни рот. Можно было жевать и жевать ее беззубым от цинги ртом. Цинга постепенно отступала, но на смену ей появилась еще более страшная блокадная болезнь – голодный кровавый понос. Этим особенно отличался я. У меня была дистрофия третьей, последней стадии. Мать изо всех сил старалась спасти нас. Она отдала часть моей продовольственной карточки в столовую на Садовой улице и получала каждый день для меня миску какой-то горячей похлебки.
Однажды мама шла по Садовой улице, бережно неся перед собой миску с горячей жидкой соевой кашей. Навстречу приближалась хорошо одетая, довольно крепкая женщина. Поравнявшись с мамой, она неожиданно рукой схватила из миски содержимое и, жадно захлебываясь, стала поедать, заталкивая обеими руками в рот и размазывая по лицу. Миска упала на землю, и остатки каши смешались с землей. Мама опустилась на землю и долго сидела, оглушенная, как от взрыва.
В другой раз мама буквально вернула меня с того света. Придя домой с хлебом, она увидела, что я нахожусь в очень глубоком голодном обмороке. Мамины попытки привести меня в чувство и вернуть к жизни успехом не увенчались. Мама массировала мне грудь, дышала в рот – ничего не помогло. Тогда она стремительно разожгла «буржуйку», вскипятила немного воды, покрошила туда хлеб и эту горячую жижу влила мне в рот. И я очнулся.
С того дня мама начала отчаянно хлопотать, чтобы нас эвакуировали, пока мы еще живы. Приходили медицинские комиссии, но все выносили одно и то же безжалостное решение: эвакуировать только маму с двумя моими братьями, а меня, чудом еще живущего, оставить, передав мои продовольственные карточки дворничихе, чтобы она могла меня похоронить, если я не умру еще до их эвакуации мама хлопотала за всех вместе, и ей удалось, в конце концов, добиться разрешения на эвакуацию всей нашей семьи, включая меня.
Кто-то из врачей посоветовал маме просить направление на Урал, где мед диких пчел и барсучий жир могли спасти нас, особенно меня, если только мы не умрем по дороге туда. И вот в июле 1942 года мы эвакуировались. Мама отдала дворничихе почти половину нашей дневной порции хлеба. Та нашла тачку, на которую положили меня и узелок с вещами, рядом шли мама с младшим братиком на руках, Ольга со своим узелком и Леня. Так мы добрались до Финляндского вокзала. Нас поместили в теплушку поезда, который повез нас к Ладожскому озеру. В теплушке люди умирали, и их выбрасывали на ходу. Меня с моим кровавым поносом несколько раз порывались выбросить из поезда, хотя я еще подавал признаки жизни. Отчаянно, из последних сил мама отбила меня.
На пристани у Ладожского озера нас встретили санитары. Меня на носилках внесли в катер. Я помню, что снаружи почти никого не было, только красноармейцы при зенитных пулеметах. Всех эвакуируемых поместили во внутреннее помещение. У пристани, кроме нашего, было еще такое же судно, которое отправили раньше нас. Как потом оказалось, в пути до другого берега Ладоги (до «Большой земли») первое судно было потоплено немецкими самолетами, а нам повезло – мы доплыли. На «Большой земле» было много еды. Всем давали, например, по большой миске какой-то каши со слоем жидкого масла. Эвакуированные блокадники сплошь и рядом жадно поглощали ее и вскоре умирали. Наша мама зорко следила за нами. Она безжалостно выливала жир вместе с частью каши, несмотря на наше сопротивление, и разрешала есть только небольшую часть порции. То же мама делала и со своей едой….
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































