Текст книги "Александр Островский"
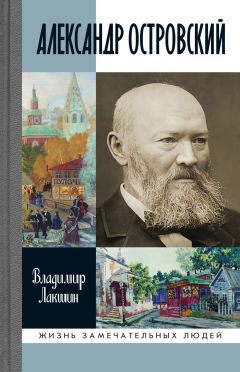
Автор книги: Владимир Лакшин
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 10 (всего у книги 45 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
Естественно, что Погодина, издателя изрядно увядшего к этой поре журнала «Москвитянин», не мог оставить равнодушным восторженный отзыв о комедии неизвестного ему доселе автора. Узнав о «Банкроте» со слов Ростопчиной, сметливый и деловой Погодин живо сообразил, что не лишнее было бы раздобыть сочинение этого новичка. Не мешкая, он написал 24 ноября 1849 года такую записку своему другу и коллеге Шевыреву: «Есть какой-то г. Островский, который хорошо пишет в легком роде, как я слышал. Спроси г. Попова. И не может ли он спросить у него его трудов. Я посмотрел бы их и потом объявил бы свои условия».
Матвей Григорьевич Попов, товарищ Островского по гимназии, учил детей у Шевырева, так что адресоваться к нему было вполне резонным. Получив записку Погодина, Шевырев, надо полагать, тут же припомнил о чтении в его доме в 1847 году совсем молодым автором, которому он предсказал тогда большое будущее, «Картины семейного счастья». Он переговорил с Поповым и отвечал Погодину: «С Островским я знаком. Он бывал у меня. Это друг Попова. Я надеюсь от него [получить] “Банкрота”»[114]114
Барсуков Н. П. Жизнь и труды М. П. Погодина. Т. 11. С. 67.
[Закрыть].
Имея в виду заранее обласкать начинающего автора, чтобы тем вернее привязать его к своей журнальной колеснице, Погодин немедленно набросал заметку о его комедии для очередной книжки «Москвитянина». В номере 23 журнала, подписанном цензурой 30 ноября 1849 года, появилось следующее сообщение: «Н. Н. Островский, молодой писатель, известный московской публике некоторыми живыми очерками, написал комедию в пяти действиях в прозе: “Банкрот” – превосходное произведение, которое, читаемое известным артистом нашим П. М. Садовским, производит общий восторг».
Погодинский «Москвитянин» всегда отличался обилием типографских опечаток, ошибок и иных оплошностей и велся как-то слишком по-домашнему, спустя рукава. Вот и на этот раз к короткому сообщению пришлось дать сразу несколько поправок. В 24-й книжке «Москвитянина» можно было прочесть: «В известии о комедии А. Н. Островского “Москвитянин” сделал в последнем нумере несколько ошибок. Во-первых, комедия называется: “Свои люди – сочтемся”, а не “Банкрот”, во-вторых, комедия не в пяти действиях, а в четырех; в-третьих – принадлежит А. Н. Островскому, а не Н. Н. В том только не ошибся “Москвитянин”, что комедия производит общий восторг: г. Садовский не начитается ею, а слушатели не наслушаются».
Надо признать: Погодин вышел из щекотливого положения с известным изяществом. И у него было тем больше оснований сделать эту поправку, что за две недели, прошедшие между выходом в свет 23-й и 24-й книжек «Москвитянина», он успел лично познакомиться с автором «Банкрота» и услышать его комедию, на которую имел как издатель вполне определенные виды.
Гоголь слушает «Банкрота»
Старый дом на Девичьем поле с садом и прудом, принадлежавший некогда князю Щербатову, был известен всей Москве как место встреч литераторов, артистов, ученых. Его новый хозяин, Михаил Петрович Погодин, родился крепостным графа Ростопчина. Талантливый самородок, он с большим трудом выбился в люди, стал профессором университета и, будто мстя за свое плебейское происхождение, поспешил купить просторный, хотя ветхий барский дом на окраине Москвы.
В доме Дмитрия Михайловича Щербатова прошли молодые годы Чаадаева.
В этот же дом приведут Пьера Безухова на допрос к маршалу Даву в сожженной Москве 1812 года. «Пьера с другими преступниками привели на правую сторону Девичьего поля, недалеко от монастыря, к большому белому дому с огромным садом. Это был дом князя Щербатова, в котором Пьер часто прежде бывал у хозяина.<…> Их подвели к крыльцу и по одному стали вводить в дом. Пьера ввели шестым. Через стеклянную галерею, сени, переднюю, знакомые Пьеру, его ввели в длинный низкий кабинет, у дверей которого стоял адъютант» («Война и мир». Т. IV. Ч. I. Гл. X). Толстой мог так точно описать все это, потому что сам бывал в погодинском кабинете. Да кого, кого только не видели эти стены!
О Погодине шла по городу слава, что он расчетлив, скуповат. Поговаривали и о том, что дом свой он купил подозрительно дешево, надув при покупке прежнего владельца. Злые языки утверждали, что сама фамилия Погодина происходит от слова «погадить», и называли его Погадин. Герцен смеялся над ним в своих фельетонах, где вывел почтенного историка под именем Вёдрина (вёдро – теплая погода). Сомнительная репутация Погодина в глазах людей либерально настроенных усугублялась тем, что журнал «Москвитянин» Михаил Петрович старался вести в консервативно-благонамеренном духе, а в своих статьях любил «угадывать образ мыслей правительства» и не пропускал случая выступить в печати по поводу прибытия в Первопрестольную государя или тезоименитства коронованных особ.
А вместе с тем это был человек весьма обширных познаний и самобытного, нешаблонного ума – в тех случаях, когда он позволял себе думать. Недаром его ценил Пушкин. Долгие годы водил с ним дружбу и даже жил одно время в его доме вернувшийся из Италии Гоголь. Несмотря на сухость и скупость, на плебейскую привычку гнуть спину перед власть имущими, было в Погодине что-то, что заставляло тянуться к нему людей литературы. Это был настоящий собиратель культурных сил. Литераторов он любил по-своему искренне. И с той же энергией и неразборчивостью, с какой подгребал к себе все, что относилось к русской старине, – манускрипты, монеты, иконы, печати, лубочные картины, составившие пятьдесят шкафов его знаменитого Древлехранилища, он собирал в своем доме все мало-мальски заметное и обещающее в московской ученой и литературной среде.
Немудрено, что толки о молодом судейском чиновнике, написавшем какую-то чудесную комедию, задели в нем чувствительную жилку.
Мысль устроить в ближайшую субботу, 3 декабря 1849 года, на Девичьем поле литературный вечер, скорее всего, подала Погодину графиня Ростопчина. Для этого у нее был свой повод. Ей не терпелось прочесть в избранном литературном и ученом кругу новую драму в стихах – «Нелюдимка».
(Когда-то юный Погодин давал уроки латыни маленькому сыну своего барина – Андрею Федоровичу Ростопчину. Теперь жена его, графиня Ростопчина, дорожила приятельскими отношениями с московским профессором.)
Имя Ростопчиной и само имело в ту пору для слушателей немало «электричества», как выразился бы Гоголь. Над нею был ореол знакомства и дружеской близости с Пушкиным и Лермонтовым, которого она по-домашнему называла «милый Лермонщик». Притягивал к ней многих и некий блеск опальности: она вынуждена была оставить Петербург и переехать в Москву вследствие скандала вокруг ее баллады «Насильный брак». Баллада внятно повествовала о знатном бароне, превратившем свою жену в рабыню и узницу, в чем читался намек на отношения России к подневольной Польше. В 1845 году Фаддей Булгарин, не разобравшись во втором, тайном смысле баллады и загипнотизированный аристократическим именем Ростопчиной, напечатал ее в «Северной пчеле». Булгарин, разумеется, тут же покаялся в невольном прегрешении, и его простили. Ростопчиной же дело не сошло с рук.
С тех пор графиня жила в Москве в постоянном подозрении властей. Ее перу Закревский приписывал обращенные к нему язвительные стихи П. Ф. Павлова «Ты не молод, не глуп…», ходившие в рукописных копиях. А московский обер-полицмейстер Лужин вывел однажды Ростопчину с дворцового бала, куда она явилась, решив, что «все забыто».
Естественно, новая драма Ростопчиной, а еще более сама ее личность могли возбудить любопытство гостей Погодина. А заодно издатель «Москвитянина» имел на уме заманить на этот вечер и Островского с его «Банкротом».
В последних числах ноября 1849 года Погодин пишет письмо молодому поэту и переводчику, сотрудничавшему в его журнале, Николаю Васильевичу Бергу, о котором разузнает где-то, что он, подобно Попову, учился в одной с Островским гимназии. Погодин просит Берга привести к нему в субботу автора «Банкрота», упомянув, между прочим, что его очень желала бы видеть графиня Ростопчина. Ростопчину же извещает, что непременно хочет познакомить ее на своем субботнем вечере с Островским и Меем.
Ответная голубенькая надушенная записка Ростопчиной полетела к Погодину немедленно: «Чужие мысли угадывать Вы стали на лету? – писала всегда несколько экзальтированная графиня. – Давно хотелось мне дружески и братски пожать руку Мею, а теперь горю желанием низко, низко поклониться Островскому. Спасибо Вам, что Вы доставите мне это высокое удовольствие!»[115]115
ГБЛ. Ф. 232. Разд. II. П. 28. Ед. хр. 41.
[Закрыть]
Берг отвечал менее определенно: он сообщал Погодину, что Островского почти невозможно застать дома. Странная отговорка. В своих позднейших воспоминаниях Берг обронил, впрочем, признание, что Островский «с трудом согласился» читать пьесу у Погодина. Автора «Банкрота» пришлось уговаривать: его, наверное, смущала нелестная репутация Погодина, сухаря и скупца, да и собственные студенческие воспоминания были не в его пользу.
Наверное, Островский иначе отнесся бы к этому предложению, если бы знал, что на вечере у Погодина его ждет встреча не только с Ростопчиной, но и с самим Гоголем. С ним Погодин тоже сговаривался заранее; он даже дал Гоголю по старой дружбе одно деликатное поручение: пригласить на вечер старика Щепкина.
В ту пору Гоголь жил очень замкнуто и уединенно, на него, как он признавался, напало какое-то «оцепенение сил», и лишь иногда москвичи могли наблюдать, как он, выйдя из дома Талызиной, прогуливался под молодыми липками Тверского бульвара. Из дому он выезжал редко – лишь в церковь да к ближайшим друзьям, панически боялся многолюдства, незнакомых лиц, так что его охотный отклик на приглашение Погодина был не совсем обычным делом.
Привлекло ли его обещание драмы в стихах «Нелюдимка»? Вряд ли. Ростопчину и ее стихотворство, пересыпанное галлицизмами и милыми неправильностями языка, Гоголь знал предостаточно и не мог не чувствовать в ее сочинениях того, что Белинский окрестил «служением богу салонов». Мы не слишком погрешим против истины, если предположим, что его скорее привлекла возможность поглядеть на молодого автора комедии «Банкрот», о котором уже поговаривали как о его, Гоголя, наследнике и сопернике.
Под вечер 3 декабря (воспоминания Н. В. Берга, Д. М. Погодина и других дают возможность живо вообразить эту картину) к освещенному подъезду дома Погодина на Девичке подкатывали сани[116]116
См.: Берг И. В. Воспоминания о Н. В. Гоголе // Русская старина. 1872. № 1. С. 121, 122; Погодин Д. Из воспоминаний (Графиня Е. П. Ростопчина и ее вечера) // Исторический вестник. 1892. № 4. С. 52; Берг Н. Графиня Ростопчина в Москве // Исторический вестник. 1893. № 3. С. 707, 708; Запись М. И. Семевского 19 ноября 1855 года (А. Н. Островский в воспоминаниях современников. С. 134–137).
[Закрыть]. Приехали сотрудники «Москвитянина» – беллетрист Вельтман и поэт Мей, только что заслуживший известность своей драмой в стихах «Царская невеста». Прибыл артист Щепкин и ректор Московского университета астроном Д. М. Перевощиков. На тройке собственных гнедых коней, пригнанных с родового Михайлова хутора, подкатил гостивший в Москве приятель Гоголя, киевский профессор, ботаник и филолог М. А. Максимович.
Островский в сопровождении Садовского и с толстой тетрадью «Банкрота» в руках появился одним из первых. Гостей провожали в верхний кабинет хозяина и рассаживали на невзыскательной погодинской мебели, кушетках и старомодных креслах. Места было немного; молодежь – сын хозяина Дима и менее солидные из гостей – лепилась у подоконников. Все с любопытством оглядывали белокурого, стройного, франтовато одетого молодого человека, устроившегося в левом углу, у окон. На нем был коричневый со светлыми пуговицами фрак и, по тогдашней моде, необыкновенно пестрые брюки. Глядел он застенчиво, но когда ему, в ожидании приезда Ростопчиной, предложили начать читать первому, долго не чинился.
Островский объяснил, что будет читать комедию вместе с Провом Садовским и берет на себя женские роли, а ему отдает мужские. В какой-то момент к ним подсел Михайло Семенович Щепкин и, заглядывая в тетрадь, тоже начал подавать реплики за одного из персонажей… Слушали в полной тишине и внимании, первый ледок настороженности быстро таял, и гости от души смеялись, наслаждаясь текстом «Банкрота». Чтение оборвалось, когда появилась раскрасневшаяся с мороза, необыкновенно стройная для своих тридцати восьми лет, черноглазая, подвижная, оживленная Ростопчина. Приветственные возгласы, взаимные представления – все всклубилось вокруг графини, но вскоре опало, улеглось, и Островский с актерами мог продолжить чтение «на голоса». Вот тут-то и раздался скрип ступеней, шаги по лестнице – и в проеме двери возник бледный с прямым длинным носом профиль. Новый гость не захотел тревожить собравшихся своим появлением. Он оперся о притолоку двери, да так и простоял до конца чтения.
Чтобы у гостей остались силы выслушать «Нелюдимку», Островский читал не всю комедию, а некий сокращенный вариант ее, искусно подобрав сцены. И все равно «Банкрот» произвел на слушателей сильное впечатление. В шуме поздравлений и щедрых похвал Островский не сразу заметил, как перед ним очутился человек, стоявший молча у двери, пока читалась комедия. Толпа гостей расступилась. Это был Гоголь.
Он по себе знал, как неприятно бывает, когда кто-либо вновь пришедший заставляет прервать чтение, да и боялся невзначай оказаться в центре внимания на чужом «бенефисе». Почти все присутствующие были знакомы с Гоголем прежде, привыкли считаться с его странностями, и никто не осмелился бы предложить ему сесть, если он захотел слушать стоя. Вообще его движениями не решались руководить: малейшая неловкость могла заставить его спуститься вниз и уехать не прощаясь. Однако он сам захотел подойти к Островскому. Пров Садовский, уже раньше читавший Гоголю в одном из московских домов, кажется у Шереметевых, пьесу «Банкрот», представил ему молодого автора. Гоголь тепло приветствовал его.
Завязался общий беспорядочный разговор. Кому-то, едва ли не Ростопчиной, пришло в голову подойти к Гоголю и спросить в сторонке с женской непосредственностью его мнение о комедии. «Хорошо, но видна некоторая неопытность в приемах», – отвечал Гоголь и добавил, что первый акт мог быть бы покороче, а третий, предпоследний, – подлиннее.
Автор «Ревизора» любил крутую завязку, и первая сцена Большова с Рисположенским в экспозиции пьесы показалась ему растянутой. Зато в последнем акте, по его мнению, Большов оказывается в «яме» слишком внезапно, без всякого предуведомления зрителей. «Я бы на месте автора, – сказал Гоголь, – предпоследний акт кончил тем, что приходят и берут старика в тюрьму: тогда зритель и читатель были бы приготовлены к сим последним сценам»[117]117
Воспоминания Д. К. Малиновского (по выписке, сделанной М. А. Максимовичем) (ГБЛ. Ф. 231. Разд. 3. П. 8. Ед. хр. 12).
[Закрыть].
После перерыва с чаем и закусками, вынув тетрадь с «Нелюдимкой» из расшитого мешочка, начала читать свою драму в стихах сама Евдокия Петровна. Чтение длилось долго. Ростопчина читала с увлечением, блистая глазами, форсируя эффектные места и мало оглядываясь на реакцию слушателей. В середине ее чтения Гоголь встал со стула, предусмотрительно выбранного им неподалеку от двери, и незаметно вышел. Островский и другие, превозмогая усталость, слушали за полночь стихотворный рассказ в лицах о злоключениях «нелюдимки».
Вставши поутру, Погодин записал своей обычной скорописью в дневнике, фразами «топорной рубки», как метко определил его слог Иван Аксаков:
«Графиня Ростопчина читала свою комедию, и очень желал[а?] ей успеха, и, кажется, успела, по крайней мере четвертое и пятое действие поразили многих… А как сух Гоголь… Комедия “Банкрут” удивительна. Ее прочел Садовский и автор, с ним и познакомился. Были человек 15 и до 3-х часов. Не спал до 5-ти. А наши авторы очень глупы и не умеют обходиться с женщинами»[118]118
Дневник М. П. Погодина (ГБЛ. Ф. 231. Разд. 1. Ед. хр. 34. Л. 55, об.).
[Закрыть].
Хозяин, видно, волновался за успех своего вечера. Ему в особенности хотелось, чтобы Ростопчина с ее «Нелюдимкой» не ударила в грязь лицом. Сам он был в восторге от этой пьесы и печатно заявил, что она «заменит собою все европейские комедии». Как, однако, близоруки бывают современники, когда готовая репутация или пустое пристрастие мешают непосредственным внушениям вкуса! «Сухость» Гоголя, ревниво отмеченная Погодиным, раздосадовала хозяина, поскольку была отнесена им к «Нелюдимке». Видно, Погодину показалось, что вообще Ростопчиной не было уделено достаточно внимания, и оттого он укорил «наших авторов» (Мея? Островского?) в том, что они «не умеют обходиться с женщинами».
Сама же графиня, к счастью, осталась довольна вечером и в благодарственном письме Погодину писала, что была тронута, когда во время своего чтения «увидела слезы в глазах доброго Щепкина и признаки чувства на благородном, великодушном лице Вельтмана. Я им очарована; тоже меня поразила умнейшая физиономия Максимовича»[119]119
Барсуков Н. П. Жизнь и труды М. П. Погодина. СПб., 1896. Т. 10. С. 338.
[Закрыть].
Экзальтацию Ростопчиной, упоенной своим успехом, заметно корректирует написанное со свежа на другой день письмо А. Ф. Вельтмана, адресованное его знакомой. «Вчера Погодин звал на чтение гр. Ростопчиной ее драмы “Нелюдимка”, – сообщал «великодушный» Вельтман. – До приезда ее читал Островский свою комедию “Банкрут”, которая очень смешна, но два раза (подряд) мне трудно слушать. Чтение драмы тянулось часа три, в пяти действиях, в белых стихах – утомительно»[120]120
Письмо А. Ф. Вельтмана – Е. И. Крупениковой от 4 декабря 1849 года (ГБЛ. Ф. 46. Разд. II. П. 1. Ед. хр. 12).
[Закрыть].
Напрасно, таким образом, искала Ростопчина «признаки чувства» на благородном лице Вельтмана: подобно Гоголю, он откровенно скучал во вторую половину вечера. Старик же Щепкин, по стариковской слабости, как подтверждают все, встречавшиеся с ним в эти годы, плакал от малейшего волнения[121]121
Сохранился черновик письма Погодина Ростопчиной от 5 декабря 1849 года. В нем, в частности, читаем: «Впечатление до чаю было посредственное… хорошо, да, но… и тому подобное. Третье действие прочли вы хорошо… Четвертое действие прочли как нельзя лучше и покорили собрание: все поворотилось, были слезы… дыхание стало перехватывать у иных, – все взглянули друг на друга: нет… это… не то, что мы думали сначала!.. Но вот окончилось чтение и началось говорение глупостей умными людьми. Сперва я боялся за автора, а теперь мне стало стыдно за слушателей. Я так бы и исщипал всех, говоря по-женски, исцарапал, прибил. Что за вздор понесла литературная братия, начали с доброго Авраамия Палицына, которого бог знает откуда вызнали… Потому я не удержался и сказал вам, что русские авторы были глупее своих сочинений» (ГБЛ. Ф. 231. Разд. 1. П. 46. Ед. хр. 12). «Русские авторы» – несомненно, Островский.
[Закрыть]…
Сам того не желая, Погодин оказал Ростопчиной медвежью услугу: уж слишком невыгоден был контраст самобытного «Банкрота» с тягучей, жеманной «Нелюдимкой». Однако прирожденное доброжелательство в смеси с легкой самоуверенностью позволили графине этого не заметить. Она любила бывать окруженной молодыми людьми, увлекала, щебетала и сама до самозабвения увлекалась новыми талантами. Ростопчина дружески беседовала с неловким, смущающимся автором «Банкрота», через пять минут называла его запросто, по фамилии, что считала особым шиком, и пригласила Островского вместе с неразлучным его спутником Садовским бывать на ее «субботах».
Так закончился этот памятный для драматурга вечер, не только отмеченный знакомством с Гоголем и другими известными литераторами, но и укрепивший, надо полагать, у Погодина желание во что бы то ни стало напечатать «Банкрота» в «Москвитянине». «Нелюдимка» уже должна была набираться для первого номера, и с ней не предвиделось долгих хлопот, зато «Банкрот», как говорило ему редакторское чутье, мог встретить серьезные препятствия на пути в печать.
После вечера у Погодина комедию читали по московским домам с нарастающим успехом всю зиму. Еще не будучи напечатанным, «Банкрот» стал фактом литературной жизни. С комедией знакомились не только со слуха: она стала распространяться и в рукописных копиях. Добровольным переписчиком пьесы стал, между прочим, молодой человек, подрабатывающий репетиторством, Иван Федорович Горбунов, с которым Островский свел знакомство в доме М. Г. Попова. Только в течение двух месяцев – декабря и января – Горбунов переписал пьесу три раза и выучил ее наизусть.
Копии комедии, переписанные Горбуновым, попадают вскоре и в Петербург. Превосходный чтец, граф В. А. Соллогуб читает пьесу Островского в салоне своего тестя М. Ю. Вельегорского. С пьесой знакомятся Григорович, Панаев – после чтения «пять дней разговоров…»[122]122
Лакшин В. Новые материалы об А. Н. Островском. (Из дневника профессора И. А. Шляпкина) // Русская литература. 1960. № 1. С. 153.
[Закрыть]. Некрасов обдумывает, как пригласить молодого автора к сотрудничеству в своем «Современнике».
О Москве же и говорить нечего: она уже считает драматурга своим и не знает, как лучше обласкать его самородный талант. Прославленный москвич – опальный генерал А. П. Ермолов слушает комедию в исполнении Садовского в своем доме на Пречистенке вблизи пожарного депо. Могучий старик в сером нанковом сюртуке с голубым платком на шее, с лицом, напоминавшим льва, встряхнув густой гривой седых волос, сказал о комедии: «Она не написана, она сама родилась»[123]123
А. Н. Островский в воспоминаниях современников. С. 91, 339. В воспоминаниях С. В. Максимова ошибочно указано, что А. П. Ермолов жил в то время на Большой Никитской.
[Закрыть]. И меткое словцо старого генерала пошло ходить из уст в уста.
Профессор Шевырев, пропустивший по болезни вечер у Погодина, тоже не хочет отстать от других и устраивает у себя 24 февраля 1850 года чтение «Банкрота», на которое приглашает широкий круг университетских профессоров, ученых и литераторов-славянофилов. Здесь присутствуют историки Соловьев и Грановский, филолог Буслаев, известные славянофилы Хомяков и Кошелев[124]124
См.: Снегирев И. М. Дневник // Русский архив. 1903. Кн. 2. С. 437.
[Закрыть].
На этом вечере живописец Федотов впервые публично показывал свою картину «Сватовство майора к купеческой дочери». Сам художник приготовил к этой картине объяснение в стихах. Но едва ли не лучшим объяснением ее был начальный монолог Липочки из «Банкрота»: «Уж какое же есть сравнение: военный или штатский?» Слова замоскворецкой жеманницы были как бы воссозданы в движении и красках знаменитой картины.
Два участника вечера у Шевырева – знаменитый западник и известнейший славянофил – отозвались на чтение комедии словами, дышащими живым восхищением. Грановский написал лондонскому эмигранту Герцену и передал с доверенным лицом письмо, в котором говорил о «Банкроте» как о «дьявольской удаче». В комедии он увидел «крик гнева и ненависти против русских нравов»[125]125
Герцен А. И. Собр. соч.: В 30 т. 1961. Т. 23. С. 306.
[Закрыть].
В свою очередь, Хомяков пытался расположить в пользу комедии свою влиятельную корреспондентку, фрейлину двора Антонину Дмитриевну Блудову. «В жизни все дробится на такие мелкие части, – писал он ей, – общество так рассыпается и пустеет, что никакое вдохновение невозможно, кроме комического, а оно дается немногим, и теперь, как видим из “Банкрута”, не иссякает у нас. Грустное явление эта комедия, но оно имеет свою утешительную сторону. Сильная сатира, резкая комедия свидетельствуют еще о внутренней жизни, которая когда-либо еще может устроиться и развиться в формах более изящных и благородных»[126]126
Письмо А. С. Хомякова – А. Д. Блудовой от 2 апреля 1850 года // Русский архив. 1879. № 1. С. 377.
[Закрыть].
Подогреваемый общими восторгами, Погодин не оставлял мысли поместить «Банкрота» в «Москвитянине». Но как трезвый и многоопытный журналист он понимал, что при ужесточившихся цензурных условиях это будет нелегко сделать. Сам Погодин еще недавно потерпел фиаско в цензуре, запретившей его благонамеренную по всем статьям трагедию «Петр I». Как же в таком случае хлопотать о «Банкроте»?
Между тем Погодину приходилось спешить, потому что как раз в этот момент у него появился могущественный конкурент, грозивший перехватить пьесу для своего журнала. В Москве поговаривали, что издатель «Отечественных записок» Краевский специально приехал из Петербурга, посетил автора в его доме у Серебрянических бань, с изумлением убедился, в какой скудости живет молодой драматург, и предлагал ему за «Банкрота» гонорар, который должен был показаться Островскому фантастическим. Молодой автор заколебался. Однако Краевский, наведя справки в столичной цензуре, понял, что у него слишком мало шансов напечатать пьесу, и отступился. Погодин же сумел убедить Островского, что если где-нибудь и удалось бы напечатать его комедию, то лишь в удаленном от Северной столицы, скромном и благонамеренном «Москвитянине».
Найдя, что общественная почва достаточно распахана чтениями комедии и слухом о ней, Погодин начал действовать. Он сумел удачно воспользоваться благосклонным письмом от графа Дмитрия Николаевича Блудова, дочери которого писал о комедии Хомяков. Вероятно, Погодин посылал влиятельному вельможе комедию для ознакомления. Блудов отсоветовал обращаться к столичному цензору, но приватным образом рекомендовал спешно проводить «Банкрота» через местную цензуру.
2 марта 1850 года Погодин сообщал Островскому обнадеживающую весть. «Посылаю вам копию с письма от гр. Блудова, председателя всех комитетов о цензуре, университетов, просвещения, – писал в своем обычном стремительном стиле, который теперь назвали бы «телеграфным», Погодин. – Надо воспользоваться этим расположением и ковать железо, пока горячо. Я пошлю ее циркулярно к своему цензору, потом к Попечителю, и, подсмолив такую механику – не пустить ли тотчас “Банкрута”, если Вы рассудите, в печать. В корректуре легче будет психологически решиться попечителю, который увидит, что дело как будто уже кончено и печатный “Банкрут” не кусается. Цензор отвезет к нему корректуру, я поддам и проч.»[127]127
Неизданные письма к А. Н. Островскому. С. 418.
[Закрыть].
«Подсмолить механику…» – словечко это Погодин почерпнул из словаря крючкотвора и пройдохи Рисположенского, героя той самой пьесы, за какую он хлопотал. Блудову не хотелось брать на себя разрешение комедии, но, вырвав у него полусогласие на публикацию, Погодин мог рассчитывать с помощью ссылок на высокий петербургский авторитет уговорить местную цензуру.
Московская цензура находилась тогда в ведении университета, а цензором назначался обычно один из профессоров. В то время им был профессор по кафедре народного и полицейского права В. Н. Лешков, трудолюбивый, но, по отзывам современников, тупой и бездарный человек. Уговорить Лешкова, с которым он знался по-приятельски и встречался домами, Погодину обычно ничего не стоило. Однако случай с «Банкротом» был неординарный, комедия получила слишком громкую, да еще с оттенком крамольности славу, так что не в праве цензора было подписать ее единолично. «Не быть бы в ответе», – мог по обыкновению усомниться законопослушный Лешков. Подписать комедию в печать он решился бы, лишь заручившись поддержкой своего непосредственного начальства – Владимира Ивановича Назимова.
Это лицо сыграло в судьбе молодого Островского важную роль и заслуживает, чтобы о нем сказали подробнее.
Генерал-адъютант Назимов, незадолго перед тем назначенный попечителем Московского учебного округа, то есть гимназий и университета, являлся по совместительству, как это было тогда принято, главою местного цензурного комитета. Недавний начальник штаба 6-го пехотного корпуса, никогда не имевший ничего общего с просвещением и наукой, Назимов был определен Николаем I в Москву в помощь Закревскому, чтобы навести порядок в университете и избавить город от смутьянов.
Все боялись вмешательства солдафона в дела просвещения, да и сам Назимов был настроен поначалу агрессивно: «подтянул» гимназии, обрывал профессоров по-военному. Однако у генерала-попечителя оказалось достаточно здравомыслия, чтобы понять, что нельзя рассматривать любое ученое собрание как кружок заговорщиков, а в каждой литературной новинке видеть зловредную прокламацию. Верный слуга престола неожиданно проявил себя человеком не пугливым, дорожившим своим достоинством. К тому же он был внушаем и действовал обычно по рекомендации «московских тетушек и дядюшек». Таким благонамеренным людям, как Погодин, он привык доверять. Это и решило судьбу «Банкрота».
На другой же день после получения письма от Блудова Погодин напросился на обед к попечителю. Там, между закуской и десертом, он имел случай напеть ему и о достоинствах «Банкрота», и о необыкновенной благосклонности к нему Блудова…
– Если вы думаете, что его пропустить можно, – сказал благодушно попечитель, – то я полагаюсь совершенно на вас.
И неожиданно прибавил:
– Я и сам так думал[128]128
Там же. С. 419.
[Закрыть].
Назимов лично прочитал тетрадь с комедией и пообещал переслать се цензору с соответствующей рекомендацией.
Впрочем, когда впоследствии по делу о публикации «Банкрота» завязалась между Петербургом и Москвой пренеприятная чиновничья переписка, оказалось, что генерал Назимов был не так уж прост и чуял, где на случай соломки подстелить. «Зная, что сочинение подобного рода требует бдительного и строгого разбора цензуры, – давал Назимов объяснения министру, – я не ограничился тем, что поручил ее рассматривать одному из цензоров, но предварительно сам прочел ее сполна, и притом, желая узнать мнение других, читал графу Арсению Андреевичу Закревскому, которому, как начальнику столицы, должно быть известнее как сословие, представленное в этой комедии, так и впечатление, которое она производила в обществе при чтении ее в рукописи».
Комедия уже набиралась в типографии для мартовской книжки журнала, когда в роскошном доме военного генерал-губернатора на Тверской, известном всем москвичам и поныне[129]129
Дом Моссовета на Советской площади. (Автор неточен: здание Моссовета (с 1993 года резиденция мэра Москвы) расположено на улице Горького (ныне Тверская), 13. Советская (ныне Тверская) площадь находится на другой стороне улицы. – Примеч. ред.)
[Закрыть], происходило чтение «Банкрота».
В апартаменты графа просителям и частным лицам полагалось идти не с парадного крыльца, а со двора, откуда вела на второй этаж узкая длинная лестница. Пройдя обширную переднюю, где бегал казачок со щеткой и блистали в ряд начищенные сапоги со шпорами, Островский вошел в огромную комнату – кабинет Закревского. Здесь стояли два больших письменных стола, и все равно комната выглядела пустой. Посетитель должен был терпеливо ждать, растерянно оглядываясь в бесконечных пространствах сверкающего паркета, пока где-то вдали не отворялись высокие дубовые двери. Решительной военной походкой, чуть наклонив плешивую голову, в кабинет входил градоначальник, с порога обращавшийся на «ты» едва ль не к любому посетителю.
Островский, наверное, изрядно поволновался, читая комедию Закревскому. Полная осанистая фигура графа в мундирном сюртуке, с рукою, упертою в левый бок, его отрывистая речь, напоминавшая военные команды, мало располагали к благодушию. Но яркий талант молодого сочинителя и его скромная, простодушная и открытая манера держаться расположили Закревского к нему. Возможно, ему польстило даже, что чиновник подведомственных ему судебных канцелярий проявил такое редкое дарование. На гладко выбритом, с выпяченной нижней губой лице графа мелькнула необычная для него поощрительная улыбка…
Получив одобрение всесильного хозяина Москвы, Погодин почувствовал себя увереннее со своими «соображениями». Вероятно, он не забывал упомянуть при случае и об одобрении комедии богатым купечеством, ибо готовым возражением против печатания «Банкрота» было: как отнесутся к этому сами купцы, не оскорбятся ли они за сословие?
Чтобы заранее парировать эти упреки, Островский еще прежде озаботился тем, чтобы прочесть пьесу в знакомых ему купеческих домах и навербовать себе там почитателей и сторонников. Пров Садовский, Тертий Филиппов и другие друзья Островского тоже, видно, не дремали и организовали, как могли, благоприятные отзывы видных купцов о пьесе. По воспоминаниям Филиппова, разрешение напечатать «Банкрота» последовало по ходатайству владельца Нарофоминской фабрики Д. П. Скуратова[130]130
См.: Барсуков Н. П. Жизнь и труды М. П. Погодина. Т. 11. С. 77.
[Закрыть]. Быть может, Филиппов и преувеличил значение для судьбы комедии отзыва крупного фабриканта, но и он, вероятно, фигурировал в «соображениях» Погодина, помогших ему убедить начальство дозволить пьесу.
Когда «механика» была уже основательно «подсмолена» и оставалось получить формальную подпись цензора, Погодин пригласил Лешкова в компании нескольких других литераторов к себе на чай. Островский снова – в который уж раз! – читал сцены из комедии к удовольствию слушателей. Лешкову ничего не оставалось, как подписать пьесу в печать. И разве что для сохранения цензорского престижа в фразе Рисположенского: «Нельзя комиссару без штанов, хоть худенькие, да голубенькие…» – зачеркнул слова: «Нельзя комиссару без штанов», а остальное пропустил[131]131
По воспоминаниям И. А. Купчинского (А. Н. Островский в воспоминаниях современников. С. 229).
[Закрыть]. Вероятно, тогда же, по настоянию осторожного Погодина, пьеса утеряла первую часть своего двойного названия: «Банкрот, или…» и стала называться просто: «Свои люди – сочтемся!».









































