Текст книги "Александр Островский"
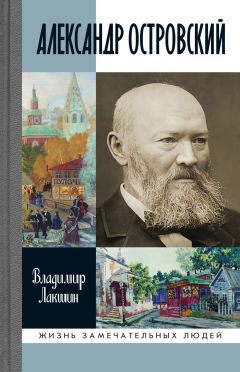
Автор книги: Владимир Лакшин
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 11 (всего у книги 45 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
Под этим именем комедия и начала свой долгий славный путь в литературе и на русской сцене.
Часть вторая
Дорога на сцену
«Напрасно печатано…»
16 марта 1850 года зелененькая книжка журнала «Москвитянин» с комедией «Свои люди – сочтемся!» вышла в свет и разносилась почтарями подписчикам и продавалась в конторе журнала на Тверской, напротив резиденции Закревского. Спустя четыре дня Погодин записал в дневнике: «В городе furor от “Банкрута”»[132]132
Дневник М. П. Погодина. Л. 60.
[Закрыть].
Книжку журнала рвали из рук. С. Максимов вспоминает, как он и его товарищи, студенты университета, бегали из трактира в трактир с одной целью – получить шестой номер «Москвитянина». «Ни протекция половых, Семена и Кузьмы, ни переход в московский Железный трактир, где также выписывались все журналы, не помогли нашей неутолимой жажде. Понапрасну мы съели много пирогов в двадцать пять копеек ассигнациями и выпили несколько пар чаю, пока добились книжки для прочтения второпях, так как настороженные половые стояли, что называется, над душой, ожидая, когда отложена будет книжка в сторону, схватить и унести ее к более почетному и уважаемому посетителю». Даже в самых захудалых уголках Замоскворечья, в трактире Грабостова у Чугунного моста, успех комедии вылился в нечто небывалое: «Ежедневно являлся какой-то досужий доброволец и вслух всем, дьячковским способом прочитывал ее по нескольку раз в день за приличное угощение»[133]133
По воспоминаниям С. В. Максимова (А. Н. Островский в воспоминаниях современников. С. 76.)
[Закрыть].
Если комедия имела такой успех у самого простого, неискушенного читателя, то с каким же восторгом откликнулись на нее литераторы, люди образованного круга! В патриархальной и чуть застойной московской жизни явление нового таланта обретало тона сенсации, граничащей с общественным скандалом. В тот год, когда появилась комедия Островского, в Москве гастролировала знаменитая танцовщица Фанни Эльснер. Ее поклонники, не зная, как лучше выразить свой энтузиазм, выпрягли лошадей из кареты, в которой она возвращалась со спектакля, впряглись в нее сами и так провезли балерину от подъезда театра до гостиницы, причем на козлах вместо кучера сидел редактор «Московских ведомостей» Владимир Хлопов, поплатившийся за эту проделку своей должностью.
Такой же московской сенсацией в короткий срок стал молодой Островский, только он имел для этого несколько больше оснований. Похвалы, поздравления… Все хотят быть ему представленными, наперебой зазывают в гости – было от чего головушке закружиться.
Успех пробившейся наконец в печать комедии поселил в душе Островского надежду на скорое разрешение ее и для театра. Автор «Своих людей» решает ковать железо, пока горячо. Московский генерал-губернатор, по-видимому, благоволит к нему, и драматург подает графу Закревскому прошение о дозволении поставить комедию на театре.
Однако Островский сильно переоценил меру влиятельности графа, а главное, желания помочь ему, если рассчитывал, что Закревский примет такое решение в обход Петербурга. Достаточно того, что он не препятствовал появлению комедии в печати. Дозволение же играть пьесу на императорской сцене считалось делом куда более ответственным, и генерал-губернатор поступил здесь так, как поступил бы на его месте всякий другой чиновник николаевского царствования, то есть немедленно послал запрос выше, чтобы избавить себя от риска ответственности.
«На днях чиновник здешнего коммерческого суда Островский, – писал Закревский министру двора князю П. М. Волконскому, – издал в свет ходившую долго в рукописи оригинальную комедию “Свои люди – сочтемся!”. Так как комедия г. Островского одобрена цензурою, то, препровождая к Вашей светлости печатный экземпляр оной, я имею честь покорнейше просить Вас уведомить меня: может ли эта пьеса быть поставлена на здешнем императорском театре?»[134]134
Цит. по: Ревякин А. И. А. Н. Островский. Жизнь и творчество. С. 304.
[Закрыть]
В канцелярии министра двора еще сочинялся ответ на этот вопрос, когда тучи вокруг комедии стали неожиданно сгущаться. Мы до сих пор не знаем, кто именно подал донос на Островского. Модест Иванович Писарев, известный артист и издатель первого Собрания сочинений драматурга, пишет уклончиво и чуть темновато: «Успех “Своих людей” больно ущипнул не одни только купеческие самолюбия замоскворецких “степенств”; наряду с ними он вызвал и сильное негодование многих больших, влиятельных лиц. В Петербург полетели доносы»[135]135
Писарев М. П. К материалам для биографии А. Н. Островского // Островский А. Н. Полн. собр. соч. СПб.: Просвещение. Т. 10. С. XXVII.
[Закрыть].
Так или иначе, комедия была передана для рассмотрения в «Комитет, Высочайше утвержденный во 2-й день апреля 1848 года». Собравшись 29 марта 1850 года, Комитет под председательством генерал-адъютанта Н. Н. Анненкова и в составе барона М. Корфа и камер-юнкера Ростовского вынес заключение о пьесе «Свои люди – сочтемся!», которое было повергнуто на «высочайшее Государя Императора благоусмотрение».
Обстоятельный отзыв Комитета мало напоминал прежнюю рубку сплеча, какой в свое время отличился цензор Гедеонов: пьеса была напечатана, и приходилось считаться с ее общественно-литературным успехом. Поэтому в отзыве ради пущей объективности отмечались и «хорошая сторона» комедии, и «примечательный талант» драматурга. Вообще бумага была составлена довольно ловко, в согласии с известным принципом, который Щедрин впоследствии определял так: «С одной стороны, нельзя не сознаться, с другой стороны – нельзя не признаться». Елейные отеческие увещевания заблудшего автора с канцелярской плавностью переходили в благонамеренное негодование:
«Ни одного характера, призывающего на себя уважение, ни одной черты или порыва, на которых можно бы было с отрадою остановиться посреди картины этой моральной низости. Изображая нам среднее купечество и клеймя заслуженным образом его странности и пороки, неужели автор не мог найти в среде его и вставить в свою раму, для противоположности, одного из тех почтенных наших купцов, в которых богобоязненность, праводушие и прямота ума составляют типическую и неотъемлемую принадлежность? Неужели также условия эффекта необходимо требовали возвести до такой же противуестественной бесчувственности гнусное неприличие обращения дочери с родителями и нельзя было выставить горькие плоды французского полувоспитания в том же безумном и смешном, но менее преступном виде? Наконец, заключение комедии – торжество черной неблагодарности в двух лицах, дочери и приказчика, – оставляет самое печальное впечатление, и его ощутили не только члены Комитета, но и разные другие лица, читавшие комедию в рукописи, в которой она первоначально явилась в Петербурге. Тогда общее мнение было, что ее не позволят напечатать, хотя, как уже сказано, в ней нет ничего против цензурных правил»[136]136
Там же. С. XXVIII.
[Закрыть].
В отзыве Комитета к пьесе Островского был применен, таким образом, полный набор стандартных обвинений, сложившийся к этому времени в рептильной булгаринской критике и николаевской «нравственной» цензуре. В комедии «Свои люди – сочтемся!» Анненковым и его коллегами были обнаружены три тяжких греха художника-реалиста: слишком мрачное изображение действительности, отсутствие «светлого противупоставления»; рознь поколений, неуважение «детей» к «отцам»; пессимистический конец, искажающий перспективу, внушающий сомнение в попечительной предусмотрительности властей. И все это помимо главного – оскорбления сословной чести купечества!
После всего высказанного выше заключение Комитета о тех практических мерах, какие необходимо принять против сочинителя комедии, выглядело весьма умеренным: раз уж комедия напечатана, следует воздержаться хотя бы от постановки ее на сцене, автору же надлежит сделать устное внушение.
Попечителю Московского учебного округа, то есть тому же Назимову, разрешившему пьесу к печати, поручалось «призвать перед себя г. Островского и, передав ему вышеизложенное, вразумить его, что благородная и полезная цель таланта должна состоять не только в живом изображении смешного и дурного, но и в справедливом его порицании; не только в карикатуре, но и в распространении высшего нравственного чувства: следственно в противупоставлении пороку добродетели, а картине смешного и преступного – таких помыслов и деяний, которые возвышают душу; наконец, в утверждении того, столь важного для жизни общественной и частной верования, что злодеяние находит достойную кару еще и на земле».
Бюрократическая бумага такого рода рождается в добросовестном, но иллюзорном ощущении: послушайся художник этих наставлений, и все станет на свои места – произведение сразу окажется и благонамеренным и художественным. Власть хотела, чтобы художник ее обслуживал и утешал, защищал ее идеи и интересы, оставаясь при этом тем же талантливым мастером. Упускалось из виду одно: талант художника и есть его чутье правды, органическая вражда ко всякому злу и лжи. Представить бы на минуту, что Островский послушался отеческих увещеваний Анненкова и взялся бы за переделку комедии, уважив советы негласного Комитета, ничего бы ровно не осталось от его детища, все разрушилось бы вмиг, поблекло и осыпалось на глазах, опаленное тлетворным духом.
Но бюрократия жила этим духом иллюзий, сам Николай I его поощрял и культивировал, и оттого мнение придворных советчиков, подстраивавшихся под его вкусы, вполне должно было его удовлетворить. «Удостоив прочтения Журнал Комитета», переданный ему без промедления, Николай на другой же день «соизволил положить на оном собственноручную Высочайшую резолюцию: “Совершенно справедливо, напрасно печатано, играть же запретить, во всяком случае уведомя об этом Князя Волконского”»[137]137
ЦГИА. Ф. 1611. Оп. 1. Ед. хр. 96.
[Закрыть].
Царскую надпись, сделанную карандашом, как водится, покрыли лаком для вечного сохранения, переписали в нескольких копиях, по своему усмотрению расставив за царя запятые. Так получилось, что монаршия резолюция могла цитироваться и толковаться розно: «играть же запретить во всяком случае» или «играть же запретить, во всяком случае уведомя об том Князя Волконского».
Естественно, что чиновники, ради страха иудейска, решили толковать резолюцию царя в невыгодную для автора сторону. Надо ли справляться о мнении министра двора, когда есть суждение государя? Оттого читали так: «играть же запретить во всяком случае».
И завертелась карусель. От Анненкова 1 апреля 1850 года пошли бумаги с известием о царской воле к министру двора П. М. Волконскому, начальнику III Отделения графу А. Ф. Орлову и министру народного просвещения князю П. А. Ширинскому-Шихматову. Каждый из них должен был предпринять в связи со случившимся какие-то шаги по своему ведомству.
Князь Волконский, видно, заранее прослышал в коридорах дворца о скандале вокруг пьесы Островского, потому что еще накануне получения официального письма от Анненкова, 31 марта 1850 года, спешил возвратить Закревскому текст пьесы с разъяснением, что она была уже прежде запрещена цензурой III Отделения и что он не видит оснований пересматривать это решение.
Граф Орлов сделал в Москву запрос об Островском по секретной жандармской линии. Это было тем более необходимо, что помимо основной резолюции Николай I написал своим мелким почерком: «Кто Островский, сочинитель пьесы “Свои люди – сочтемся”?» Недовольство литературным сочинением немедленно ставило под подозрение самого писателя и побуждало заинтересоваться его личностью. Генерал-губернатор Москвы, получив депешу об Островском от III Отделения, немедленно запросил о нем обер-полицмейстера Лужина, тот, в свою очередь, секретно отнесся к председателю Коммерческого суда. Человек, под началом которого Островский непосредственно служил, дал о нем вполне благосклонный отзыв («пользовался хорошим мнением начальства, не подавая повода к заключению о каком-либо неблагонамеренном образе мыслей»). На основании этой бумаги полицмейстер Лужин доносил Закревскому об авторе «Своих людей», что «поведения и образа жизни он хорошего, но каких мыслей – положительно заключить невозможно».
Напрасная забота – искать мысли писателя где угодно, только не в его сочинениях! Однако для Закревского и этого неопределенного мнения было достаточно, чтобы не оставить запрос без ответа, и он отправил в Петербург сдержанно-благожелательный отзыв об Островском. По линии III Отделения дело завершилось тем, что 1 июня 1850 года Л. Дубельт представил Николаю I устный доклад о губернском секретаре Островском, и царь распорядился, на всякий случай, установить за ним полицейский «присмотр». Заодно был установлен и секретный жандармский надзор[138]138
См.: Сухонин С. Материалы для биографии Островского. (По неизданным источникам) // Всемирный вестник. 1908. № 5. С. 33–38.
[Закрыть].
О последнем, понятно, Островский не должен был знать. Но решения Бутурлинского комитета имели в виду еще и гласную «воспитательную работу» с ним. Министр народного просвещения Ширинский-Шихматов в письме от 3 апреля 1850 года попечителю Назимову поручал ему пригласить Островского к себе и «вразумить» его во исполнение высочайшей воли.
Надо отдать должное Назимову, он попытался обставить данное ему неприятное поручение как можно деликатнее. По его просьбе Шевырев, как знакомый Островского, просил драматурга в назначенный день и час прийти к Назимову и выслушать от него замечание, полученное из Петербурга. Чтобы не напугать Островского, Шевырев заранее предупреждал его, что Назимов принимает в нем «живое участие».
Драматург побывал у Назимова, выслушал переданное ему внушение и мог убедиться в благожелательном отношении к нему попечителя. 12 апреля Погодин записал в дневнике: «Островский с новостью о назидании, полученном от Министра»[139]139
Дневник М. П. Погодина. Л. 61.
[Закрыть]. Вероятно, тогда же родилась мысль, что Островский сам должен написать объяснение в форме письма Назимову и что лишь тогда Назимов представит свой ответ в Петербург. Попечитель дал понять Островскому, что он будет, насколько это возможно, его поддерживать.
Дело было, разумеется, не в личном благородстве Назимова. Но, разрешив напечатать комедию, попечитель полагал своим долгом защищать это решение, дабы самому не быть обвиненным в потакании крамоле.
Назимов был стреляный воробей. В его служебной карьере был уже однажды, в 1841 году, случай, когда, вопреки желанию государя, он отрицал существование в Вильно тайного революционного сообщества и временно навлек на себя монарший гнев. Вскоре, однако, он сумел вернуть себе расположение царя. Верный его слуга, Назимов понимал, что быть упорным в своем мнении, не поддаваться первому испугу – не только во всех отношениях достойнее, но и выгоднее. Его главное генеральское правило, рассказывает С. М. Соловьев, было: «Будьте покойны, В. В., у меня все покойно и хорошо»[140]140
Соловьев С. М. Записки. С. 137.
[Закрыть]. К тому же за его спиной стоял Закревский, стояло московское общество, которому нравилась комедия, и Назимов разрешил себе держаться достаточно независимо. Он формально передал Островскому выговор от министра, с сочувствием выслушал его объяснения и просил изложить их письменно.
Драматург сочинял свое объяснение с большим волнением и тщательностью – ведь это, помимо всего иного, был первый для него случай взглянуть на себя со стороны, определить цели и смысл своего творчества. Письмо не раз читалось и обсуждалось участниками дружеского кружка – Эдельсоном, Филипповым и другими. Несомненно, советовался Островский и с Погодиным, Ростопчиной.
Наконец письмо как будто сладилось вполне. Островский учтиво благодарил министра за переданные ему советы, соглашался, что в комедии могли обнаружиться «невольные промахи», но, по существу, все до единого предъявленные ему обвинения оспаривал и с гордой независимостью говорил о своих взглядах на призвание писателя: «Согласно понятиям моим об изящном, считая комедию лучшею формою к достижению нравственных целей и признавая в себе способность воспроизводить жизнь преимущественно в этой форме, я должен был написать комедию или ничего не написать. Твердо убежденный, что всякий талант дается Богом для известного служения, что всякий талант налагает обязанности, которые честно и прилежно должен исполнять человек, я не смел оставаться в бездействии. Будет час, когда спросится у каждого: где талант твой?»[141]141
Т. 11. С. 17.
[Закрыть]
Сам дух и строй речи напоминает здесь Гоголя, его знаменитое «со словом надо обращаться честно». Да автор письма и не скрывает своего преклонения перед создателем «Ревизора», выражая пожелание, чтобы публика клеймила порок именем Подхалюзина так же, как клеймит она его именем Хлестакова.
Мы не знаем, по просьбе ли Островского или по своей инициативе экзальтированная Ростопчина передала текст объяснения молодого драматурга Гоголю. На случайном, по обыкновению, клочке бумаги Гоголь набросал карандашом беглую «рецензию»:
«Я тоже нахожу ответ Островского очень благоразумным. Дай ему Бог успехов во всех будущих трудах и полного уменья выражать ясней их благонамеренность, чтобы ни в ком не оставалось какое-нибудь на этот счет сомненье. При внутреннем усовершенствовании это приходит само собою. Самое главное, что есть талант, а он везде слышен»[142]142
Цит. по: П. О. Морозов. Литературные дебюты А. Н. Островского // Образование. 1896. № 5/6. С. 91.
[Закрыть].
Тут весь поздний Гоголь, с его опорой на благонамеренность, с надеждами на внутреннее усовершенствование. Но рядом с постным смирением и юродством вера в талант и едва ли не намек Островскому, что доказать властям свою благонамеренность можно лишь грубым лобовым приемом: выведя, скажем, в финале пьесы жандарма или квартального. Ведь сам он когда-то вынужден был пойти на это в «Ревизоре»… Как бы то ни было, поддержка Гоголя была огромным событием в душевной жизни Островского, и его записку он хранил среди своих бумаг до самой смерти как величайшую драгоценность.
Что же касается самого письма Назимову с объяснениями о «Банкроте», то попечитель нашел его вполне удовлетворительным и переслал в Петербург. А от себя заявил, что не испытывает раскаяния в том, что «не усомнился напечатать эту комедию». Ответа от министра не последовало, но спустя месяц из Петербурга пришло (на всякий случай) напоминание о запрещении печатать повторное издание комедии: в столице стали сомневаться в понятливости старого генерала.
Итог цензурных злоключений «Банкрота» оказался безрадостным: комедия была запрещена для сцены и о пьесе, по-видимому, не рекомендовали упоминать в печати. Во всяком случае, в продолжение всего 1850 года не появилось ни одной рецензии. Лишь в следующем году в «Москвитянине» можно отметить первые робкие попытки сослаться на пьесу Островского, без упоминания, впрочем, ее названия и имени автора. Пользуясь осторожными экивоками, Шевырев писал: «В наше время комики стали заимствовать сюжеты из купеческого быта: именитое сословие купцов первое рукоплещет этим комикам». И чтобы не оставалось сомнений, какое сочинение он имеет в виду, Шевырев пускался в рассуждения о злостном банкротстве. «Эти пятна, – писал он, – составляют исключения, которые надобно скорее смывать с себя. Злостных банкротов, конечно, лучше видеть на сцене, нежели на Ильинке…»[143]143
Шевырев С. П. Теория смешного с применением к русской комедии // Москвитянин. 1851. № 3. С. 381.
[Закрыть]
Мало-помалу запрет писать о комедии перемалывался самой жизнью: о ней говорили всё более и более громко. Власти ошиблись, думая, что навсегда вычеркнули из сознания современников опальную пьесу. Борьба с настоящим искусством трудна и бесплодна. Долгая жизнь комедии в литературе и на сцене, по существу, только еще начиналась.
Однако молодой автор не мог еще этого знать и тяжело переживал свою опальность. Решение установить за ним полицейский надзор особенно смутило и напугало Островского. Он хотел было объясниться на этот счет с могущественным графом, но тот успокоил его неожиданным резоном.
– Это вам больше чести, – сказал Закревский, объявляя драматургу волю петербургского начальства.
Быть может, генерал-губернатор имел в виду, что тот русский писатель еще недостаточно прославлен, кто не удостоен внимания голубых мундиров? Пушкин, Лермонтов, Грибоедов не были обойдены этой милостью.
В Москве любили опальных литераторов, и Островский вскоре понял, что для того круга, мнением которого он дорожил, полицейское преследование придает его имени даже некоторую дополнительную притягательность. Во всяком случае, артисты, писатели не только не отвернулись от него, узнав о том, что его дебют встречен немилостиво, но горячо выражали ему симпатии.
По заведенной издавна традиции 9 мая, в Николин день, Гоголь праздновал свои именины в саду Погодина на Девичьем поле.
Все последнее время автор «Мертвых душ» жил особенно нелюдимо, замкнуто, с трудом и даже какой-то мукой вступая в общение с людьми. Навещавшим его людям он говорил о своей хандре, о том, что всюду, куда ни погляди, мерещатся ему свиные рыла, что люди разучились читать серьезные, дельные книги и развелось в избытке щелкоперов… Но, несмотря на хандру, недомогание, слабость, пропустить этот праздничный день Гоголь не мог.
Случилось так, что уже дорогой к Погодину, где все было готово для торжественного обеда, Гоголю повстречались дрожки, в которых сидели Островский с Бергом. Гоголь велел остановиться, соскочил со своих дрожек и пригласил их на именины. «Мы тут же и повернули за ним», – вспоминал Берг[144]144
Гоголь в воспоминаниях современников. М., 1952. С. 503.
[Закрыть].
Самолюбивый и мнительный Гоголь всегда заранее начинал волноваться, кто будет приглашен 9 мая и каков окажется обед. За два дня он обсуждал блюда с поваром Погодиных, Семеном, и, не сговорившись с ним, ехал в купеческий клуб, к Порфирию, заказывать там малороссийский обед: жареную дрофу, вареники и поросенка.
Так же тщательно обдумывал Гоголь список своих гостей. То, что он неожиданно пригласил мало знакомого ему Островского, было верным знаком расположения к нему.
Обед проходил в саду за погодинским домом: в старинной аллее вблизи пруда накрывались столы для гостей. Весной, бывало, в сад залетал соловей и развлекал обедающих своим пением. Но ради верного эффекта сын хозяина Дима вместе с Гоголем заранее вешали над концами стола по клетке с соловьями и искусно маскировали их липовыми ветками. Гости бурно выражали свой восторг, когда среди обеда вдруг раздавались соловьиная дробь и дудка.
В ожидании обеда и в перерыве между блюдами гости гуляли по главной аллее, помнившей еще французов, по боковым тенистым и уютным аллейкам, вокруг обширного пруда. (Недавно я навестил это место на Погодинской улице, близ Новодевичьего монастыря. Старого дома, где Островский читал «Банкрота», давно нет, но сохранилась затейно рубленая изба, построенная Погодиным для своего Древлехранилища. А невдали от нее зажатые корпусами многоэтажных домов – остатки старого парка, низинка, поросшая кустарником, в которой можно угадать давнее ложе высохшего пруда. Одинокие липы и дубы-ветераны стоят просторно, не в ряд, коряво раскинув уцелевшие ветки, и уже трудно вообразить себе, как шла когда-то аллея. Молодые люди с портфелями, спешащие мимо в научные институты и клиники по вновь протоптанным дорожкам, вряд ли догадываются, что идут под деревьями, видевшими Гоголя, Щепкина, Островского.)
9 мая 1850 года, как рассказал Берг, на обеде у Гоголя в погодинском саду присутствовали братья Аксаковы, Кошелев, Шевырев, Максимович. Гоголь, как это стало у него обыкновением в последнюю пору, был скуп на слова, без прежнего добродушия и веселой игры воображения. Порой в его тоне проскальзывало нечто догматическое. Говорил он с «приятною важностию». Но к Островскому был внимателен, добр.
Константин Аксаков, в коричневом сюртуке, все время что-то доказывал своим зычным голосом. Максимович мягко улыбался. Больше всех был оживлен за столом низенький, горбатый, с горящими, как уголь, глазами и жидкой бородкой Хомяков. Он развеселил всех, рассказав о скандале с объявлением, появившимся в «Московских ведомостях».
Это в самом деле была презабавная история. В номере 55-м этой газеты за 1850 год было напечатано за подписью «Корнет Я. Атуев» объявление о натаскивании собак, в котором, между прочим, говорилось: «…в Мензелинском уезде в настоящее время показано прибыли волков с белыми лапами, похищавших имущественное достояние государственных крестьян, которые, хотя и сами воют также волком, но не могут еще в точности определить число кочующих стай…»
Обер-полицмейстер, ведавший неофициальной частью «Московских ведомостей», не заподозрил подвоха и передал объявление в печать. Между тем под волками с белыми лапами следовало разуметь, как с запозданием догадались, чиновников министерства государственных крестьян. Разгневанные власти посадили редактора, а заодно и корректора на трое суток под домашний арест, во избежание более грозного взыскания со стороны петербургского начальства[145]145
См.: Бодянский О. М. Выдержки из дневника // Русская старина. 1888. № 11. С. 406.
[Закрыть].
На именинах Гоголя, таким образом, говорили о цензуре, положении печати, попечительной строгости начальства, и нельзя сказать, чтобы этот разговор был безынтересен для молодого автора запрещенной пьесы.
Всего авторитета Гоголя с трудом хватало ему, чтобы объяснить, как это возможно: соединить в художественном произведении две столь противные друг другу вещи, как «талант» и «благонамеренность». При всем желании автора они почему-то существовали лишь порознь и не желали смешиваться, как вода и масло.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!








































