Текст книги "Репетиции"
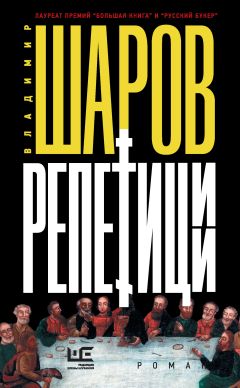
Автор книги: Владимир Шаров
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 18 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
Здесь Сертан сразу ответил категорическим отказом, и Никон опять повторил, что на православии он отнюдь не настаивает. И вот за всю эту работу и немалые неудобства он предлагает ему сто рублей в год. По тем временам жалованье было огромное, даже царь, если бы Сертан сделался его придворным комедиографом, платил бы вполовину меньше. И все-таки Сертан тогда решил, что не согласится или, во всяком случае, сделает еще одну попытку не согласиться. Никону он ответил, что должен всё обдумать и что на несколько дней ему надо уехать обратно в Москву.
В Москве он сразу же стал узнавать, как при дворе отнесутся к тому, что он примет предложение Никона. По всей видимости, царь и патриарх расходились дальше и дальше, и Сертан надеялся, что на этот раз ему, хотя и мягко, посоветуют предложение Никона не принимать. Однако вопреки расчетам результат, как и два месяца назад, когда он спрашивал, надо ли ему ехать к Никону, был обратным. Получилось, что Сертан сам загнал себя в угол и отказаться уже не мог. Для него и дальше, почему царь соучаствовал и сочувствовал тому, что делал Никон, оставалось загадкой, а то, что это было, он видел ясно. Позже, когда минуло два или три года его жизни в Новом Иерусалиме и положение его упрочилось, он спросил об этом Никона, и патриарх, не удивившись вопросу, сказал, что царь сознает всю важность строительства Новоиерусалимских святынь, давно с ним ищет примирения, потому и не препятствовал Сертану ехать к опальному.
Возвращение Сертана из Москвы Никон понял как его согласие, и больше они к этой теме не возвращались. Никон только сказал ему, что начинать он может в любое время: что и в каком порядке делать – всё на его усмотрение, он, Никон, ни во что вмешиваться не будет, но помощь, которой Сертану, конечно же, понадобится много и самой разной, окажет незамедлительно. Он, Никон, специально это подчеркивает, чтобы Сертан понял, какое значение он придает его работе, и не боялся просить. Теперь – о сроках: постановка должна быть полностью готова ко времени окончания строительства, а именно к 7 января 1666 года. Ни о задержках, ни о переносах не может быть и речи – и год, и месяц, и день, когда начнется мистерия, уже назначен и таким останется, что бы ни произошло. Но времени еще немало, добавил он мягко, и всё оно – Сертана. Разговор этот был в сентябре 1662 года.
Из дневника Сертана видно, что первый год он и Никон встречались почти каждый день. Обычно это были долгие совместные прогулки, и хотя патриарх по-прежнему чрезвычайно занимал Сертана, он всё больше тяготился частотой их свиданий и особенно той близостью, которую эти свидания порождали.
Часами, обычно вечером, они ходили по окрестностям монастыря, иногда совсем дальним, прикидывая и намечая, что где будет разыграно, запоминая лишние деревья, которые нужно вырубить, чтобы расчистить место, выравнивая, а иногда даже меняя на плане очертания холмов и деревень. Это была большая работа; и среди прочего – названия, которые потом получили монастырские села: Вифлеем, Назарет, Хеврон и т. д. – были результатом сделанной ими тогда разбивки местности, того, где и как, по сценарию Сертана, должен был пройти Христос и Его ученики.
Через месяц после начала этих прогулок Сертан стал бояться Никона. Сертана всё больше пугало, как быстро Никон схватывает и как легко входит в детали и тонкости театрального дела. Воспитание, жизнь, которую они прожили, вера – всё у них было настолько разное, что Никон, по представлениям Сертана, как бы ни был он умен, не должен был его понимать, во всяком случае, легко понимать, и когда оказалось, что это не так, что стены, которая должна была их разделять, нет или почти нет, и он со всех сторон открыт, беззащитен, Сертан стал бояться. Это продолжалось долго. Он думал о Никоне невесть что, ни на минуту не мог отрешиться от того, что завтра опять должен будет ходить с ним, быть перед ним много часов, и доводил себя почти до умопомешательства. Как ни странно, сами встречи с Никоном приносили ему облегчение. Сертан научился делать так, что почти всё время они или шли молча, или говорил Никон, и, пока он был занят собой, Сертан чувствовал, что он в безопасности.
В середине августа Сертан наконец получил передышку. Начались затяжные дожди, Никона мучил ревматизм, и он не покидал свою Отходную пустынь. Но и не встречаясь с Никоном, Сертан почти неотвязно продолжал думать о нем и о том, что Никон ему рассказывал, пока однажды вечером, уже перед сном, помолившись и раздевшись, вдруг не увидел, что начинает понимать Никона и, главное, понимать, почему Никон понимает его, Сертана. С этого дня они начали медленно сравниваться в знаниях друг о друге. Сертан стал успокаиваться, и его боязнь постепенно ослабела.
Раскрыла Сертану Никона история его поставления в патриархи. Это был один из любимых его рассказов, и Никон повторял его почти так же часто, как и детские истории. По словам Никона, еще за год до посвящения он, часто беседуя с царем наедине, всякий раз убеждал его, требовал, грозил, молил перенести мощи убитого Грозным митрополита Филиппа в Успенский собор.
«Бог, – кричал он Алексею, – прославил мученика святостью, а власть до сих пор не покаялась!»
Так продолжалось несколько месяцев, пока в конце концов наставленный им царь, словно под его, Никона, диктовку, но сам и своей рукой написал святому Филиппу послание, умоляя митрополита отпустить грехи убившему его царю Ивану и вернуться в Москву. Он просил Филиппа помириться с Иваном, уверял, что Грозный давно раскаялся и давно взывает о прощении. Он писал Филиппу, что завершилось то злое, разделившее царство время, Господь снова даровал благодать пастве Филиппа, и вся она ждет его, молит его с миром возвратиться обратно и с миром же примет его.
Филипп был похоронен в Соловецкой обители, и царское послание повез на Соловки Никон, повез с огромной свитой из бояр и архиереев. Потом умер старый патриарх Иосиф, и все уже знали, что Никон – наследник.
Он был выбран и тут же отрекся, потому что, как некогда Грозный Русским царством, хотел править церковью «на всей своей воле». И он получил ее. Он сделал так, что в Успенском соборе около привезенных им мощей святого Филиппа царь и бояре, распростершись на земле, клялись и молили его не отрекаться. И тогда он, Никон, встал и, обратясь к народу, спросил: «Будут ли почитать меня как архипастыря и отца и дадут ли мне устроить церковь?!» Все плакали и клялись, что дадут.
Вспомнив и теперь дважды повторив себе эту историю, Сертан вдруг спокойно и холодно понял, что из рассказа Никона ясно следует, что просто и он знает правила той игры, которой всю жизнь занимался Сертан, более того, знает их много лучше Сертана. Он знал их лучше, но это были те же правила. Он явно никогда не учился и не мог учиться этому, и всё же он, не понимая, чем владеет, великолепно и исчерпывающе знал законы драмы. Знал всё то, что ведет ее от первой реплики до последней, в чем игра плавает и растворяется вместе с теми, кто ее смотрит, делая их частью, соучастниками происходящего и заставляя верить в жизнь на сцене. Заставляет верить в игру даже самих актеров.
Никон делал это, как мы бы теперь сказали, интуитивно, он и сам во всё безусловно верил, не сомневался, в отличие от Сертана, в подлинности действия, в том, что он ничего не играет, и что игра, лицедейство – мерзость и смертный грех. В этом и была его сила. В нем была та погруженность, которой Сертану никогда, как он ни хотел, добиться не удавалось, хотя и в его жизни были постановки еще на заре работы с Аннет, в самом начале ее, когда минутами он верил в истинность и реальность жизни на сцене, или во всяком случае верил, что происходящее на ней подлиннее и реальнее жизни. Но это были минуты. Никон же никогда не выходил из состояния веры, и здесь, судя по всему, ему помогало то, что он был и продолжал быть ребенком, и то, что он обладал даром внушения, совсем редким по огромности и своей вере в него даром. И еще одно: он сумел обогатить действа, которые ставил, необычайно изменить и усилить их. Дело в том, что, что бы ни говорили в игре он и занятые в ней люди, а говорили они вещи вполне привычные, за этими привычными вещами стояли воля и слова Бога, которые «актеры» обрисовывали и вычерчивали, и неведомо для себя фактически произносили. И только те, кто видел их, понимали, что́ они произносили и что это не их слова, а слова Бога, который одновременно с ними тоже всегда был на сцене и говорил их устами.
Это обязательное присутствие главного и, в сущности, единственного настоящего действующего лица – незримого и невидимого, деяния и слова которого только ощущались, и всё равно было ясно, что Он единственный и говорит и есть, а все остальное – фикция, мираж, – вот эта игра Господа Бога, Его столь явное и безусловное присутствие, создаваемое словами и движениями прочих действующих лиц, рисующих Его и Его волю, было то новое, огромное новое, что внес Никон в театр. Действия, монологи и реплики в постановках Никона, сохраняя прежнюю натуральность происходящего, обретали одновременно изначально свойственный им смысл и значение, как всё, несущее в себе часть Божьей благодати. По сути, и Никоновы рассказы о своем детстве были изложением эпизодов той же долгой, начатой в детстве и растянувшейся на целую жизнь драмы; в ней было множество людей, лиц, характеров, отношения между ними были сложны, запутаны, изменчивы, и всё же над этими отношениями всегда возвышалась, господствовала, была ясно различима, очевидна для каждого одна-единственная линия – линия отношений между Богом и человеком, линия служения человека Богу.
То, как Никону в его драме удавалось провести эту линию сквозь чересполосицу и сумятицу человеческих слов, намерений, поступков, ни разу не исказив ее, ни разу не потеряв и не ослабив, поразило Сертана, и очевидно, что для Новоиерусалимской постановки многое было взято им именно у Никона, и в этом многом он стал учеником Никона.
Сертан в дневнике чуть ли не через страницу упрекает себя, что повел дело так, что не смог уехать из России и оказался у Никона в Новом Иерусалиме, и мы, зная, что спустя восемь лет его отправят этапом в Сибирь и по дороге туда, уже за Уральским хребтом, как тогда говорили, за Камнем, он погибнет, кажется, должны с ним согласиться, и всё же подобные записи не доминируют. Сертан, без сомнения, был захвачен происходящим в монастыре, тем, какую роль он в этом играл, и захвачен с каждым годом сильнее и сильнее. Он всё глубже погружался в работу, она окружала, поглощала, завораживала его, это было и потому, что он любил и очень любил театр, и потому, что понимал, что никогда ни он, ни кто другой ничего подобного не ставил и вряд ли будет ставить, – он уж точно никогда не будет. Работа в Новом Иерусалиме была для него совершенно новой, весь его старый театральный опыт был мало применим для делавшегося здесь, и не только из-за того, что актеры были не профессионалы.
Причина была не в них и даже не в необычности и удивительности замысла, и не в том, что он шел ощупью и каждый день находил много нового для себя и знал, что не только для себя, знал, что никто ни к чему подобному и не приближался и вообще такого театра никогда не было и нет, – через некоторое время он понял другое, еще более важное: его репетиции явно были в Новом Иерусалиме центром и безусловным центром всего.
Это было странно, но получалось так, что подбор актеров, эскизы и мизансцены, которые делал Сертан, волновали Никона больше, чем строительство Воскресенского собора. Само это строительство было только одной долей всей огромной, затеянной Никоном и ведомой им, Сертаном, и под его руководством постановочной работы. То, что делал Никон и монахи, сотни нанятых работников и добровольцев, казалось, было лишь возведением декораций для спектакля, который Сертан ставил. Он придет к этому далеко не сразу, на исходе третьего или в первые месяцы четвертого года своего пребывания в Новом Иерусалиме, когда уже втянется в работу с актерами; до этого он долго, почти до крайнего срока оттягивал начало репетиций, убеждая и Никона и себя, что раньше надо закончить все мизансцены, – сам же он был уверен, что с крестьянами, которых ему навязал Никон в качестве актеров, ничего не получится и получиться не может, что людям, которые никогда не видели ни театра, ни театральных постановок, объяснить, что и как надо играть, конечно же, невозможно, и когда Никону это станет ясно, его, Сертана, не ждет ничего хорошего.
В конце третьего года жизни в Новом Иерусалиме он все-таки стал подбирать исполнителей на роли, вернее, Никон его заставил, а перед этим Сертан сделал последнюю попытку и требовал у Никона, чтобы главные роли, хотя бы Христа и его ближайших учеников-апостолов, играли или профессиональные актеры – это требование он выдвинул просто так, чтобы было от чего отталкиваться, – или кто-то из образованных и сведущих в Священном Писании монахов. И уж, конечно, он не сомневался, что Никон, как и во время первого, предварительного, набора актеров год назад сумеет уговорить или просто властью заставит играть в постановке недавно крещенных им евреев: без свойственного лишь их народу духа, цвета, речи, фактуры вся попытка постановки Евангельских событий казалась ему бредом. Но Никон на это ответил отказом, причем особенно резким – именно на последнюю просьбу заставить играть выкрестов; вообще же уже давно Никон, становившийся с каждым годом всё более желчным, раздражительным и жестоким, для Сертана явно делал исключение: был с ним ласков, кроток и тих.
Сертан тогда подумал, что судьба дает ему еще один шанс порвать эту сумасшедшую историю с русскими мужиками, играющими апостолов и судей Синедриона, тем более, что только что не удалось очередное примирение Никона с царем, и разрыв после опять не сбывшихся надежд стал совсем глубоким.
Какой причиной Сертан воспользовался для отъезда – неизвестно, в дневнике об этом ничего нет, но, добравшись до Москвы, он снова попытался получить в Посольском приказе разрешение на отъезд из России. Получить как можно быстрее – денег он не жалел, дал подьячим взяток почти на сто рублей, и сначала ему обещали, что всё будет в порядке, его отпустят и сделают это скоро, бояться ему нечего, никакого влияния Никон сейчас не имеет, и что Сертан хочет от него уехать – это даже хорошо. Сертан видел, что приказные ему сочувствуют, что они не любят Никона, понимают, почему он бежит от него, и готовы помочь. Однако дальше, когда ему уже должны были дать отпускные бумаги, вдруг деньги брать у Сертана перестали, дело замедлилось, потом остановилось и, покачавшись так, как на весах хорошо взвешенный товар, – это время он еще надеялся – быстро закрутилось обратно, и Сертана, арестованного, под конвоем, отправили назад к Никону.
Когда его везли в новый Иерусалим, Сертан был уверен, что его ждет или казнь, или заточение в монастырской тюрьме, и как бы простился со всеми и отмолился, и к смерти приготовился, но Никон встретил его непонятно мягко, будто ничего не случилось, и через месяц, оправившись, успокоившись и перестав бояться, Сертан и эту гирьку добавил к старому убеждению, что в том, что происходит в Новом Иерусалиме, он чуть ли не главная птица.
Позже, когда он опять вошел в работу с актерами и у него, на удивление, стало получаться – да еще так получаться, как не бывает и не должно, речь тут могла идти только о невозможном, о чуде, но об этом немного ниже, – и он уже привык быть всё время с актерами, каждый день говорить со всеми этими двенадцатью апостолами, объяснять им Священное Писание, направлять, исправлять, когда надо; привык, что они беспрекословно слушаются его и что иначе и быть не может, привык, что он у них старший и недостижимо старший и не только потому, что начальствует над ними, но, главное, потому, что учит их, потому, что точно и досконально знает, что и как делать дальше, – он вдруг понял, что и есть их учитель, сами они не ведали ни хода, ни порядка евангельских действий, лишь от него они узнавали, что, кто и когда будет говорить, делать, и когда они потрясались словам Христа или собственным словам, которыми учили народ, отвечали Христу, – своим словам они изумлялись куда больше: ведь на что сам способен, тебе хорошо известно, чужой – кто его знает, что может сказать или сделать, а ты – нет, и это чудо, когда после Сертана они говорили то, что только потом, сказав, и еще потом, медленно обдумав, понимали; и каждый раз сохранялось в них, что всё это они узнали и говорили с его голоса и теперь тоже говорят и знают это от него и после него. И не только знают, но знают, что правильно это, и другим могут передать и научить.
Когда каждый из них вошел в роль, осмыслил, кто он есть, понял и привык к этому, они начали догадываться и кто Сертан, раз именно он их выбрал и ведет, и показывает, что и как. Всё это мог делать только тот, кто был их выше, а они были апостолы.
Думать на Сертана невесть что они стали очень рано, много раньше его самого. Здесь то же самое: он-то знал, кто он, а они – нет, но все-таки в конце концов и ему то, кого они видели в нем, хотя и частью, передалось, и Никону передалось, и монахам. Тогда и утвердился Сертан в том, что здесь, в Новом Иерусалиме, возводятся декорации: весь монастырь и сам Воскресенский собор – лишь декорации для мистерии, которую он ставит, для мистерии, какая и была только раз в жизни – полторы тысячи лет назад, но зачем и для чего всё это решено повторить, он поймет еще не скоро.
Перед тем, как он поверил, что из этой затеи, хотя бы с помощью чуда, что-то может выйти, было у него еще одно столкновение с Никоном. Сертан в то время уже пробовал репетировать с мужиками и был потрясен, когда Никон непонятно почему запретил искать исполнителя роли Христа. Сертан вообще не понимал, как можно репетировать без Христа. Он говорил Никону, что, как тот знает, в Евангелиях нет ни одной сцены без Христа, с которой он мог бы, хотя бы для разгона, начать, что Евангелия – это книга о Христе и больше ни о ком, и нет даже профессиональных актеров, которые умели бы играть без партнера, когда им просто говорят: вот здесь стоит тот-то и тот-то, и ты изволь сказать ему то-то и то-то, а он тебе так-то ответит. Таких актеров нет даже в Европе, а если и есть – два-три, но он, Сертан, их никогда не видел и дела с ними не имел.
На это Никон сказал ему, что не Сертану – протестанту, а может быть, и католику (тут Сертан испугался, потому что, если в России знали про его католичество, у него могли быть очень большие неприятности: и острог, и Сибирь, и что угодно) дано найти на земле Христа, найти и явить миру Христа – поверить в такое невозможно. Христу всё ведомо, и, когда будет надо, Он явится Сам – это Его дело, а не Сертана. О Христе Никон говорил еще долго, но в том же роде, ничего нового, он словно старался для себя уяснить, что будет; было видно, что он только нащупывает и ничего точно не знает, ни в чем точно не уверен. Сертан потом подумал, что все они: и Никон, и он, и крестьяне – сначала говорили и делали всегда кем-то ведомые, а затем долго и медленно понимали, что делали и для чего.
Здесь надо сказать, что, несмотря на отказ Сертану, несмотря на намек на его католичество и на то, что и у него, Сертана, своя, четко очерченная роль, – и всё, чтобы дальше он не шел, и еще: что у кого-то, во всяком случае не у него, протестанта или католика, есть роль важнее его роли, несравненно важнее, это было как раз тогда, когда он первый раз начал думать, что он, Сертан, в Новом Иерусалиме главная птица, – сделано это было Никоном по-прежнему мягко, как, впрочем, в последнее время он говорил с ним всегда, и Сертан скоро понял, что никакой опасности для него нет, даже если Никон действительно точно знает о католичестве, что сказано это просто чтобы окоротить его и поставить на место, а думает Никон о другом и старается понять другое, а именно: что́ он, Никон, затеял, что́ он делает, что́ готовит. И даже более важное: он ли это делает, потому что что-то понял, что-то знает, считает нужным делать, или его ведут, как ребенка, и он просто, потому что ребенок, – идет. Наверное, здесь было и то и то, и всё перемешалось, как слоеный пирог; сначала Никон знал и шел сам, потом забывал или пугался и дальше шел, не помня, чего хотел, лишь постепенно, из того, что им уже сделано, назад, вспять понимая, что, для кого и зачем он делал.
Сейчас, когда Никон говорил с Сертаном, его волновал, конечно, не Сертан, а Христос: действительно ли Он явится и когда явится; то, что делает он, Никон, делает ли он по Его воле и, значит, всё идет правильно, как и должно идти, и нет ничего такого, что делать не надо: он исполнитель, усердный исполнитель, – чего же еще желать, – или он задумал это сам, задумал какую-то чертовщину, всё от лукавого, и в первую очередь Сертан – неизвестно откуда взявшийся католик – Никон знал, что он католик, – всё по дьявольскому наущению, и вообще этот его театр и, главное, Новый Иерусалим, который он затеял и убедил присоединиться к себе царя, – тот же театр, действительно дьявольское искусство, только представить себе: католик-лицедей ставит пьесу, а патриарх Святой Руси и царь Святой Руси строят ему декорации – и как строят: ни сил не жалея, ни денег. Или всё же он, Никон, без Христа повторяя на Руси то, что уже было в Палестине, и этим напоминая Ему, что здесь, на земле, Он нужен, Его помнят и ждут, как бы говоря, что и Он, Христос, Сам давно хотел прийти и прекратить страдания людей, и что же Он не идет, ведь люди больше не могут, у них не осталось сил, – прав, а может быть, он требует, торопит, убыстряет то, что никак не может быть убыстрено, нарушает то, что было сказано раньше и многими повторено: человек не знает и не может знать, когда наступят последние времена; думать, что знаешь, верить, что знаешь, – грех и страшное кощунство. А то и в правду это – лишь театр, просто театр, и он, говоря, что Сертан не должен искать исполнителя Христа, как бы зовет самого Христа сыграть свою роль, тоже зовет Его в Театр, иначе постановка погибнет. Но тут снова замкнутый круг: ведь кто же, если не Христос, должен играть роль Спасителя?
О Христе и о том, как актеры будут репетировать без него, Никон сказал Сертану, чтобы он не беспокоился, всё будет в порядке, так, будто Христос есть, актеры будут играть так, как будто Христос с ними, пускай только он, когда до репетиций дойдет дело, скажет ему, Никону. Сертан знал, что ничего в порядке не будет и не может быть, но он и сам не хотел, чтобы сейчас эта история вдруг разрешилась и кончилась катастрофой, и, похоже, что, хотя оттягивать репетиции до бесконечности было не в его интересах, форсировать и разом ставить на них крест ему сейчас тоже было не надо. Он свернул этот разговор, но запомнил, что теперь у него есть еще один козырь, что он Никону о Христе уже говорил и предупреждал его.
Дней через пять после этого столкновения он, продолжая набирать актеров, начал первые пробы и распределение ролей. Потом пришел черед их заучивания. Это было самое тяжелое для Сертана время, он работал с актерами сутками и почти не спал. Крестьяне были неграмотны и учили роли целиком с голоса. На эту работу он не мог поставить вместо себя никого, ни из монахов, ни из других умеющих читать. Дело было не в том, чтобы актеры запомнили слова, а им и это было тяжело, память их была нетренирована и слаба, они довольно легко пересказывали текст, но с неимоверным трудом заучивали его, главное другое: слова, понятия и отношения к людям, к миру были им совсем не знакомы, чужды, и даже когда они понимали слова, смысл они часто не разумели, и это тоже надо было или увидеть, или догадаться и растолковать им, и вот это их совместное чтение и запоминание было одновременно и репетицией, и объяснением, и всем чем угодно, только не простым заучиванием. И усилия его не были напрасны; день за днем работая с актерами, он видел, как медленно и постепенно слово работает в них, видел, как слово меняет человека.
Когда Сертан говорил и с его голоса они повторяли и старались почувствовать то, что он говорит, в нем, словно в птице, у которой только что вылупились птенцы, просыпался материнский инстинкт: они как бы ели из его рта, и он нередко забывал, что это не его слова, но тут ничего плохого, на наш взгляд, как раз не было. Так вот в часы, когда он читал им Евангелие, все их силы уходили на то, чтобы запомнить, просто запомнить и слова, и интонацию, и темп речи; они пыхтели, потели и уставали куда больше, чем на пахоте, и здесь ни о каком настоящем понимании пока речи не было, и лишь когда они запоминали и им казалось, что основное дело сделано и можно передохнуть, в это время слово и начинало в них жить.
Если Сертан с первого раза угадывал и правильно выбирал исполнителя, роль скоро поглощала выбранного, он сливался с ней, переставал бояться Сертана, переставал думать, что раз он запомнил и эта непомерно тяжелая работа сделана, теперь можно шабашить, в нем возникало понимание, что это его собственные слова и он не только вправе, но и должен произносить их так, как считает нужным, а не так, как показывал Сертан. Надо сказать, что это «так, как считает нужным» относилось лишь к интонации, то есть к привнесенному Сертаном, а слова – до единого – были подлинные и ни разу никем из них не менялись – значит, и в Евангелиях всё было правильно; в подтексте каждого слова, которое произносили после Сертана актеры, было – что в Евангелиях всё правильно, и Сертану делалось от этого хорошо.
Пробы, нахождение и понимание, что ты попал в точку, доставляли Сертану несказанное удовольствие (он часто думал, что почти такое же наслаждение испытывал сам Христос, когда находил учеников, когда видел, что один, второй, третий… идет за ним). Потом он, Сертан, начинал кормить их, кормить их словами, и слова шли впрок, отобранные им крестьяне менялись, менялись прямо на глазах, все в них менялось, и это видел не только Сертан, но каждый, кто жил в монастыре, и получалось, что он, Сертан, как бы заново крестит их – ни дать ни взять апостол, посланный крестить Русь.
Сертан понимал, что работа по набору актеров не долго будет идти так гладко; пока он ищет исполнителей на хорошие роли, всё в порядке, а когда надо будет пробовать крестьян на роли тех, кто не пошел за Христом, кто отверг Его, и, главное, кто судил и казнил Его, тут добром никто не согласится, и неизвестно, сумеет ли помочь даже Никон. Но он оказался не прав: конечно, играть эти роли никто не хотел и крестьяне были бы рады, если бы, как и прежде, их отдали недавно крещенным Никоном евреям (решение, справедливое с любой точки зрения), я уже говорил, что Сертан и сам этого добивался, тем не менее отобранные во враги Христа скоро поняли и приняли то, что он дал им такие роли, – это было как в жизни, где есть люди, которые вытянули счастливый жребий, а есть, которым не повезло, и тут ничего не поделаешь. Каждому из них было ясно, что не могло тогда, полторы тысячи лет назад, быть иначе, если бы все признали Христа и пошли за Ним, давно уже на земле было бы, как в раю небесном, – ни голода, ни болезней, ни смерти. Ведь и про себя они знали, что грешны и что спасти их нелегко, и не может быть так, что они вдруг всем миром разом обратились и приняли, и раскаялись – и раньше не могло быть, и сейчас.
Сертан потом много думал: почему они соглашались столь легко? Тут было три ответа: фатализм – чему быть, того не миновать, – застарелая привычка к бедам и несчастьям, – это было первое, что пришло ему в голову; забитость и рабский дух, природный страх перед начальством, который был даже сильнее, чем боязнь лишиться вечного блаженства, жизнь была так безнадежна и беспросветна, что успела уйти и вера, и надежда, – это была его вторая мысль, которая легко соединялась с уже, в сущности, старым впечатлением Сертана, что русские вообще мало религиозны, а если и религиозны, то внешне, поверхностно; пожалуй, и в вечное спасение они не верят, принимают его за добрую сказку, и лишь позже он стал думать, вернее, склоняться к тому, что здесь другое: они считали, что весь мир, всё то, что есть, должно скорей, как можно скорей кончиться, чего бы это от них самих ни потребовало, то был чистейшей воды альтруизм, но он смягчался убеждением, что на земле у каждого человека есть своя четко очерченная миссия, – в них жил не фатализм, а понимание, что иное устройство невозможно, один Господь способен определить и рассчитать пути и стремления людей – иначе хаос и смута, а так они – часть пускай и несовершенного, но миропорядка, упор делался именно на то, что часть порядка, а любой порядок лучше, чем смута, – это они знали точно и давно.
Еще тогда, когда Сертан по первому разу набирал исполнителей на роли и ни он, ни другие не сомневались, что евреев в постановке будут играть выкресты, он пошел к Никону, чтобы договориться об освобождении своих актеров от монастырских повинностей; это было более чем справедливо, так как главные участники, в первую очередь апостолы, но не они одни, были заняты в репетициях целыми днями, и времени на хозяйство у них не оставалось вовсе: следовало не просто освободить их от работ, но давать им и хлеб, и деньги. Это требование Никон легко принял, сказал, что готов всех освободить, но монастырский келарь Феоктист – разговор происходил при нем – стал резко возражать Сертану. Он согласился лишь апостолам уменьшить повинности, а уж давать им, а тем более другим сейчас что бы то ни было невозможно, говорил он Никону: царь последние два года денег шлет мало, у монастыря не хватает даже на строительство, не плачено за кирпич, за железо, не плачено возчикам, братия совсем плохо кормится, изнурена и давно ропщет. Но Никон не захотел его слушать, подтвердил, что сделает то, что хочет Сертан, да еще прилюдно грубо осадил Феоктиста; Сертана келарь не любил и раньше, знал, что он католик и папист, в свое время, как мог, противился его приглашению в монастырь, – после же этого случая Феоктист стал его врагом.
Считая, что роли евреев будут играть недавние выкресты, Сертан сказал Никону, что по справедливости, раз они согласились на страшные, возможно, гибельные для их душ роли – кто знает, что вообще из этого выйдет, – их необходимо вознаградить, сделать так, чтобы жить им сейчас было хотя бы немного легче, чем другим. На это Никон ему ответил: «А может быть, наоборот: не надо ли им играть с чувством вины и раскаяния, сознавая, что они грешат, грешат страшно, непоправимо и уже получают воздаяние за свой грех; им уже хуже, чем другим, но это только начало, только самая малость страданий, которые они навлекут на себя потом, нынешние их горести – ничто в сравнении с теми».
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































