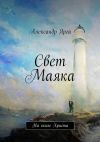Текст книги "Лицо другого человека. Из дневников и переписки"

Автор книги: Владимир Шилов
Жанр: Документальная литература, Публицистика
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 54 страниц) [доступный отрывок для чтения: 13 страниц]
Епископ Андрей назойливо звал брата в монастырь и был недоволен до крайности «досадной девицей» Платоновой, которая препятствует Алексею Алексеевичу стать на стезю безропотного послушания Господу. Варвара Александровна же, несмотря ни на что, выказывала Андрею полное почтение.
Любопытно, что еще в мае 1912 года, сравнивая братьев, она записала в дневнике: «Андрей знает, что сеет, Алексей Алексеевич знает, что хочет собрать, когда же сеет, случается вообразить ему до того, что уверяет, что сеял пшеницу, а на самом деле была рожь… Андрей сразу определил себе дорогу и пошел по ней… У Алексея Алексеевича нет ни способности организатора, даже не способности, а устойчивости, нужной для организатора, ни таланта устроительства, он прежде всего мечтатель, философ, а потом уже как необходимость – деятель. Душа и ум у него вместе, душой он в церкви, умом в миру, таким в монастыре быть нельзя… Андрей чудная, яркая, прямая, как стрела, свеча перед иконой, горит она ровным светом и светло от нее не одной душе. Алексей же жжет свою с двух концов, она не прямая, а переломленная в середине, но она все-таки одна, и свет ее, если сольется воедино, прекрасен и силен, ярок, ярок будет! Горит же она, как и Андреева, для Бога».
Тревожные для Алексея Алексеевича месяцы они с Варварой Александровной перемогались вместе. Десять лет знакомства и невзгод не только сроднили и обручили их беспримерным доверием, эти десять лет сформировали личность Варвары Александровны, закалили ее характер и убедили Алексея Алексеевича, что он «угадал ее», что выбор, сделанный им в 1905 году, был перстом судьбы.
Осенью 1916 года Ухтомский адресовался к Варваре Александровне: «Дорогой друг, если бы я ушел теперь туда, куда меня звали, в Воскресенский монастырь, то это не значило бы, что мы с Вами расстаемся, а значило бы то, что говорил, уходя в пустыню, преподобный Алексей Человек Божий своей невесте: „Пождем, когда благодать Божия устроит с нами нечто лучшее…“ Если Вы были бы невестой моей в обычном смысле слова, то я мог бы решать, „как скажет моя душа“. Но с Вами я не могу не быть вместе, так что вместе же должен решать и уход на служение в иночестве. Когда Вы укрепите меня, у меня будет вдвое сил, чтобы преодолеть себя, свое миролюбие, любовь к родному углу и попробовать быть учеником Христовым…» И тут же добавлял: уйти из университета до конца войны не имеет морального права, это будет похоже на «бегство с поста в критическое время».
Университет он не покинул, а мысль о монастыре в тот момент, казалось бы, оставил. Однако тяжкий путь его духовного восхождения продолжался, его изначальное стремление к самоочищению крепло, и спустя несколько лет – в 1921 году, в обстоятельствах уже совсем иных, не менее беспросветных, – Алексей Алексеевич по некоторым сведениям все-таки тайно принял иночество с именем Алимпий, тем самым как бы окончательно узаконив столь желанное для него положение «монаха в миру».
5
Осенью 1917 года Ухтомский участвовал в заседаниях Всероссийского Поместного собора Православной церкви в Москве и в письме от 14 ноября спрашивал Варвару Александровну: «Как легло Вам на душу это последнее время с новым ленинским выступлением, с „переворотом“ и проч.?» Торопясь предупредить – для него в случившемся никаких неожиданностей нет: «…все это предрешено, и всему этому воистину „подобает быти“ еще с тех пор, – писал он, – как в феврале и марте маленькие люди ликовали по поводу свержения исторической власти; как историческая власть впала в великий соблазн и искушение последних лет; как правящее и интеллигентное общество изменило народу… Одним словом, исходные нити и корни заходят все дальше, и из этих корней роковой путь к тому ужасу, который переживается теперь и о котором надо сказать, что, переживая его лицом к лицу, мы еще и не отдаем себе полного отчета, до какой степени он ужасен!»
…В декабре 1917 года Алексей Алексеевич поехал в Рыбинск – встретить Рождество, но заболел, слег в постель и потом неспешно выздоравливал, со страхом представляя себе возвращение в Петроград. «Ехать, в особенности в Петроград, – писал он Варваре Александровне, – теперь очень трудно. Поезда идут безобразно, неправильно; стекла выбиты; места в вагонах забиты до крайности, так что приходится помещаться чуть ли не на площадках. Как поокрепну, выеду. Поджидаю еще себе попутчиков, которые могут оказаться в следующие дни. С ними будет, я думаю, полегче в толпе». Болезнь, однако, не отпускала, непредсказуемость событий не располагала к переездам, и в результате Ухтомский прожил в Рыбинске почти год.
Поправившись, он занялся в охотку физическим трудом. С мыслью, что в грозящий голодом год оставлять землю праздной нельзя, вскопал и засеял два десятка грядок картошкой и горохом; жалованье из университета он не брал, еще раньше деньги, какие тогда нашлись, истратил на облигации «военного займа и займа свободы» – по настоянию брата, от которого теперь из отрезанной чехословаками Уфы ничего не было слышно. Из Петрограда вестями тоже не баловали, и Алексей Алексеевич даже усомнился, не прекратилось ли всякое сообщение с этим городом и не уничтожаются ли письма «буржуев».
Письмам Варвары Александровны из Саратова, куда в июле 1918 года эвакуировали «отдел сборов» правления Рязанско-Уральской железной дороги, он несказанно обрадовался и в ответ рассказывал ей, что большевики близ Рыбинска готовились летом к боям, из Шексны в Волгу привели миноносцы, в городе заметно прибавилось матросов и армии. Обуянные «гордынными замыслами», большевики хлопотали о соблюдении каких-то «программ»: Ярославская губерния, видите ли, не была подведена под их «партийный шаблончик». Все их замыслы превращались в карикатуру – и она была бы «уморительно смешна, если бы не была ужасна».
Церковь в городе подвергалась унижению и погромам: монашек, с издевательствами, гнали из монастыря, священников грозились забрить в солдаты, появились слухи, что домовые иконы обложат особой податью и службу в храмах прекратят, а в октябре случилось совсем уж отвратительное «мероприятие», – в театр, на «грандиозный митинг», как именовалось это действо в газетном объявлении, собрали в принудительном порядке местное духовенство всех культов и партийные докладчики из Смольного принялись «разоблачать язву религии»…
Ухтомский тогда с наслаждением читал Григория Богослова и Иоанна Златоуста. «Особенно дорого, – делился он с Варварой Александровной, – побыть в стихии этих дорогих отцов именно теперь, когда разыгрывается такая мировая трагедия с необыкновенным значением, когда вздымается опять и опять гордыня Врага и Противника для искушения человечества, и мир испытывается оружием и огнем». У Григория Богослова он натолкнулся на вещие слова: «Боюсь, не есть ли настоящее уже днем ожидаемого огня, не вскоре ли после сего настанет антихрист и воспользуется нашими падениями и немощами, чтобы утвердить свое владычество…»
«Падения и немощи» кричали о себе, мир европейской цивилизации был взбудоражен и изнурен. «День ожидаемого огня» занимался над XX веком, возвещая неведомые доселе испытания и взывая к покаянию. Это была первая в наступившем столетии мировая трагедия – искушение человечества «оружием и огнем».
Окунувшись в омут событий 1917–1918 годов, Ухтомский постоянно втолковывал Варваре Александровне, что «для очей веры христианской» эти события ничуть не загадочны и «физиономия их ясна». «Христиане предупреждены относительно того, – писал он ей в январе 1918 года, – что имеет быть, и им не приходится ужасаться теми событиями, которые развертываются перед нами. Знаем о том, что должны быть гонительства и жесточайшие попытки истребления Христова наследия! Так что то, что кажется таким новым и небывалым для самих „творцов“ всех этих новейших дел, оказывается для нас древнейшим, давно предсказанным типом событий, свойственным всем тем эпохам, в которые особенно ярко сказывается нравственное падение и растление общества, но вместе с тем подымается гордыня древней злобы, все пытающейся быть яко бози».
Пространство всемирной истории четко просматривалось. Ухтомский словно парил над временными и географическими барьерами, и переживаемая Россией катастрофа воспринималась им как следствие законов, диктуемых грешному человечеству неподвластной ему Волей. Он судил современность высшим судом, неизбежным «перед концом истории», наблюдая воочию «намекательное стечение признаков», предвещающих гибель и христианской культуры, и европейской цивилизации.
Ухтомский расшифровывал эти признаки: «Широкое разлитие легкомысленного неверия Христу в российском „интеллигентном“ обществе, все возраста-ющее растление и извращение душ и умов в разных „декаденщиках“, „теософиях“, „кубизмах“, „футуризмах“, растущее углубление разврата, появление Григориев Распутиных, ужасающий спрос на них и вообще на ложных пророков, развивающееся отсюда поругание церкви в соблазняющейся народной душе, затем ужасные войны, кровопролития, явно иссякающая любовь в людях, необыкновенно возрастающий спрос на ложь, возрастающая неспособность верить правде, наконец, явное одичание, возвращение к инстинктивной жизни древней обезьяны и свиньи, скрывавшееся до сих пор под культурной скурлупой, с таким трудом надстроенной за историю сознательной жизни человечества!»
Ухтомский не только усмотрел в революционной буре «гордыню древней злобы», стремление черни быть «яко бози», но, к величайшему огорчению, извлек из происходящего и нелестное мнение относительно некоторых черт русского характера.
В июле 1918 года в письме к Варваре Александровне он вспоминал, как они слушали когда-то «Град Китеж» Римского-Корсакова и его поразил образ Кутерьмы. «Не могу не сказать, – писал он теперь, – что тип Кутерьмы, губителя своих братьев и родины, – тип пророческий: Руси суждено пасть от такого безумного, свищущего и пляшущего безобразника, озорника и потерявшего в себе святое! С очень тяжелым и темным чувством вышел я тогда из театра, – душа предвещала, что Китежу надо повториться в близком будущем… Кутерьма, бесовская вьюга, кроющая небо (по великолепному стихотворению Пушкина), стадо свиней, сбесившееся и бросающееся в море, – вот образы того, что теперь совершается в России…»
Гневное настроение Ухтомского подогревалось и просочившейся в Рыбинск вестью о расстреле царской семьи. Если это правда, объяснял он Варваре Александровне, то «убиение несчастного Николая II» будет «тяжким, несмываемым пятном на русском народе и на России», и народу «еще придется поплатиться своею кровью сверх того, что заплачено до сих пор!»
Еще в Петрограде Ухтомского мучило «чувство страха пред улицей и пред собранием народа». Это чувство не ослабло и в Рыбинске. Все понятнее было ему состояние старообрядцев-странников, ощущавших реально, что «антихристом наполнена земля, осквернена вода, заражены поселения, загрязнен и сам воздух над ними!» И поэтому напрашивался рецепт: «в себе-то самом, прежде всего, сохранить силу и способность жертвовать благами общежительства», ибо, как предвещали древние отцы, «слабые души за кусок хлеба, за малые обещания материальных благ и покоя продадут свои души и веру».
Их переписка с Варварой Александровной несмотря ни на что продолжалась, хотя часть писем, вероятно, пропала, не сохранилась, другие отосланы в спешке, с неожиданно подвернувшейся оказией… Алексей Алексеевич стал в письмах душевнее, искреннее, участливее, а Варвара Александровна еще нежнее, еще упрямее в своем усердии поддержать друга в лихую годину. Она мучалась его заботами и советовала ему подольше оставаться в Рыбинске – там, думалось ей, и посытнее, и поспокойнее, чем в промозглом, свихнувшемся Петрограде, куда без риска теперь было и не добраться.
Варвара Александровна полностью соглашалась с тем, что главное в нынешних обстоятельствах – не уступать козням антихриста. «Сейчас больше, чем когда, – писала она, – видишь и чувствуешь, что человек раб, но хорошо, если он раб Божий, ужасно, если раб Его противника». Она смиренно принимала выпавшие ей на долю испытания и благодарила Алексея Алексеевича за все вместе с ним перенесенное и узнанное за годы их дружбы. Эти годы «почти непрерывной работы сердца и ума чего-нибудь да стоят!» – радовалась она и обращалась к Алексею Алексеевичу: «Кто же создал всю эту сложность, все мои думы, радости и горя, главным образом, 95 % по крайней мере, Вы, ну, значит, и спасибо Вам… Если бы не крест, не неугасимо светящий свет Распятого на нем, было бы, пожалуй, и иное, было бы зло, а от него спаси Господи всякого. Теперь же у меня есть открытый слух к церковному зову, я чувствую величину, чистоту и важность его для жизни, как единственно дающий силу, мужество и полноту. Я рада, что живу, рада, что через жизнь узнала жизнь».
Сама тональность их диалога стала иной, они будто поменялись ролями, и уже Алексей Алексеевич просил душевной милостыни, тратя «последний запас сил». Когда рушились все прочие опоры вокруг, надежным прибежищем оставалась выпестованная ими любовь, и Варвара Александровна сторицей воздавала своему строгому учителю за его старания, принимая на себя роль утешительницы.
Осенью 1919 года Варвара Александровна покинула Саратов и переехала в Москву, где поселилась на углу Тверской и Брюсова переулка, устроившись в какую-то контору делопроизводителем.
Что же до Алексея Алексеевича, то его 17 ноября 1920 года в Рыбинске арестовали, и он спустя год рассказывал Варваре Александровне в письме, как чуть было не стал жертвой тупой власти случая: «Очень я счастливо, по милости Божией, отделался! В сущности только стечение обстоятельств, маленькая бумажка из Петроградского совета, бывшая в кармане, остановила предприятие ухлопать меня еще в Рыбинске! Помню, как в „дежурке“ рыбинской Ч-Ки, в момент окончательного заарестования, солдат сказал мне: „Дело идет о жизни человека“, а затем вошедший, коренастый, пожилой и какой-то весь серый человек голосом привычного бойца со скотобойни спросил, все ли готово, и затем обратился ко мне, как к предназначенной к убою скотине: „Ну, иди…“ Это он пока повел меня в подвал. Но он же потом, как слышно, кончает за углом, в саду, „приговоренных“ и там же зарывает, или ночью увозят их в больничную мертвецкую. Помню, что они были неприятно поражены, когда меня через несколько часов было решено отправить в Ярославль! Это был самый опасный момент!»
Из Ярославля Ухтомского переправили в Москву, на Лубянку, где продержали два месяца, после чего он вернулся в Петроград. Так на его пути возник зловещий «серый человек», который напоминал ему о себе – и в 1923-м, и в 1934-м, и в 1937-м, и в другие приснопамятные годы.
6
А университет в Петрограде переживал унылые, беспросветные времена.
Еще в августе 1918 года Ухтомский опасался, что росчерком всевластного и невежественного пера может быть уничтожена университетская автономия. В ноябре, правда, писал Варваре Александровне спокойнее: «В Университете у нас большевистские порядки сказываются пока мало, – течение жизни почти прежнее. Однако в будущем ожидаются перемены, переизбрания на места и т. под. Должны быть потрясения для многих. Что касается меня, то уповаю на милость Божию и на Его Святую Волю. Я сжился с Университетом, для меня бы была чужда и трудна всякая другая служба. И многого, пожалуй, не удалось осуществить из того, что хотелось сделать и написать, если б судьба велела мне покинуть Университет…»
В декабре того же года он рассказывал: занятия осеннего семестра закончились, Н. Е. Введенский уехал на родину, в вологодскую деревню, и препоручил кафедру ему. «Буду пробовать на праздниках работать, по старой памяти, в лаборатории, – писал Алексей Алексеевич Варваре Александровне. – Хочется тряхнуть стариной и заняться экспериментальной работой, хотя это и похоже на старческое желание подбодрить себя, что – мол, не совсем еще устарел и вот – мол, инструмент не валится еще из рук… Вообще-то настроение тяжелое. Конечно, было бы тяжело пережить изгнание из Университета».
Положение петербургской профессуры, действительно, ухудшалось и ухудшалось. «Смертность ее, – по наблюдениям Питирима Сорокина, – повысилась в 6 раз по сравнению с довоенным временем… Не было ни хлеба, ни тем более других „необходимых для существования благ“. Одни в итоге умирали, другие были не в силах вынести все это – и кончали с собой… Третьих унес тиф. Кой-кого расстреляли, моральная атмосфера была тяжелее материальной. Немного профессоров найдется, которые не были бы хоть раз арестованы, а еще меньше – у кого несколько раз не производились бы обыски, реквизиции, выселение из квартир и т. д. и т. п. Прибавьте к этому многообразные „трудовые повинности“ в форме пилки дров, таскания тяжелых бревен с барж, колку льда, дежурства у ворот. Для многих ученых, особенно пожилых, все это было медленной смертной казнью…»
Умер в 1922 году в родной деревне, где ухаживал за парализованным братом, и Николай Евгеньевич Введенский.
О тогдашнем житье-бытье Ухтомского вспоминала его ученица Анна Коперина-Казанская. Она девятнадцатилетней девушкой в 1921 году приехала к нему из Рыбинска с надежной рекомендацией и поступила на биофак Университета. По ее словам, Алексей Алексеевич жил на своей «вышке» совершенно затворнически. Дома у него отсутствовал не только телефон, – сама мысль о котором повергала хозяина в ужас, – но не было и входного звонка, дверь открывалась на условный стук… В большей из двух комнат царила неразбериха. На полу кипами лежали книги, убирать их или стирать пыль с них категорически воспрещалось. Зато в соседнем кабинете, куда заглядывать разрешалось лишь при крайней необходимости, соблюдался идеальный порядок, и шкафами была выгорожена молельная – с иконостасом, аналоем, всегда раскрытой книгой на нем.
То, что Алексей Алексеевич был верующим, вызвало у А. Казанской, равнодушной к Богу, понятное недоумение. Это было ни на что не похоже: университетский профессор, естественник, физиолог, вдохновлял себя по утрам пением псалмов Давида! И говорил: «Для того, чтобы человек весь день чувствовал себя в рабочем, приподнятом настроении, он должен день начинать с трудных математических задач или же с молитвы». Сам он выбирал последнее.
Замкнутость, потребность в уединении и вместе с тем тяга к живому общению с людьми, будь то студенты или церковные прихожане, были вроде бы несовместимы. Казанская как-то спросила Алексея Алексеевича об этом. И он ответил: «А ведь я живу так не первый десяток лет и часто очень дорожу своим одиночеством. И разве же я одинок? У меня есть на работе сотрудники, студенты, наконец у меня много друзей, с которыми я переписываюсь. Но ты пойми меня – ведь я монах в миру! А монахом в миру быть ой как трудно!
Это не то, что спасать свою душу за монастырскими стенами. Монах в миру не о себе, а о людях думать должен!»
В летние месяцы 1922 года Ухтомский с группой учеников организовал студенческую практику в Новом Петергофе, в недавней царской резиденции – Александрии. А. Казанская вспоминала, как студенток поместили в бывшем корпусе фрейлин около дворца, в роскошном парке неподалеку от моря; как с утра до позднего вечера они не покидали физиологическую лабораторию, экспериментировали на лягушках и моллюсках; как впервые именно здесь услышали от Алексея Алексеевича о законе доминанты – их практические задания все посвящались этой проблеме; как по воскресеньям устраивали прогулки по великолепным окрестностям, а вечерами в гостиной затевали игры, и Ухтомский отнюдь не избегал в них участвовать: «Для него откровением была и новая поэзия, и песенки Вертинского, и в том, как он все это воспринимал, чувствовалось, как еще он был молод…»
Участницей «александрийского кружка» была и двадцатилетняя Ида Каплан. Письма к ней (1922–1924) в эпистолярном наследии Ухтомского принадлежат к самым проникновенным страницам. В них он раскрывал секрет петергофского содружества, – где и учитель, и студенты бодрили, «поднимали друг друга», умели разглядеть в товарищах «алтари», а не «задворки», – и признавался, что был тогда по-особому счастлив. В «творческой идеализации» он усматривал основу человеческого общения: когда человек, забывая о своих амбициях и капризах, и в соседе замечает лучшее и пытается до этого лучшего дорасти. Чаще ведь человек ради самоутешения видит у соседа грехи, какие знает за собой. А для чистого душой – люди чисты. Потому-то, размышлял Ухтомский, «чистая юность умеет идеализировать» и так прогрессивна духом. Приземленная же старость, «если она не сопряжена с мудростью», теряет щедрость сердца, брюзжит и «уже не приветствует вновь приходящей жизни».
Ухтомский писал Иде Каплан: «Радостное и солнечное в прошлогодней Александрии было для меня в том, что я учувствовал в Вас другого, самобытного, мог назвать другом, – и тогда вместе с Вами, с другом стал ощущать красоту… той Истины и Жизни, которая дает смысл жизни и Вашей, и моей, и наших братьев. Вот это – счастье, настоящее счастье, которое тогда нас радовало: счастье не эгоцентрическое, но общее с ощущаемым близким человеком и людьми, не мое, а общее с любимым и любимыми».
Он старался осторожно продемонстрировать своей юной ученице «скудость и мелкоту» натуралистических представлений о жизни и смерти, доказать необходимость «нового опыта», вносящего в повседневную маяту «небывалую серьезность», говорил, что хочет поделиться с ней всем самым светлым, во что научился веровать. «Но я не знаю, – объяснялся Алексей Алексеевич, – ничего лучше, светлее и радостнее Христа и христианства. И вот мне так хочется погрузить Вас в эту прочную, верную и нескончаемую радость, победительницу болезни, греха и смерти!»
Судьба бесцеремонно вмешалась в зародившуюся между ними духовную близость. «Александрийская радость» было недолгой, доброе содружество распалось, а Алексей Алексеевич в мае 1923 года вторично угодил под арест в связи с закрытием Никольской церкви.
К началу 1923 учебного года Ухтомского освободили, взяв с него подписку «свои религиозные убеждения держать только для себя и про себя». В августе он поведал Иде Каплан в письме, что вот уже две недели, как его выпустили из тюрьмы, ничего определенного о своем будущем он не знает, изъятые документы и переписку ему не возвращают и письма к нему не доходят. «При желании, – писал Алексей Алексеевич, – могут, конечно, состряпать какое угодно дело о „контрреволюции“, благо это такое удобное понятие по своей растяжимости и неопределенности… Так что о себе могу лишь повторить Ваше слово: хорошо, что хоть на свободе!»
Ухтомский был признателен Иде Каплан за то, что она всколыхнула в нем «новые мысли», дала осветиться «новым перспективам». Не держа обиды на судьбу, он писал, смиряясь с неизбежностью: «Дни уходят так быстро; события и обстоятельства сменяются так неудержимо; и я не знаю, придется ли мне опять перекинуться с Вами словом, о чем я мечтал и сидя в тюрьме, и скитаясь по выходе из нее. На стене общей камеры на Гороховой кем-то написано: „И это пройдет“. Да, быстро все проходит; и мы сами утекаем, как вода из-под плотины! Проходит и тяжелое и прекрасное!» Ухтомский воздавал Иде Каплан за ее душевный порыв, за то, что в критический час, когда он, запутываясь в «смуте переживаний», чувствовал «живую потребность пересказать свое нутро тому, в ком видел друга», она самим своим присутствием помогла ему найти «теряющуюся в смуте дней Ариаднину нить» и опять обрести «торный путь под ногами».
Впрочем, были и глубинные причины, разведшие их в разные стороны. Разбираясь в этих причинах, Алексей Алексеевич записывал в дневнике: «Отвергнув от сердца природу, принципиально перестав думать о ней МЫ, человек и сам умер последнею смертью. Предать природу сатане, уступить ее внешнему, как это делали восточные мистики, Платон и манихеи, значит предрешить и свое оскудение… Понятна теперь и моя трагедия 1922–1923 года. Более всего для меня было убийственно возникшее МЫ с И. И. К. Но, беря на себя добиваться закрепления этого МЫ обыкновенным путем, я рисковал оборвать прежнее МЫ с сотаинниками в церкви. Нужно было добиться одного общего МЫ для И. И. К., для всех моих сотаинников во Христе. Ибо иначе я потерял бы и все то, чем мог быть для И. И. К. Все, что я могу дать другу, истекало из моего христианского труда. Красота и правда тут могли быть только в достижении общего МЫ во Христовой красоте…»
Прощаясь с Идой Каплан, Ухтомский писал ей: «Ваше слово „не трогать Вас больше“ я свято исполню… Искал я в Вашем обществе не удовольствия, но счастья, не успокоения, а только Вас. „Ищу не вашего, а вас“, – приснопамятное слово великого человека древности?»
Повторный арест Ухтомского многих студентов испугал и от него отдалил. А. Казанская переехала в Москву. Кое-кто – в их числе Ида Каплан – вовсе оставили физиологию. И все-таки тяготение Ухтомского к молодому университетскому люду не слабело. У него появлялись новые ученики и последователи, и он, отлично зная соблазны и каверзы академической среды, «порядочно искажающей человека», старался застраховать их и от опрометчивых решений, и от несправедливых нападок, и от тупого давления слепых официальных доктрин.
«Серый человек» в России все туже натягивал вожжи и все сильнее наглел. Ученым с мировым именем затыкали рот невежды, самых талантливых и непокорных выдворили за границу на «философском пароходе» в 1922 году – за ненадобностью. Верующих унижали, загоняли в катакомбы, в подполье…
Тем не менее именно 1922 год, когда Ухтомский с кончиной Н. Е. Введенского принял кафедру физиологии под свое начало и после десятилетних проверок обнародовал наконец свой закон доминанты, – стал безусловно звездным часом в его научной биографии.