Текст книги "Воскресшее племя"
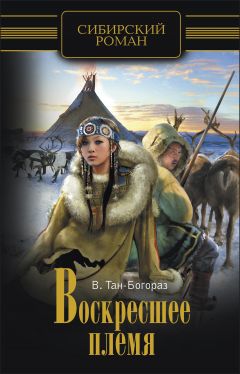
Автор книги: Владимир Тан-Богораз
Жанр: Русская классика, Классика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 11 (всего у книги 19 страниц)
Глава двадцать вторая
На улице давно потемнело. Зажглись на столбах высокие круглые лампы. Вывески над магазинами засветились сверкающими мухами. Огненные буквы выскакивали и опять исчезали. В одном месте кто-то незримый водил огромным пальцем в вышине, выписывая огненное слово:
Сбором утильсырья охватим все районы
Слова зажигались и опять исчезали одно за другим.
Ноги тундренных студентов, привычные к пешей охоте, не знали устали. Но студенты проголодались. Впрочем, у Вылки оказалась в кармане краюха черного хлеба. Они разделили ее по-братски, запили водой из бочки, стоявшей на улице с подвешенной кружкой. Так подкрепившись, снова пошли вперед, ненасытно и неутомимо разглядывая живую книгу города. Они долго стояли перед высоким желтым домом, где наверху медные лошади везли пустую повозку неизвестно откуда и куда. Перед домом стояли на площади десятки машин и ждали людей, которые были в середке. Изнутри доносились музыка, крики и говор. Там было весело.
– Ну-ка, пойдем да посмотрим, – предложил Кендык.
Вылка засмеялся.
– Билет есть? – спросил он.
– Нету.
– А деньги есть?
– Нету.
– Без билета и денег не пустят нас ни за что.
– Может, назад пойдем, – вдруг предложил Кендык.
Он вдруг почувствовал усталость не столько от ходьбы, сколько от множества пестрых впечатлений. У него словно голову распирало. Брюхо его было пусто, а голова полна.
– Только я дороги не помню… Дивное дело, – сказал он задумчиво. – На тундре, в тайге, всякую дорогу запомню. Сквозь вьюгу, сквозь белую пургу пройду без ошибки, как надо. А здесь вот не тайга, люди, людские дома, среди людских домов дорогу потерял. А ты дорогу знаешь?
– Знаю, – беспечно ответил Вылка. – А только далеко идти, да поздно, заперли ворота, и нас не пропустят ни за что. Только нарвемся на ругань. Может быть, как-нибудь здесь приютимся, ночь, видишь, теплая. Здешнее небо не злится на нас.
Но вышло как раз по-иному. Неверное невское небо тотчас же обмануло доверие полярного мальчишки, нахмурилось и словно осело пониже над каменным городом, брызнуло дождиком, сначала помельче, а потом покрупнее. Студенты были без пальто, а Вылка даже и без шапки. Куда деваться? Они были теперь в боковом переулке, перед высоким угрюмым недостроенным домом, с каменным забором и крепкими воротами, наглухо забитыми и заложенными брусьями. Двое мальчишек прошли впереди. Они были примерно такого же возраста и роста, как северные гости. Один был повыше, а другой пониже.
Чужие мальчишки подошли к воротам, оглянулись налево и направо, с минуту постояли, подумали, а потом примерились и полезли на каменную стену, перемахнули через верх, прыгнули; слышен был стук от их падения на мокрую землю по другую сторону стены. Потом опять стало тихо, на улице было безлюдно, только крупные капли дождя шлепались о плоский камень тротуара.
Кендык и Вылка недолго думали.
– Они, видишь, спрятались, укрылись, – сказал Вылка, – а мы чем хуже?..
Студенты полезли через стену по той же намеченной дороге, перелезли через верх и спрыгнули на мокрую дорожку.
На дворе было тихо, не было ни людей, ни собак, никого, только камень и дождь. Но где-то впереди, сквозь разбитое окошко мелькал огонек. Полярные гости, забравшиеся без спроса в чужое жилище, да еще таким необычным путем, пошли на огонек отыскивать защиту от дождя.
Они взошли на крыльцо, сбитое из толстых почернелых досок, прошли по коридору, не имевшему крыши; пол был такой же дощатый, как крыльцо, но некоторые доски отстали, другие подгнили и упали, создав неожиданные трапы, и нужно было идти осторожно, чтоб не провалиться в какую-нибудь неведомую яму.
В конце коридора были широкие двери, за дверями светил огонек. Кендык и Вылка вошли и увидели совершенно неожиданное зрелище. Шесть этажей высоких, но еле намеченных, вставали один над другим. Они разделялись дощатым канатом, который во многих местах был разобран, и во всю вышину проходил кирпичный боров, назначенный для будущих печей. Пол был завален соломой и всяческим сором. У черной стены стояла буржуйка, железная печка с трубою, выведенной в брюхо кирпичного борова. В соломе, налево и направо, были проделаны гнезда или норы. В таких норах могли бы гнездиться хорьки или крысы, но эти норы были раз в десять крупнее и шире крысиных проходов.
В буржуйке топился огонь; чайник, закопченный донельзя, сделанный как будто из сажи, грелся на буржуйке. Сквозь неплотно прикрытые дверцы железной буржуйки выскакивали одна за другою проворные искры. Казалось каким-то необъяснимым чудом, отчего в этой груде прелой соломы и гнилого тряпья не загорается пожар.
На соломе направо и налево от печурки сидели беспризорники. Они были заняты разными делами. В одном углу играли в карты, и карты были такие же страшные, черные, как уголь, с круглыми обитыми краями, похожие скорее на картонные жетоны.
В другой группе ели, и пища была какая-то странная, в жестяных коробках, откуда содержимое выгребалось грязнейшими пальцами. Истерзанные ломти и корки черного хлеба валялись кругом.
Всего беспризорных было человек двадцать. При виде незваных гостей сразу прекратились все разговоры и житейские дела. Двадцать пар подозрительных глаз уставились с разных сторон в непрошеных пришельцев.
Из группы картежников встал долговязый детина в женской кацавейке, в опорках на босу ногу и в белых кальсонах, заменявших штаны. Впрочем, кальсоны были давно уже серые от грязи и сходили легко за штаны. Шапки у него не было, но на странной высокой голове стояла такая же высокая копна светло-русых волос, выцветших от солнца и дождя. Он подошел к пришельцам довольно близко, оглядел их с ног до головы своими холодными зелеными глазами и сиплым голосом спросил:
– А вы зачем?
– От дождика укрыться, – ответил Вылка с готовностью и совершенно спокойно. Он ответил хозяину таким же ничуть не смущенным взглядом, и глаза у него были такого же цвета, зеленые с серым, но только значительно гуще.
– Да вы кто такие? – спросил долговязый хозяин, уже с очевидным удивлением.
– Мы с тундры – ответил Вылка, – и тоже с тайги.
Хозяин, очевидно, не понял.
– А где это, с тундры? – спросил он в недоумении.
– А тундра далеко, далеко, – объяснил словоохотливый Вылка. – Знаешь, Сибирь, так тундра за самой Сибирью. Там холодно.
При слове «холодно» хозяин инстинктивно поежился. В этом странном кирпичном логове было тоже холодно, пожалуй, холоднее, чем на неведомой тундре.
Наступило молчание.
– А вы, может, духи? – спросил неожиданно хозяин, – поднюхиватъ пришли?
– Сам ты злой дух, – отозвался Вылка с негодованием. – Какие мы духи, мы люди.
– Такие, милицейские духи? – отозвался хозяин.
– Полно, Сережка, зачем заливаешь? – отозвался один из картежных партнеров, маленький, горбатый, с длинными-предлинными ушами, как будто обезьяньими. – Разве такие «мильтоны» бывают? Нет, эти совсем иные. Постой-ка, вот я их расспрошу.
Он соскочил с места, бесцеремонно оттолкнул Сережку в сторону, и руки у него были твердые и цепкие, полные силы.
– Кто вы такие, скажите, – японцы, китайцы?.. Ну, «ходя», скажи, – обратился он к Вылке с неожиданной приязнью. – Мы не обидим, не тронем.
– Ничего мы не китайцы, – отозвался Вылка с обидой в голосе. – Мы северные люди: ненцы, бывают, одуны. Я, например, ненца, а этот – одун. Еще бывают лопари, эвенки, эвены, чукчи… – И он не торопясь пересчитал все двадцать пять имен уцелевших осколков древнейшего населения Азии.
– Так вы ведь не здешние? – расспрашивал горбун рассудительным тоном. – Зачем вы изволили пожаловать к нам в Ленинград? Хлеба торговать да денег наживать? Так, что ли?
– Нет, мы приехали учиться, – ответил Вылка. – Мы, стало быть, северные студенты. Учимся в ИНСе, который за лаврой.
Маленький вертлявый мальчишка, странно похожий на Вылку, подскочил к говорившим.
– Знаем лавру, – заговорил он бойко, – и знаем ваш северный ИНС. Не вы ли в запрошлом году облавы нам устраивали, с солдатами пришли, вышибли нас вон, как бездомных собак? Я тоже был там, я знаю, – прибавил он с гордостью.
Ему было лет четырнадцать, но житейская драма беспризорного мальчишки начинается раньше, с десяти, даже с восьми лет.
От такой неожиданной встречи смутился и Вылка.
– Тогда мы вам попались, а теперь вы нам попались. Ты зачем, например, в сапогах, когда я в опорках? Ты вон под верной гимнастеркой, а я в передранной рубахе. А суконце почем покупали? – сказал он и неожиданно и крепко ущипнул Вылку повыше локтя, захватив своими жесткими пальцами гимнастерку и собственную кожу студента.
– Отстань! – крикнул Кендык запальчиво и крепко ударил задиралу по протянутым пальцам. Ударил вертикально раскрытой ладонью, но ладонь у него была жесткая и твердая, как дерево, тверже, чем у задорного сорванца.
– Ты чего дерешься? – запальчиво крикнул мальчишка, отдергивая руку. – В наш дом пришел, да сам и дерешься – вот мы тебе банок наставим.
Беспризорные мальчишки повскакивали со своих мест и бросились к студентам, явно намереваясь вступить с ними в драку. Но Сережка был настроен более миролюбиво.
– Лучше отдайте добром, – предложил он гостям, – сменку сделаем, вашу одежду на нашу, пожалуй, тогда и ночуйте, спасайтесь от дождя.
– Накося выкуси! – ответил Вылка, показывая фигу.
– Товарищ, берегись!
Кендык и Вылка, привычные к ссорам и дракам, быстро встали в боевую позицию, спина к спине, достали ножи и приготовились к защите. У них у обоих были за поясом ножи во внутреннем кармане.
Северный житель без ножа никогда не выходит. Пояс и нож – принадлежность мужчины, работника, бойца. Распоясанного парня, без ножа, засмеют, задразнят, девки станут о нем сочинять насмешливые песни, мужчины на ночлеге не пустят его в свою компанию. Нож для северянина – оружие и инструмент. Все равно, что зубы для волка и когти для кота. Волк перегрызает зубами крепкий коровий маслак, а при случае искусно и без промаха ловит зубами блох.
Северянин превращает лезвие ножа в струг, в скребок, в копейный наконечник, в ковырялку для трубки и даже в чесалку для спины за открытым воротом толстой меховой рубахи. Там в изобилии водятся блохи, и северный житель кончиком ножа, не глядя, глубоко на спине убивает блоху, пожалуй, ловчее, чем волк зубами в своей густошерстой шкуре.
Северный житель снимет внутреннюю рубаху из замши или ситца, взденет ее на доску, чаще всего на табачную, где крошат для трубки крупные листья маньчжурского или черкасского курева. Потом натянет шов, обернет поле череном, торцом и начинает водить по шву: взад и вперед. Только треск раздается негромкий, характерный… Это называется «выхлопать» рубаху – убить насекомых.
Но в случае нужды северянин наносит ножом опасные и смертельные раны. Ножом убивает оленя, при случае закалывает лося и даже медведя, всегда метит и попадает прямо в сердце с точностью хирурга.
Вылка и Кендык выставили влево и вправо свои узкие опасные ножи.
– Ну, подходи! – крикнул Кендык по-русски и прибавил по-одунски ругательство: – Llleduw-bandiei!
Это незнакомое длинное одунское слово подействовало странно на наступавшую шпану. Беспризорники даже отступили на минуту. Кстати, и значение слова было тоже неожиданное: «невидимый», то есть злой дух. Дело все-таки закончилось бы кровопролитием и, возможно, даже убийством, но в эту минуту раздался странный звон и стук. Над буржуйкой на проволоке висело какое-то непонятное сооружение, составленное из железных колец, пустых жестянок, посудных черепков и прочего. Все вместе походило на огромную кисть. От кисти перебрасывалась проволока прямо на высокую стену, а оттуда уходила вниз. Это был звонок, такой же нескладный и странный, как и вся жизнь этой огромной норы. За стеною «на стреме» кто-то стоял и подавал сигнал: «Спасайтесь, кто может, подходят враги».
– Кожаные куртки! – крикнул Сережка, впрочем, не особенно громко. – Ловчись, ребята, хряй!
Беспризорники мигом подхватили свое жалкое имущество, сунули его в мешки с барахлишком и пустились наутек.
Иные убегали в глубину недостроенного дома, где у них были лазейки в другие дворы и на улицу, другие перелезали через заднюю стену, в то время как враги подходили с передней стены.
– Кендык, хряй! – крикнул Вылка, употребляя, в свою очередь, чужое словечко, подхваченное у беспризорников.
Приятели еще раз перелезли через стену, вслед за беспризорниками, упали на землю в каком-то дворе, перебежали налево, где в кирпиче был довольно широкий пролом, и вышли на улицу.
Кожаные куртки действительно явились. Их было немного, пять человек, но все они были с наганами в руках, и, конечно, два десятка беспризорных бегунов не являлись для них сколько-нибудь опасными противниками.
Но в берлоге беспризорников никого не было. Все они удрали, своевременно очистив поле действия.
Проворные руки пришельцев рылись в соломе, искусно выбирали разные вещи, а сор отгребали в сторону. Один из них повел носом.
– Как воняет! – сказал он с брезгливой гримасой. – Ну-ка, посмотрим.
Они заглянули в провал между раздвинутыми досками, спустили фонарик и ахнули.
Под полом лежало месиво из кошачьих туш. Их было много, несколько тысяч, целая гора. Они совершенно разложились и словно бродили от гниения.
Это был подарок, который беспризорники оставляли ежегодно осенью в наследство городскому управлению, очищая Москву и Ленинград и удаляясь заблаговременно в теплые края, в Крым и на Кавказ.
Помимо этой зловонной груды, вещей, интересующих пришельцев, было немного. В сущности, только колода карт, брошенная впопыхах убежавшими игроками.
Начальник отряда посмотрел карты на свет и невольно рассмеялся: эти грязные, черные охлопья были все-таки карты не простые, а крапленые. Наружная рубашка их была такая же грязная, как рубахи убежавших игроков. На ней в разных местах были отметины, царапины, черточки, которые давали возможность при сдаче передергивать, выбирая козырную масть.
Но одной колоды карт было, конечно, недостаточно для целой облавы. Начальник пожал плечами.
– Опять убежали, – оказал он недовольно. – Кто им тут знак подает?
В это время из груды соломы, в дальнем углу, неожиданно выполз мальчик, совсем маленький, с коричневым телом, светившимся сквозь драные лохмотья.
Лицо у него было синее от холода. Даже стриженая голова была тоже синяя. Но он подошел к начальнику с решительным видом.
– Вот я, – сказал он. – Возьмите меня. Здесь холодно жить. Девайте меня куда-нибудь. Давайте мне путевку в жизнь!
Начальник опять усмехнулся. Стриженый мальчишка был, очевидно, не лишен известного образования, правда, по части уличных афиши кино.
– Берете? – переспросил мальчик, следя за выражением лица своего нового знакомца. – Эй, Маруха, девчонка, выходи.
Из этого же угла вылезла девчонка, совсем маленькая, лет десяти. Она была такая костлявая, щуплая, не больше обезьянки, но с таким же независимым видом, она подошла и стала рядом со своим покровителем.
Начальник усмехнулся шире прежнего.
– А еще много вас тут? – спросил он добродушно.
– Нет, только мы двое, – отозвался стриженый мальчишка. – Другие убежали… Глупые мальчишки, – серьезно сказал добровольный пленник. – Я их уговаривал: пойдемте все, гуртом, вот как интересно будет. Дадут нам детдом, машины привезут, мы будем работать, играть и работать, совсем как живое кино. А они не захотели. Такие необразованные, – сказал он с гордостью. Сам он, очевидно, считал себя совершенно образованным. – Хотите, я схожу к ним, – сказал он начальнику. – Я знаю, куда они делись, схожу, предложу: идите к начальнику, он добрый такой, станем «в путевку» играть.
– А они не убьют тебя? – полюбопытствовал начальник.
– Пожалуй, убьют, – согласился синелицый агитатор. – Давеча грозились.
– Ну, пойдемте покуда, – решил начальник. – Там видно будет.
Они открыли боковую калитку огромным ключом, заржавевшим от времени, и выбрались на волю.
Глава двадцать третья
Первое время Кендыку было в институте мучительно трудно, хотя многое он воспринимал очень легко, даже ловил на лету: русским разговорный язык, арифметику, географию. Так же рисовал он, как многие другие северные юноши, легко и по-своему стильно, удивляя этим инстинктивным умением своего учителя. Однако рисовал он исключительно одни лишь живые фигуры, зверей и отчасти людей. Деревья и дома рисовал не особенно охотно, а главное, плохо. Рисовать же школьные предметы, какие обыкновенно выставляют в классах для рисования, он отказывался наотрез. Мало того, он оспаривал даже самое существование этих вещей.
– Не бывает таких, – утверждал он упорно. – Здесь, на земле, не бывает, разве у духов, в тридесятом мире.
А когда ему показывали подходящие реальные предметы, он все же опорочивал рисунки и говорил, что они злые, плохие, дьявольские. Говорил, что рисунки – это души указанных вещей, искаженные учителем-шаманом в угоду его собственным злым духам-помощникам.
Таким образом, Кендык обвинял в шаманстве, в колдовстве, своего учителя рисования. Звери, и птицы, и люди у Кендыка были динамичны, в непрерывном движении. Ни один из них не стоял на месте. Все они бежали, летели, делали прыжки, резкие, неправдоподобные, однако на поверку эти кинетические рисунки оказывались точными, подобными мгновенным снимкам движений и прыжков, как их отмечает кинематографическая съемка.
– А ваши рисунки всегда мертвые, – упрекал он учителя. – Вы даже зверя нарисуете, и то он не ходит, а стоит, будто он больной. И выглядит весь словно каменный. Писалом своим вы убиваете насмерть людей и зверей.
Читал он по-русски бегло. Писал по-своему, срисовывая печатные буквы. Но писать по-людски – на бумаге пером – отказывался наотрез. Точно так же он отказался учиться грамматике. Слова он принимал только в их непосредственной конкретной живой форме. Он не желал и не мог выдернуть слово из фразы и потом подвергать его различным переменам.
– Мертвые слова не бывают, – говорил он упорно, – бывают только живые слова, но вы убиваете слова, делаете их мертвыми.
Его раздражали даже грамматические термины.
– Падежи, – говорил он с некоторым негодованием, – разве в словах бывают падежи? Падежи бывают у оленей, у рогатого скота. Такому учиться не желаю.
С другой стороны, он ощущал какое-то болезненное влечение к музыке, выбирая при этом более утонченные инструменты: скрипку, фортепиано. В зале физкультуры давно стояло фортепиано, несколько расстроенное, но пальцы Кендыка как-то инстинктивно с самого начала стали извлекать из клавишей чистые и полные звуки. Кендык наигрывал по слуху мелодии простые, но весьма своеобразные. Одним пальцем на скрипичных тонах фортепиано он наигрывал одунское любовное пение, как его выпевают юноши и девушки в своих ежегодных весенних состязаниях. Одунский напев высокий, с большим диапазоном, подобный альпийскому йодлю, и, как это бывало когда-то на весенних состязаниях, напев переливался и чеканился в слова, и Кендык напевал негромко, но в резких переходах звуков, сначала по-одунски, а потом даже и по-русски. Русские напевы были переводом с одунского, и Кендык успел подхватить их в Родымске, на устье реки Родымы:
О, да и стали во дубровушку разны мелки пташки,
стали налетать,
Да налетать.
О, да и стали зелены листочки, на деревах они стали
вырастать,
Да вырастать.
О, да и стали во дубровушку всяки разны мелки пташки, стали налетать,
Да налетать.
О, да ковды к нам, розработки, станут лебедушки
своим нежным голосом,
Да голосом,
Станут воскикать,
Да воскикать[48]48
«Не Лебедь кличет», издает характерные трубные звуки.
[Закрыть].
Жители поселка Родымска на Нижней Родыме, только старики и старухи, но также и юноши и девушки, были, в сущности, старого одунского корня. Они говорили по-русски, но весь их быт и разговор были только переводом с одунского на русский. Оттого их русские песни с большой полнотой соответствовали одунским напевам:
В летну пору мы займуемся главным рыбным
промыслом,
Да промыслом.
Да стараемся мы белую рыбочку поболее заловить,
Да заловить.
Да среди лета по каменьям у нас разны цветы
да расцветут,
Да расцветут.
Да зеленая дубровушка цветно платье станет надевать,
Да надевать.
Да тут садятся у нас на садбище серы гуси, у нас
по местам,
Да по местам.
Да уваженье, утешенье ходить, по дубровушке
зеленой.
Да зеленой.
Кендык прекрасно стрелял, бегал и прыгал, легко и охотно привык к играм в мяч на чистом воздухе. Но упражнения физкультуры он не хотел и не умел воспринимать.
Мало того, двигаясь в тесном ряду вместе с другими, он сильно мешал соседям. По команде «руки вперед» он выкидывал с силой свои кулаки, жесткие, как дерево, и непременно толкал стоящих впереди, и притом обязательно двоих, левого в шею – левой рукой, и правого тоже в шею – правой рукой. Когда он выкидывал ноги, выходило еще хуже, ибо он попадал с такою же меткостью и в левого, и в правого гораздо ниже шеи. В конце концов он отказался ходить на физкультурные часы, так как другие товарищи боялись упражняться рядом с ним.
Гораздо хуже было то, что он никак не мог ужиться в этих каменных стенах за высокой и крепкой оградой и рвался на волю, как дикий волчонок. Стены бывшей Духовной академии были толстенные, комнаты ее походили на казематы, и вся она была как тюрьма. Как-то через месяц после его приезда в ИНС, уже в начале осени, Кендык на рассвете вышел со двора и пошел на Неву. В это время ворота бывали заперты, но он с несравненным искусством ухитрялся выбираться из клетки наружу, высоко превосходя в этом отношении диких зверей.
День начинался погожий и ясный, один из последних дней прекрасного бабьего лета. Кендыка тянуло на реку, которая была единственной частью Ленинградского кругозора, говорившей о воле, о широком пространстве и напоминавшей дикому сердцу одунского юнца его родную землю. Он выбрался на реку сравнительно быстро и долго стоял на высоком берегу, разглядывал воду, постепенно разгоравшуюся розовым светом молодого восходившего солнца. Над рекою пролетела стайка ворон, в этом прекрасном утреннем свете они казались совсем иными, не серыми с черными крыльями, а розовыми, алыми, какими-то особенными птицами из нездешнего яркого царства. Вороны протянули вниз по течению. Кендык, не думая, спустился к воде. В разных местах стояли рыбацкие лодки, ялики, челноки. Он столкнул на воду первый попавшийся челнок, который, противно обычаю, не был закреплен на замке. Весло у челнока было такое же двуручное, к которому Кендык привык на родной Шодыме. Плавно загребая воду длинными взмахами неутомимого весла, Кендык поплыл вниз по Неве, вдогонку улетавшим розовым воронам.
Он проплыл быстро и легко под всеми ленинградскими мостами, выплыл по каналу на взморье, потом из канала попал на открытый залив. Он проплывал мимо плавучих пристаней, торговых пароходов и буксиров, но никто не обращал на него внимания. День, кстати, был выходной, праздничный, шестой день отдыха месяца сентября. И другие гребцы тоже выплывали на яликах с обоих берегов красавицы реки на широкий простор.
Так Кендык выплыл на взморье. Тут ему стало жутко. На своем многомесячном пути от Одунска до невской столицы он видел леса, и поля, и реки, и озера, но моря не видел. Прекрасная Нева была похожа на родную Шодыму, не менее прекрасную. Но вот эта простоянная водная гладь расстилалась шире всякого тундренного озера, даже самого большого. Кендык не решился отплыть в открытое море, подальше от берега. Он как бы опасался, что морская ширина разверзнется и поглотит его вместе с веслом и челноком. Он повернул направо и поплыл вдоль берега.
Его приключения в течение ближайших двух дней остались неизвестными. Пищи с собою у него не было, но он чем-то питался, и когда его вернули наконец обратно в институт, он не проявлял особого голода. Вернули его с пограничной черты с особым конвоиром, и дело могло бы обернуться довольно плачевно, тем более что и уехал он на чужом челноке. На реках Шодыме и Родыме и всех других водных путях того же бассейна брать без всякого спроса чужой челнок или лодку было самым обычным делом. Бери, поезжай, куда тебе надо, а потом возвращайся обратно и ставь лодку или челнок на прежнее место. Лодки не убудет.
Нравы в Ленинграде были более строгие. Однако для студента, приехавшего с северной тундры, было сделано послабление. Законы культурной страны с ее условностями и опасностями были к нему неприменимы.
Ему задавали вопросы, настойчивые и даже перекрестные. Вопросы порой превращались в допрос: куда ездил? зачем ездил?
Кендык ответил:
– Не знаю!
– Зачем украл челнок?
– Я не украл, – ответил Кендык с открытым негодованием. – Я бы приехал обратно и поставил на место челнок.
Таким образом, он как будто не собирался бежать и думал, побродив на просторе, вернуться обратно в эти постылые каменные стены.
После того Кендыку стало жить еще тяжелее, чем прежде. Товарищи сторонились его и смотрели на него с удивлением и даже с недоверием.
Кендык трудно привыкал к новому. Среди своих товарищей он был все же не ручной, а вольный и дикий.
Кендык старался найти опору и, отвращаясь от товарищей-ровесников, так он инстинктивно стал тянуться к ровесницам.
Девушек в ИНСе училось четыре десятка. Северные племена вообще малорослы, но девушки были совсем маленькие, хрупкие, похожие на кукол или на малых детей. Несмотря на раннюю молодость, их лица и фигуры носили явные следы особенно тяжелой жизни в суровых условиях Севера. Они привыкли к тому, что женщина считается ниже мужчины, что она занимается самой трудной работой и часто заменяет вьючный скот.
В северном промысловом хозяйстве женщина убирает дом, а мужчина ходит на охоту. Женщина питается хрящами и объедками мяса, отдавая мужчине лучшую мякоть и жир. Женщина не смеет присесть в присутствии мужчины, и так бывает, что женщина спит под открытым небом, пока мужчина спит под пологом. Наконец, женщину отдают за калым и просто продают, точно так же, как скот. Местами женщины дороги, в других местах они очень дешевы; часто молодая девушка значительно дешевле хорошей ездовой собаки.
Женщины прорвались к учебе сквозь фронт своих отцов, братьев и мужей, одна за одной, из разных углов огромного пространства северной Сибири. Все они были истощены тяжелой борьбой с насилием мужчины и прежде всего стремились сбросить это тяжелое иго. Больше всего было, разумеется, девушек и даже молоденьких девочек. Были, однако, и взрослые жены, ушедшие от мужа и искавшие нового счастья, независимого от милостей и грубостей мужчины. Была одна эвенка, шестнадцати лет, которую отец продал богатому и старому соседу за пять оленей, ружье и два пуда муки, но она не захотела идти к старику, ночью бежала из отцовского чума, добралась до тузрика, подняла шум, плач и крик и в конце концов подвела будущего мужа, а также и собственного отца под очень чувствительный штраф. Звали ее Маша Палтеева.
Она была как будто помешана на этой постоянной навязчивой идее – борьбе с насилием мужчин. Кендык заметил, что она что-то записывает в тетрадку. Напишет страницу, зачеркнет и пишет снова. Как-то после уроков Кендык долго сидел на парте, недалеко от Маши, в опустелом классе. Палтеева, как всегда, прилежно писала, черкала, вырывала страницы и писала опять.
– Что пишешь ты? – спросил невольно Кендык.
– Нашу горькую долю пишу, – ответила Маша, – про тяжелый обычай эвенков.
Она посмотрела ему пристально в глаза и внезапно протянула ему тетрадь.
– На, читай. Ваши одунские обычаи тоже, я слыхала, тяжелые.
И Кендык начал читать громко и слегка нараспев:
«Мария Палтеева, эвенка, пишет о тяжелых и грубых обычаях родного эвенкийского народа, а особенно мужчин.
У нас неправильно выдают девушек замуж. Двадцатилетнюю девушку выдают за шестилетнего парнишку или наоборот; старик берет себе молодую шестнадцати летнюю, а некоторые имеют двух жен, потому что есть у них довольно китайского шелка и оленей и муки для покупки лишней женщины. Если девушка не хочет выходить замуж за старика или за сопливого мальчишку, отец все равно выдаст насильно, свяжет, как рабыню, и изобьет, как скотину.
То и другое было со мной: и то и другое. Было мне тринадцать лет, и выдали меня замуж за трехлетнего парнишку. Я нянчила его и носила на плечах, как малого братишку. И был тут мой свекор, моего мужа отец, и я от него родила. Я не хотела его, он был красноглазый, корявый, но он грозился: бить буду, есть не дам, в лес выгоню. Оттого я забеременела, и, как настала весна и пришло время родить, вывели меня из чума и поставили мне деревянный балаганчик, выстланный сеном и осокой.
Так делается у нас для каждой родильницы. А люди смеялись, что ребенок у меня совсем не от мужа. И было мне холодно, и я родила там ребенка, и я задушила его своими руками, и землю разрыла своими ногтями, как рысь, и зарыла ребенка, чтоб соседи не смеялись и старик не величался надо мной. И ушла из балагана, не к мужу, а вернулась домой, к отцу, к матери, и сказала: „Не стану там жить“. Соседи смеялись, и мать меня била, и отец стегал плетеным арканом, кольцом костяным по лицу, по лицу…
И так я прожила год и стала забывать про двух своих скверных мужей: мальчишку и свекра. И тут отец выдумал второе злое дело: продать меня другому старику за хороший калым: без всякого мальчишки, а прямо на брачную постель. Тут я не стерпела, сначала сказала: „Зарежусь“, а потом закричала: „Зарежу вас обоих: и мужа, и отца“. А потом убежала из палатки, подрылась сквозь землю, как лисица, и добралась до рика. И нашла себе путь на свободу.
Так было со мною: и то и другое. Били меня и продали меня. Мальчику продали, также старику продали, а я не стерпела и ушла.
Так пишет Маша Палтеева, эвенка с Ангары. Надо всех наших скверных мужчин, особливо богатых стариков и всяких сопливых мальчишек, драть плетеным арканом по лицу, по лицу, косточкой, чтобы они не напивались пьяными на девичьих продажах и не забивали девушек и женщин палками в гроб прежде всякого времени.
Так пишет Марья Палтеева; бедному эвенку тяжело, батраку у оленьего стада мало еды, много работы. А женщине-эвенке вдвое тяжелее: много работы, а вместо еды палка, вместо друга и мужа злые покупатели».
– Правда, горько, – отозвался Кендык, потрясенный этим тяжелым и страстным рассказом. – Ты чью это жизнь описала? Свою, что ли?
– Нет, не свою, а нашу, – ответила девушка. – Девушки-эвенки – мученье и плач. Вот это описала. Я тоже мучилась, но сотой доли того не узнала. Все приходится другим узнавать. Да и зовут меня так и не так. Я, правда, Маша, но только не Палтеева, а Маша Нергунеева. Палтеева – так себе, прозвище. И я не с Ангары, а с Неши, повыше Ангары.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































