Текст книги "Воскресшее племя"
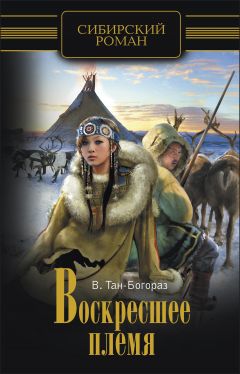
Автор книги: Владимир Тан-Богораз
Жанр: Русская классика, Классика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 17 (всего у книги 19 страниц)
Глава тридцать пятая
То, что происходит в этой части повести, еще только осуществляется. Эта часть повести есть рассказ о спасении и воскресении одунского народа, уже погибавшего, но возрожденного могучим воздействием советской культуры для новой жизни, для нового расцвета.
План этого спасения был выработан покойным Карлом Яновичем Луксом, бывшим тогда в полном расцвете силы и ума, но ныне уже покойным, погибшим странной трагической смертью на устье реки Колымы, на фронте борьбы за возрождение Севера, среди многих людей, характерных и крупных, Карл Янович Луке был, бесспорно, одной из самых характерных и самых крупных фигур. Огромный, он возвышался на голову средь уличной толпы, и его железная воля и духовная энергия соответствовали его физической мощи.
Был он родом латыш. Начал карьеру свою батраком у барона на мызе, стал забастовщиком, потом бунтовщиком. В 1905 году, в эпоху первой революции, ушел в лес, стал «лесным братом», устраивал набеги на усадьбы наиболее жестоких помещиков, раздувал своим смелым дыханием погасавшее пламя гражданской войны, был ранен, один раз в ногу, другой раз в лицо, потом попал в плен и отправлен на каторгу.
Каторга была для Лукса, как для многих других, орудием духовной закалки и местом учебы. В тюремных протестах, пассивных и буйных, этот мягкий с виду человек был всегда первым, а в свободные часы он усердно пополнял свое скудное образование.
У него были прекрасные способности и редкая память. Когда в Ленинград из Америки приехал Ф. Р. Бартон, первый из группы американских этнографов, которая нашла себе приют в Музее антропологии и этнографии Академии наук, он поселился, за скудостью собственных средств, на квартире при ИНСе, в одной комнате вместе с Луксом.
Они говорили на смеси языков английского и русского. Бартон обучал Лукса по-английски, а Луке Бартона – по-русски.
Через месяц Луке уже говорил по-английски, а Бартону потребовалось два года, чтобы заговорить по-русски.
Вторая революция освободила Лукса от каторги в Нерчинске. Луке стал политическим деятелем, а после, во время войны с белыми, стал партизаном, организовывал отряды, был командармом, а потом – командующим фронтом. Взял приступом Читу, где в то время под властью белых были его жена и дети. Для того чтобы они не пострадали, он выступал под другим именем.
Одно время он был наркомом в правительстве буферной республики. Потом, по воссоединении Дальнего Востока с Советским союзом, Луке перенес свою работу на содействие малым народностям Востока и Севера в их возрождении, духовном и материальном.
Он стал председателем Комитета Севера в городе Хабаровске, руководившего этой работой среди двадцати племен, начиная от гольдов на Амуре и кончая остатком ительменов, природных камчадалов на уединенной Камчатке.
Возрождение народности одунов захватило его воображение, ибо народность одунов на крайнем северо-востоке была некогда самая сильная и многочисленная. Но ей пришлось выдержать первый натиск казаков-завоевателей, мучительный и злобный, и в этой борьбе она потерпела поражение, раскололась на части и стала хиреть и таять. Из последних осколков ее Луке мечтал воскресить и устроить новый одунский национальный округ в объеме прежней территории, от Индигирки до Чауна, от устьев Колымы до истоков Омолона. Область одунов находится на стыке ЯАСР и ДВК, и организация нового округа, который должен быть выкроен из обеих областей, сопровождалась значительными трудностями. Но Луке имел достаточно силы, чтобы высвободить одунов из их векового угнетения и вести их свободно и счастливо к новой трудовой социалистической жизни.
Луке погиб, но у него осталась смена, кадры молодежи, которые растут на местах и в столицах – в Ленинграде в ИНСе и в Москве при Комитете Севера – и которые продолжат ту же творческую работу тем же боевым и ускоренным темпом, когда старшее поколение уйдет в историю.
Возрождение малых народностей Севера охватило их всех – от лопарей на западе до чукч на востоке.
Оно охватило также и одунов в глубине захолустной тайги.
Кендык возвращается домой. Это другой, новый Кендык, который вырос из старого Кендыка, как большое плодовое дерево вырастает из малого зерна. Он уехал с реки Шодымы голодным и диким ребенком. Он возвращается назад, вооруженный знанием, с новыми машинами, запасом орудий и товаров, со всем аппаратом людским и техническим, необходимым для того, чтобы освободить остаток погибающих одунов из их исторической тюрьмы.
Он возвращается к одунам на аэроплане, вместо того чтобы спускаться по рекам многие тысячи верст, переезжать на лошадях и собаках безбрежную тундру и тайгу Люди летят в воздушной карете, кладь подвигается внизу на крепких грузовых автомашинах. От Ногаева на Тихом океане до верховьев Шодымы можно долететь за два дня, даже, в сущности, в несколько часов. На эту самую дорогу, но только не прямо, а в объезд, некогда юный Кендык истратил полгода.
Машины проходят по страшной колесной дороге. Она лепится по глинистому склону холмов и по каменным ребрам суровых предгорий Омолонского хребта. Сам хребет, недоступный даже козам, лежит далеко впереди, и дорога туда не доходит, но и на склоне предгорий дорога местами завалена крупнейшими камнями. Время от времени их убирают, а потом они снова появляются неизвестно откуда, как будто падают с небес. Тяжелые машины скачут через эти нелепые камни, как козлы или дикие олени. А между холмами, по болотам, положена бревенчатая гать. Бревна хоть новые, но совершенно расшатались. Под колесами машин они хлопают, как клавиши фортепиано. Невзирая ни на что, машины катятся вперед. Все же среди этой пустыни колесная дорога для машин – это что-то новое, неслыханное. Из месяца в месяц откатываются машины с моря и идут на дикий Омолон.
Два года назад эта страна не видала еще колеса и даже не знала, что значит катиться, двигаться вперед на чем-то катящемся – круглом. У жителей разных народностей нет собственных слов для телеги и трактора, для автомашины или для локомотива. Они знают только сани с полозьями. И все эти штуки с колесами называют в одном и том же плане, «сани на катках», «сани с круглыми полозьями», «самоходы-крутилки». Машины на колесах и колесная дорога нарушили одиночество таинственных одунов. Им больше не придется укрываться от внешнего мира в своем уединенном и тяжелом умирании. Погибающие одуны воскресают и выступают на новую дорогу, на эту самую колесную двухколейную тропу, которая пришла от самого Охотского моря.
Впрочем, тяжелые машины остались еще далеко позади. Кендык на белом самолете умчался вперед. Он подлетает уже к родному селению. Он видит знакомую протоку, песчаный остров, прибрежные тони, некогда истоптанные его босыми ногами. Убогие дома, шалаши, вешала для неводов, жерди для сушки рыбы. Вот Коркодым, родное селение. Железная птица снижается и плавно садится на лугу, подпрыгивает вверх, садится опять. Поселок такой же, как прежде. Та же рыба, и так же ее мало. Голодные собаки, ветхие, изношенные лодки, покрытые заплатами.
Рыбы мало, но всюду тот же знакомый запах гниющих обрезков, потрохов, рыбьих голов.
Все по-прежнему. Ленивое время как будто совсем остановилось над рекой Шодымой.
Люди в поселке наконец зашевелились. Крылатая лодка вывела их из тупого равнодушия. Сбегаются старые и молодые, старики и старухи, женщины и дети.
Нет, время не остановилось. И люди изменились. Нет главнейших стариков. Чобтагир отдал себя духам, старый Шоромох тоже ушел по далекой дороге, откуда никто не приходит назад. Только старая Курынь как будто зажилась навеки. Она в поселке старше всех и летами, и значением. Женщины ходят теперь на охоту наравне с мужчинами.
Только четыре коротких года прошло со времени бегства Кендыка от страшного убийства, но за эти немногие годы выросли мальчишки и девчонки. Мальчишки стали юношами, девчонки – невестами. Сестричка Моталия тоже стала взрослой девушкой. Бывший товарищ Кендыка Чепкан глядит на нее таким ласковым взглядом, как будто на теплую лепешку, и вот он запел о ней свою новую песню, известную на всей Шодыме:
Когда я смотрел на нее,
Стан точно молодая лиственница.
Когда я смотрел на нее,
Лицо словно пожелтевшая хвоя,
Глаза у нее как две черных бусины,
Кудри у ней как черные беличьи хвосты.
Сшитые вместе, как будто бахрома.
Когда подняла свои очи,
Словно блеснули серебряные шейные гривны,
Когда подняла свое лицо,
Словно серебряное грудное солнце.
Милая, взгляды ее на мне,
Как месяц играет на воде.
И Моталия запела про своего молодого Чепканчика:
Чепканчик стоит,
Как молодая рябина,
На плечах его волосы,
Как пышные листья.
Весенний день слишком длинен.
Вечера дождаться не могу.
Когда стемнело, шум услышала.
Взволнованным сердцем взглянула
Сквозь отверстие шатра,
Чепканчик стоит.
И опять запел Чепканчик:
Она была как снежинка,
И глазки у ней как изюминки,
Брови у нее как сажа,
Волосы у нее как черный мох,
Сама она светит, как плошка…
И девушка тотчас ответила:
Матушка, Шодыма-река,
Кости его как ствол горного ясеня.
Матушка, Ясашная-река,
Кости его как молодая листвень.
Волосы его красные, как хвоя лиственницы.
Сквозь дырку в палатке я на него смотрела.
Вот он пришел, мое чрево взволновалось,
Утроба взволновалась, и я упала на подстил.
Но кроме любовных утех и состязания в пении, молодое поколение видело много новых вещей. Положим, чаще всего не своими глазами, а глазами рассказчиков, бывалых и знающих людей.
Рыбаки и звероловы на реке Шодыме не очень разбираются между самолично виденным и только слышанным из других уст. Таким образом, коркодымские мальчишки узнали и про сани с круглыми полозьями, про крылатое судно из полого железа и про многое другое. Жизнь наконец захватила их также и повела вперед вслед за другими. А вот про товарища Кендыка одунские мальчишки не слышали нового. Было старое предание о небесном Кендыке, который приходит и приносит подарки и знания. Он будто приходит для каждого поколения снова и снова. Был тридцать лет назад на реке Омолоне, а пять лет назад на реке Шодыме, а еще через пять лет он придет издалека, из русской земли, и принесет погибающим одунам много пищи, много табаку и ружей. Пять лет назад он улетел на крылатом челноке под небеса, верхом на орле улетел, как Иванко, юкагирский сын, нырнул в занебесное отверстие верхом на крылатом орле. Пробрался сквозь отверстие в подножии Полярной звезды и, как время придет, опустится обратно прямо к ним.
И когда он улетал, было у него с собою лицо на бумаге, под лицом были словесные знаки. Он прочитал эти знаки, и вошла в него мудрость.
Надо учиться читать эти знаки, чтобы идти за Кендыком.
Мальчишки, товарищи Кендыка, стали учиться читать по разным обрывкам газетной бумаги, листкам протоколов, случайно попавшим из Якутска, учились не хуже Кендыка.
И напрасно девушки выдвигали вперед свои собственные письма и накалывали кончиком ножа на белой бересте обычные признания в любви. Две длинных черты рядом, обе с головами, с ногами, с руками; которая пониже – девчонка, она пишет письмо, которая повыше – мальчишка, ему пишет письмо. От девичьей головы поднимается зигзаг и восходит юноше на голову. Это значит: «Всегда о тебе думаю». От девичьего сердца восходит поперечная дуга к сердцу юноши. Конец дуги развихрен, это значит: «Всегда стремлюсь к тебе, пылаю, как огонь».
Такие любовные письма испокон веков чертили на бересте одунские девы и юноши. Но теперь не хотели понимать юноши этих писем, они думали о Кендыке, о его покровителе – Лице, о письменных знаках на бумаге.
«Вот бы прочесть эти странные знаки и узнать, чего они просят, что они сулят».
И вдруг спускается с небес летучая лодка из железа. Из лодки выходит ямщик в дохе из мохнатых собак, с глазами из твердого льда, большими, как чашки. Люди его приняли бы за Торгандру, медвежьего сына, который некогда спас людей от голода тем, что сдружился с медведями и подводил их к селениям, под копья и стрелы людей.
Глава тридцать шестая
Два дня пробыл Кендык в Коркодыме на воле, еще ничего не начинал. Он обошел дом за домом, где жили его дядья и двоюродные братья, раздал привезенные подарки, но сам поселиться у родных не захотел. Он поставил на берегу реки зимнюю двойную палатку с двускатною крышей и маленькой железной печуркой и жил спокойнее и шире, чем в жалкой хижине у дяди или брата. Мальчишки ходили к нему и ночью и днем. Ходили и роптали:
– Зачем покинул нас?
Кендык возражал:
– Но ведь я не покинул, а вернулся.
И Чепкан, как прежде упрямый и страстный, настаивал:
– Нет, ты нас покинул здесь. Сам улетел, насытил свое тело и жадную душу новой, неслыханной пищей. Мы здесь голодные. Нет у нас пищи ни телу, ни духу.
На четвертый день, поутру, племя собралось на суглан в полном составе – даже маленькие дети. Чепкан, суровый и строгий, сходил за Кендыком:
– Ну, пойдем, говори.
Старый Спиридон, единственный старик, еще не ушедший в далекую дорогу и заменявший одунам умерших шамана и начальника, стал спрашивать Кендыка:
– Ну, теперь говори. Мы станем слушать. Что делать, укажи. Пойдем за тобой, как олени из стада. Все равно погибать: не стало нам жизни. Прадеды разгневались на нас: ни рыбы в реке, ни лося в лесу, ни белки на деревьях. Не живем, не умираем.
И молодой Чепкан сказал:
– Бежали бы куда, не знаем. Пойдешь в лес: ходишь, ходишь, ничего не находишь, а броситься некуда. Укажи нам, где выход.
И Кендык сказал:
– Я укажу вам выход. Не уходить надо, а надо уехать. Не розно брести, а всем племенем, заранее обдумать и устроить. Командой уйти, как ходят солдаты. Роем улетать, как молодые пчелы.
– Куда? – спросил тяжело и отрывисто охотник Василко, худощавый крепкий человек, как будто сплетенный из жестких оленьих сухожилий. Он был лучший охотник всего Ушканьего рода. Его промыслом в труднейшие минуты племя спасалось от голода. – Не вижу дороги.
– Есть дорога, – упрямо повторил Кендык. – Четыре года тому назад я тоже не видел дороги. От смерти убежал. От ножа. От собственного деда спасался. И тоже дороги не видал. А вот же спустился по рекам и вышел на дорогу и вернулся назад, всю землю объехал кругом, вернулся назад. Поедем по этой дороге. Там, где проехал один, проедет и племя.
Племя молчало. Кендык предлагал решительные действия, но страшно было отважиться.
– Что там делать будем? – тихо спросил Василко.
– То же, что здесь, – сказал Кендык. – То же, что делают все. Рыбу промышлять, на лося, оленя охотиться. Белку, лисицу, пушнину добывать. Оленей разведем. Большаки нам помогут.
Лицо Василко неожиданно расплылось от удовольствия.
– Люблю оленей, – сказал он почти трогательно. Странно было видеть мечтательную, детскую улыбку на его обветренном лице.
Рыболовы и пешие охотники сибирских рек и озер – этот последний остаток древнейшего населения Евразии – постоянно мечтают о стаде домашних оленей, как о лучшем пути, чтобы подняться на новую жизнь. Но из этой мечты никогда ничего не выходило. Купит порою охотник оленей, пристроит их на пастбище, но уже через год кто-нибудь съест непременно этот первый зародыш скотоводства: либо волки разгонят, либо сородичи в трудную минуту переколют и съедят, либо сам скотовладелец заколет одного, а потом и другого, и так незаметно в полгода или год съест свое будущее стадо.
– Питомник заведем. – Кендык соблазнял доверчивых одунов, как детей. – Заказник устроим.
– А что это «питомник»? – спросил с любопытством Василко.
– И что это «заказник»? – прибавил с таким же любопытством проворный Чепкан.
Оба слова: «питомник» и «заказник» – были русские, и одуны не понимали, о чем идет речь.
– «Заказник», – объяснял Кендык, – это большая тайга, где стало мало зверя, и там объявляют «заказ» – запрет на охоту лет на десять, на двадцать, чтобы новый зверь подрос.
Василко с недоумением покачал головой.
– Так долго ждать… Двадцать лет.
– Можно подождать и больше, – твердо отозвался Кендык.
– А если размножится зверь, и сердце потянет на промысел? – настаивал Василко. – Нет, трудно удержаться…
И Чепкан в свою очередь напомнил:
– А что это – «питомник»?
– Знаете лисьих кормленок? – отозвался Кендык.
– Знаем, – отозвались и слушатели.
– У меня две кормленки есть, – припомнил Василко, – в плетенке живут.
Туземные охотники, оседлые и даже кочевые, усердно выкапывают лисьи и песцовые гнезда. Песцовые – на тундре, а лисьи – в тайге. Копают затем, чтоб дорыться до детенышей. На тундре песцовых детенышей раньше попросту били. Сдирали с них шкурки и продавали за сущую безделицу, причиняя таким варварским промыслом неисчислимый вред размножению песцов. В продаже было пять сортов шкурок песцового молодняка: 1) мелкая «слепушка», еще не открывшая глаз, 2) более крупный «норник», с очень непрочной шерстью палевого цвета, 3) «крестоватик», с более темным крестом на хребтине, 4) «синяк», с мехом побелевшим, но все еще жидким и слегка синеватым, 5) «недошлый» песец, 6) настоящая пышная шкурка «дошлого» песца. Норников и крестоватиков шло в продажу гораздо больше, чем дошлых песцов, и получали за них самоеды и чукчи по сорока копеек за штуку Советская власть строго запретила этот варварский промысел, но и до сих пор многие на тундре копают украдкой норников.
Песцовых и лисьих щенков бережно вынимают из норы живыми, складывают в мешок и увозят домой. Там их сажают в особо приготовленный сруб, с плотным полом, чтоб щенки не прорыли лазейки, сажают также в особую плетушку, вроде огромной корзины, сплетенной из ивы, или просто пристраивают в юрте к столбу на железной цепочке.
Кормят щенков понемножку, ибо от очень сытного корма, при отсутствии движения, зверек начинает паршиветь. К началу зимы, когда щенок совсем подрастет и выкунеет, его убивают и шкурку пускают в продажу.
Шкурка кормленого зверя дешевле и хуже, чем шкурка убитого на воле, что объясняется прежде всего плохим содержанием, грязью и слабой заботой о густошерстных пленниках.
Полудикие одуны относились несколько презрительно к этим жалким копиям свободных и пышных лисиц. Песцы у них не водились, только лесные лисицы.
Василко с сомнением покачал головой.
– От кормленых немного доходу. Паршивая шкурка, да и грешно к тому же. Зверь должен жить на воле. У него, скажем, красная шкурка, а у меня человеческая хитрость, ружье, капкан. Кто кого одолеет, тут не плошай. А то вот нароем детей-несмышленышей, убить не убьем, да и жизни настоящей не даем. Трудно ли ребенка обмануть?
– А ежели бы наших ребятишек кто-нибудь вырыл да увез и стал бы кормить на продажу, вы что бы сказали?
Старый Спиридон только плечами пожал.
– А разве не делают так те самые, другие, нездешние?
Спиридон имел в виду злых духов-охотников, для которых любимою дичью служит человек. Точнее – не человек, а его маленькая душонка.
Злые духи охотно похищают и детские душонки, уносят их домой и там выкармливают, стараясь, чтоб малая дичинка стала покрупнее и пожирнее.
Кендык, разумеется, знал все эти охотничьи поверья, но на этот раз он ощутил их как незыблемую стену. Выступая со своими культурными затеями, привезенными с запада, он наткнулся на жесткое сплетение старых суеверий, которые связывали жизнь как будто железными путами и не давали ей подвинуться вперед.
– Диво какое, – сказал он Василку, не скрывая недовольства. – Говоришь: «грех», а сам выкармливаешь. Надвое выходит.
– В охотничьем деле надвое выходит во многом, – спокойно заметил Василко. – Вот, скажем, поставлю я капкан на лисьей тропе. Мне и на высмотр не надо ходить. Я издали чую и знаю: попала или нет. Теперь, разумеется, лето, но было прошедшей весной. Поставлю капкан на тропе, а сам не капкан сторожу, сторожу мои сны. Приснилось, например, что пришла в мою юрту рыжая женщина, красивая такая, длинные волосья, в волосьях огонь. Ластится ко мне. Тут разбираю, что это не рыжая женщина, а рыжая лисица. Наутро иду на тропу: попала, лежит… А если пришла, да не попала, то приснится иначе. Женщина заглянет и сунется назад. Вскочишь – не догонишь.
– У вас рыжих женщин нет, – усмехнулся Кендык.
– Я говорю: лисица, – настаивал Василко. – Лисица по-нашему – женщина, земляная жена. Знаешь, небось.
– Ну, будет, – перебил его Чепкан с оттенком нетерпения. – Про наших кормленок мы знаем. Но как оно выходит по-иному, ты расскажи.
Чепкан был из младшего поколения охотников, которые, странное дело, даже в этой далекой глуши отошли от седой старины и многие поверья своих дедов и отцов попросту забыли.
– В западной стране, – начал рассказывать Кендык, – Сибирью зовется, – есть тоже великая тайга. И в тайге живет зверь. Огромные реки, в реках живет рыба. Ух, как далеко отсюда и туда!
Охотники стали разводить такое хозяйство. Отгородят участок тайги, понастроят кормушек для пищи и клеток для жилья и спустят живой молодняк, песцовый или лисий. Вот они живут и растут, как будто на воле.
Чепкан внимательно слушал.
– Чем кормят их? – спросил он напоследок.
– Тем да сем, – объяснил Кендык, – рыбки немножко, щурята, головки да косточки. Так и живут.
– Много работы, – решил Василко, – и мало доходу. Строят да кормят, к осени всех перебьют. Опять лови и опять корми.
– Нет, не так, – возразил упорно Кендык. – Убивают не всех, а ловить, так не ловят никого.
Дорогого зверя, конечно, убивают, это само собой, а малых лисенят не копают и не трогают.
– А где же кормленку берут? – настаивал Чепкан.
– Да там же и берут. Она рождается в питомнике, и брать ее нечего. Плодится сама, как будто оленье стадо.
– Овва! – воскликнул Спиридон, внезапно заинтересованный. Даже глаза у него заблестели. – Старые люди говорили: есть такая земля, далекая, нездешняя. Там люди живут по-иному, и стада у них волчьи, есть стада медвежьи, лисьи, даже мышиные есть. Ездят на лисах, как будто на собаках. Лисиц убивают, мясо поедают, а в шкурку одеваются. Ты, верно, Кендык, до этой страны доходил.
– Ну, пусть по-твоему, – согласился Кендык.
– А это хороший порядок, – продолжал Спиридон, – кормленка хорошая, она хозяина знает и любит. Ты ее рыбкою кормишь, она тебе ручки лижет, лисичка, рыжая сестричка.
Молодые ребятишки, которые толкались поблизости, слушали речи Спиридона и Кендыка и потом убегали в сторону и опять прибегали назад, – даже заплясали на месте от радости.
– Мы будем строить питомник, – объявили они, – кормленку питать, детенышков нежить.
Ребятишки везде одинаковы. У диких одунов мальчишки и девчонки имели особых кормленышей-любимцев, которых порой держали за пазухой, кормили из собственного рта, разделяя последний кусок пополам.
Вместе с тем настоящую кормленку чаще всего убивали мучительной смертью, вешали за шею на веревке и тянули ее вниз за задние лапы, чтобы она вытянулась в длину еще живая и теплая.
– Постой-ка, – внезапно припомнил Василко, – ты вот сейчас обещал: рыбу промышлять, на лося, оленя охотиться. Манил нас охотничьей вольной добычей, а теперь говоришь про пушные стада да кормленышей. Кормленку продашь, закупишь муки, а все есть нечего. А вот есть ли там вольное мясо?
– Там большая страна, – объяснил Кендык. – И не очень далеко. Вот по Шодыме проехать к низовью, за тысячу верст. Там вся земля пустая, зверь есть, охотников нету.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































