Текст книги "Воскресшее племя"
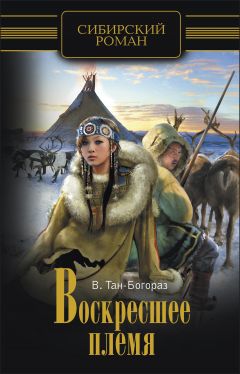
Автор книги: Владимир Тан-Богораз
Жанр: Русская классика, Классика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 19 страниц)
И перед его умственным взором промелькнуло, как будто живое, лицо его деда в другом варианте, новом, но также знакомом, враждебном и страшном.
Глава двенадцатая
Наутро, после ночи, когда убежал Кендык, на Коркодымском стойбище было великое смятение. Не было на стойбище Кендыка, не стало Чобтагира, но все слышали вопли старика и выкрики Кендыка, плеск весел, которые гребли взапуски. Мальчишки узнали подробности побега от сестренки Кендыка Моталки. Да и вообще в таком маленьком обществе все давно знали и чувствовали, что надвигается взрыв. Все знали более или менее о том, что было, но никто не знал, что будет после. Старики пытались расспрашивать Шоромоха, но он угрюмо молчал.
– Подождите, – отозвался он наконец. – Вернется старик, и устроим суглан. Пусть скажет.
Этими словами он слагал ответственность за все происшедшее на своего двоюродного брата. Племя покорилось и стало ждать в молчании. Чобтагир вернулся поздно ночью. Он должен был проехать обратно те же шесть речных плесов, но уже против течения, что, разумеется, гораздо труднее и медленнее. Вместо того чтобы грести, он толкался на шестиках, но ему пришлось вести постоянную борьбу с течением. Он выглядел очень усталым. Его лицо и шея были в поту, что редко бывает на севере даже летом. Руки его примахались и словно хотели выскочить из суставов.
Проглотив несколько горстей порсы, жареной рыбьей муки, и выпив ковшик того же брусничного горячего навара, который заменял одунам чай, старик угрюмо осмотрелся. Племя сидело кругом и ждало начала совещания. Суглан был в полном сборе, даже матери с детьми, с грудными младенцами, Лошия и Кия, тоже пришли. Младенцы лежали на траве; один из них мирно сучил ножками, другой спал крепким сном.
Племя было в сборе, но сидело оно не по-обычному. В нем обозначились новые группировки: началось расслоение, как будто один звук имени Ленина вызвал новые силы, ведущие к разрыву эту полумертво-застывшую родовую дрему. Дети сидели налево все вместе, среди них выделялись Моталка и Чапкан, такой же молоденький мальчик, моложе Кендыка, но очень задорный, крикун, говорун, которого всегда унимали на сборищах унылого племени. Близ них сидели женщины, старухи и молодицы, – все, даже девушки, были здесь. Это была группа наиболее угнетенная, которая к тому же больше всего страдала при общем голоде и за себя, и за детей своих, и за своих домочадцев. Гнев старой Курыни зажег все женские сердца, и по-своему они ненавидели Чобтагира не меньше, чем юный Кендык. Подальше сидели мужчины, старые и молодые. Но два представителя власти – Чобтагир и Шоромох – сидели поодаль. Другие мужчины отодвинулись от них, как будто от подсудимых.
Шоромох пытался бодриться и продолжал выполнять свои функции.
– Говори, – обратился он суровым голосом к неудачливому духовопрошателю.
Чобтагир развел руками.
– Моя вина, не догнал, – сказал он упавшим голосом.
– А что теперь будет? – выразил общее жуткое недоумение Спиридон, тоже родственник Чобтагира, охотник уже пожилой, но еще очень крепкий.
Его перебил задорный, нетерпеливый вопрос мальчишки Чапкана:
– А зачем гнал? – спросил он, обращаясь к Чобтагиру в упор.
Это было неслыханное нарушение родового этикета. Мальчишки вообще не имели права голоса на собраниях и могли присутствовать только в качестве молчаливой толпы.
Но Чобтагир ответил Чапкану, как равному:
– Жизнь хотел переменить, к русским убежал.
– Проклятая жизнь, – властно и жестоко сказала старая Курынь.
Со времени последней голодовки она находилась в состоянии открытого бунта против мужа и его брата.
– Проклятая старая жизнь, – продолжала Курынь все так же неумолимо, – и старость наша такая же проклятая.
– Да что с ним толковать, – сказала с презрением Кия. – Он ровно тетерев – все одно долбит. А вот скажи лучше ты, Шоромох, что с нами будет теперь?
– А я знаю?.. Русские, должно быть, придут…
Но старого шамана словно прорвало:
– Русские придут, с ружьями, с длинными ножами, с саблями, отнимут последних белок, лисиц, без всякой платы, объедят до последнего куска. Девушек, женщин опоганят. Так было, так будет. Русские придут, потом придет смерть.
Племя заволновалось. Приход русских всегда был нестерпимым бедствием, хуже голода, хуже мора. Старая Курын внезапно переменила фронт.
– Мы уйдем в леса, – сказала она. – Мы, женщины с девчонками, с младенцами. Одни, без мужчин, без мальчишек. – На слове «мальчишек» Курынь запнулась.
– О мальчишках обсудим потом, а мужчин нам не надо, слабосильную команду. Не охотники, а только едоки, по мясу резчики. А пуще не надо стариков, вот этого, вот этого.
Она решительно указала пальцем на двух представителей власти, социальной и духовной. Но мальчишка Чапкан еще раз удивил собрание:
– Мы не пойдем в лес, не надо убегать, мы знаем… нам Кендык говорил, Моталке и мне, мальчишкам и девчонкам. За хлебом ушел Кендык, за новою едою, за новыми товарами. Русские – не те русские, злые начальники, грабители, черти, – эти русские большие, большаки, большие дела, большие товары, большая и новая жизнь.
Племя слушало, затаив дыхание, эту странную речь. Даже Кендык никогда не решился бы высказать так ясно свои новые желания, а быть может, и не сумел бы высказать. Но этот мальчишка выразил их так коротко и четко. Чапкан подождал и крикнул: «Ленин» – лозунг знакомый, уже звучавший однажды в этом захолустном углу.
И несколько детских голосов, Моталка и другая девчонка Аннайка и еще трое однолеток повторили нестройно, несмело этот новый лозунг, раньше незнакомый, а теперь уже более привычный. Вместе с Кендыком это было уже больше пятидесяти процентов голосов молодежи за новые порядки, за новую большую жизнь.
Всеми забытый, оставленный, просидел шаман Чобтагир на берегу до поздней ночи.
Шодыма неуклонно убежала мимо, и в ропоте ее струй старику непрерывно слышался упрек и напоминание: «Ушел, упустил, не поймал, упустил, не поймал, ушел, не поймал!»
Он понимал отчетливее всех соплеменников, что старая жизнь бесповоротно кончилась. Он не сумел вернуть Кендыка, но Кендык вернется. Придут русские, такие или иные, старые разбойники или новые нечестивцы, противники богов, все равно, – старая ветхая постройка одунской жизни, последний, истлевший, обветшалый обломок старины рушится без всякого остатка. Уходить надо.
Семь дней и семь ночей не ложился спать, не отдыхал Чобтагир. Его утомленная голова невольно клонилась на грудь, он засыпал сидя. Но одиночество его было нарушено. Обычные спутники Чобтагира – духи-помощники, подвластная ему дружина, и духи-убийцы – враждебная, сравнительно малознакомая сила, несмотря на вечные сражения в течение полувека, – все они опять были тут.
Покорные звери и птицы с вопросительным взглядом, искавшим поручений хозяина, зубастые духи болезней и смертей, готовые к предательскому нападению, приходили, возвращались, кружились в каком-то бесконечном хороводе и все повторяли всё тот же возглас: «Уходить надо».
Многие из духов явно готовились в путь, снимали шатры и увязывали снаряжение в тюки, готовили и запрягали сани.
Женщины духов со стоном прощались с насиженными местами: уходить надо.
Старая жизнь, очевидно, кончалась, не только естественно для слабых людей, но также сверхъестественно для духов.
Однако, собираясь к уходу, духи не хотели оставлять позади также и одунов и в особенности главного виновника всей этой передряги – Чобтагира.
«Вы тоже уходите! – приказывали они. – Ты уходи!»
Они взлетели над поселком, разбились на рабочие партии и, подлетая к каждому шатру, каждой хижине, принимались согласно и дружно трясти и раскачивать четыре основные жерди, сведенные вместе над центром ее, очагом.
– Эй, ух! – выкрикивали они в такт.
– Эй, ух! – выкрикивал невольно и Чобтагир. – Ух, вот как… Я вам тоже помогу.
Он взлетел над землей и подлетел к группе, раскачивавшей столбы его собственного дома.
Внизу спали враждебная отныне Курынь, ее сестра Айяка, племянница Лелога; только Моталки не было тут, она была где-то с чужими ребятишками.
Чобтагир мог видеть, как нападавшие вместе со столбами его дома вытаскивали души из спящих женщин, и, по мере качания жердей, души вырывались у женщин из груди или изо рта и сначала удлинялись и тянулись, а потом отскакивали в обратном качании, съеживались и исчезали, возвращаясь обратно на место.
Но духи не хотели отстать. Разрушая жилища, они хотели захватить души обитавших людей в качестве верной охотничьей добычи для дорожного запаса.
– Го, го, гок, гок, – запел главный из духов старый трудовой ритмический припев, звучавший как русские ритмы: подернем, подернем.
Четыре центральных столба вышли из гнезд и выхлестнули души из спавших людей. Тела их остались на земле, как опустевшие мешки. Чобтагир ждал, что все упадет и обрушится с грохотом, но столбы не упали. Они стали двигаться в воздухе, качаться, мелькать то там, то сям, и из них складывалась новая форма – четырехугольная, с кровлей, с трубой – знакомого вида, несказанно противного Чобтагиру.
Духи с жалобным стоном отлетели в сторону. Из сдвинутой хижины чудесно сложилась четырехугольная изба с печью, с кровлей – русская изба.
Духи отказались бороться. Они оставили шатры и хижины, выпустили схваченные души и улетели на запад, как стая огромных черных птиц или ночных теней. Но, пролетая мимо Чобтагира, они окидывали его последним взглядом ненависти.
– Проклятый, жертва недобитая.
О ком говорили они? Так вчера кричал он сам вслед Кендыку во время его быстролетного бегства. Но теперь это гневное имя перешло на него самого – на смятого, неудачного зачинщика ссоры, Чобтагира.
И Чобтагир встрепенулся. Ему пришло в голову, что не все еще потеряно.
Можно одну жертву заменить другой. Послать человеческую душу вслед улетающим духам, может быть, они смилуются и вернутся. Закусив душою человека, они окрепнут, насытятся, вернутся и поспорят с духами русских, с духами Кендыка.
Чобтагир быстро побежал к своему дому. Дом по-прежнему стоял на месте, женщины внутри его спали.
Чобтагир сдернул тонкий ремешок, висевший у двери, и пошел к лесу, сплошною стеной облегавшему поселок.
Он завязал ремень вокруг тонкой и гибкой осины, проворно влез на нее и привязал ремень к верхушке, потом на ремне спустился на землю, тяжестью собственного тела сгибая осиновый ствол и сводя его в дугу. Очутившись на земле, он еще проворней захлестнул ременную петлю на соседнюю крепкую листвень и с большой, нестарческой силой стал тянуть ремень, все дальше сгибая осину, словно приготовляя ее для заячьей петли.
Таким способом одуны ловили зайца на всем скаку. Заяц попадал головой в раздвинутый в воздухе круг ремня, сдергивая его с места. Освобожденное дерево взлетало вертикально вверх, и добыча, пойманная, можно сказать, на лету, со свистом взвивалась над землею.
Но эта петля, судя по ее величине, предназначалась не для зайца, а для волка или молодого оленя.
Чобтагир раскинул, как надо, петлю, устроил спуск, закрепил и курок, и насторожку, и гибкая ременная ловушка повисла в пространстве, предлагая всему пробегавшему воздушную смерть.
Но никто не пробегал, ни заяц, ни волк, и вместо мохнатой добычи старый шаман сунул в петлю свою собственную голову «Ешьте, духи!» – воскликнул он, быстрым движением отдернув петлю от лиственницы.
Движение это было так быстро, что неоконченный крик оборвался в горле самоповешенного, и вышло: «еш-ш-ш..» Вершина всхлестнулась дыбом вверх и взметнула над землею тело шамана…
Глава тринадцатая
Река Шодыма стала совсем полноводная, но текла она медленно. Выморочные села одунов остались далеко позади. Кендык греб неустанно с раннего утра до позднего вечера. Он чувствовал вполне определенно, что вышел из границ старинной одунской жизни, но в новую область, русскую или якутскую, еще не вступил, и он поспешал, чтоб увидеть хоть первые знаки этой жизни, незнакомой, невиданной и более богатой.
Знаки показались на следующий день, но в них не было ничего необычного. Это были затесы на деревьях, сделанные русским топором, железным и даже стальным. Однако топоры из железа, хотя и похуже качеством, были уже давно у самих одунов.
Вечером Кендык подъехал к заимке. Это была, в сущности, одинокая рыбачья поварня – промысловая избушка, загруженная сетями, самострельными луками, свитками лосиных ремней и прочим скарбом. Это была, несомненно, русская заимка. Людей в поварне не было, но были корбасья[30]30
Корбасья – шесты.
[Закрыть], унизанные сплошными рядами вяленых чиров и максунов[31]31
Чир и максун – породы местной рыбы. Максун – ходовая порода, приходящая из моря, а чир – отчасти ходовая, приходящая из западных озер, а отчасти жиловая, оседлая в реке.
[Закрыть].
Кендык ночевал в поварне, закусил русской сушеной юколой. Она была жирнее и нежнее юколы одунской, так как рыба шла из моря в реки и тощала на каждой сотне километров, а лишняя тысяча километров, пройденная вверх по Шодыме, превращала даже жирнейшую низовскую бело-розовую нельму в сухую и жесткую доску.
Рано поутру Кендык отплыл от поварни искать встречи с русскими. Они были, конечно, тут недалеко…
Сорок лет назад по такой же дороге проехал Кендык Старший, спасая свое тело от зубов людоедки Курыни. Он, несомненно, ночевал в такой же безлюдной поварне, ужинал такой же рыбой и с таким же замиранием сердца выехал отсюда навстречу своей неизбежной судьбе.
Его судьба была печальна. Кендык Младший знал о ней довольно из рассказов того же Чобтагира, из женских обрядовых песен, которые все еще вспоминали старую людоедку Курынь.
Тогда русские встретили Кендыка сначала приветливо, накормили и одели его, а потом отвезли его в Родымск, к главному начальнику всей Родымской области. Начальник стал спрашивать Кендыка:
– Человечье мясо ел?
– Меня самого чуть не съели, – ответил словоохотливо мальчик.
– Но ты сам ел ли? – допытывал исправник.
– Ага, ел, конечно, не то бы зарезали меня, – доверчиво признался Кендык. – Ты был бы, тоже ел бы, – сказал он исправнику.
Но по местному закону, туземному и русскому, то был грех великий, непрощаемый. Людоеды были как демоны, как черти, исправник относился к ним так же, как и бедные одуны.
– Я не могу судить тебя. Я пошлю тебя к высшему начальнику в полуденную сторону.
– А что сделает со мной тот высший начальник? – спросил Кендык упавшим голосом. Он искал спасения и попал из огня в полымя. – Голову срубит?..
Исправник был из бывших офицеров, человек исполнительный, хотя и суетливый. В ту же ночь из Одунска выступили две казачьих экспедиции: одна направлялась на восток, через горные хребты и быстроводные разбоистые реки, разыскивать виновных одунов-людоедов. Другая увозила на юг, к далекому Якутску, самую последнюю несъеденную жертву. Она в должное время добралась до Якутска.
Кендык по дороге дичился и со страхом посматривал на длинные сабли-селедки своих казачьих спутников. В дремучем одунском лесу он сделал попытку бежать и без труда ушел от сонных казаков, унес ружье и даже одну саблю в ножнах.
Но на первом же ночлеге ему стали мерещиться две женщины, поедавшие детей.
По одунским понятиям людоедством занимаются лишь злые духи, и поэтому две зловещие одунки после того, как поели человеческого мяса, стали злыми духами. Было совершенно естественно, чтобы ныне они приступили к последней несведенной жертве.
Кендык просидел страшную ночь нагишом среди четырех пылающих костров, ибо пламя защищает от незримых нападений, но потом на рассвете пустился обратно к своим сторожам. Он считал их теперь защитниками от злых людоедок. Но казаки рассердились и избили его и связали по рукам и по ногам. Однако везти связанного человека по тундре невозможно. Через несколько часов казаки развязали Кендыка, но присматривали за ним более тщательно. Впрочем, теперь в этом не было особенной надобности. На другую встречу с мертвецами-людоедками Кендык рискнуть не желал.
В Якутске, по небывалой затейливости преступления, Кендыка судить не стали, а послали его в Иркутск. Быть может, хотели угодить иркутскому генерал-губернатору, пресловутому Фалалееву, которому непочтительные гимназисты по его непомерной глупости, ретивости и склонности к похабщине дали неприличное, но бойкое латинское прозвище. Прозвище это, кстати, было созвучно его фамилии.
Фалалеев любил разных монстров и раритеты. Он оценил и этот людоедский случай, Кендыка заточил в тюрьму, а из далекого Якутска выписал пресловутые вещественные доказательства, привезенные казаками. Кости были похоронены в земле, в берестяном туесе. За ними пришлось снаряжать новую экспедицию. Судили Кендыка еще через два года. Он к тому времени представлял только тень человека, серо-прозрачную, тусклую и тонкую, как пленка.
Судили его с сословными представителями.
Городской голова Фадеев спросил через переводчика у подсудимого-людоеда:
– Можете ли вы среди этого дерьма указать кости, лично объеденные вами?
Кости к тому времени совершенно сгнили.
Кендык ответил по-русски, ибо к тому времени он сносно научился болтать на языке своих сторожей и союзников.
Ответил жестко и смело:
– Дерьмо о дерьме спрашивает.
Фадеев рассердился.
Кендыка по дерзкому ответу признали опасным и нераскаянным и приговорили его к шести годам каторги, без зачета предварительных трех лет заключения.
Дальше след Кендыка теряется.
Каторга съедала и более крепких людей, чем этот несчастный, замученный мальчишка из одунского леса.
Одуны передавали отрывки из этой примечательной истории, но о конце самого Кендыка говорили угрюмо и кратко: «съели одуна».
Они были по-своему правы. Две людоедки съели родовичей, соплеменников одуна Кендыка, но два генерала съели самого одуна и даже не поперхнулись, и тотчас же забыли о Кендыке.
Глава четырнадцатая
Кендык Младший вспоминал эту жуткую историю, проезжая два последних поворота родной Шодымы, перед ее впадением в Родыму.
Убегая от голода, от собственного деда, от его шаманского ножа, спасая свою жизнь, наподобие старшего Кендыка, он не имел ни досуга, ни желания подумать о том, что с ним будет, когда он переступит одунскую околицу, но теперь время это наступало, он приближался к порогу, подходил к воротам.
Но он не имел особых опасений, за ним не было вины. У родных его одунов не было людоедства, а от злого убийства Кендык своим поспешным бегством спасся сам и спас своих родных. Он был не такой, как прежний Кендык. Да и русские, конечно, были не те, а иные: большие русские, больших дел русские.
С каждым новым ударом весла вырастало вместо страха нетерпение. Дойти бы скорей, увидать, ухватить. Вырваться из этого загона, хотя и с неоглядной оградой, на настоящую волю, на широкий простор…
Еще поворот, и совсем неожиданно Кендык наехал на промыслы. Два карбаса плыли по воде, ведя перед собой двойной спаренный невод. Невод шел поперечной стеной, саженей на полтораста, так медленно и важно сплывая сверху вниз по реке. И слева, и справа две лодки подбирали ближайшие ставы, вынимали из них трепетавшую рыбу и сбрасывали ее на дно. Это был сплавной лов омуля, похожий на прекрасную игру. Так не промышляют на скудных и узких верховских реках, где впору обернуть лишь одну лодку и один короткий невод.
Минута удивления. Промысел не прекратился, ибо невод нельзя было бросить на произвол судьбы. К тому же омуль шел трудно и все время ячеился, застревал серебристыми головками в верхних ячеях вязаных столбов невода. В конце тони невод предстояло выбрать обратно в лодку и вернуться вверх, к началу тони. Но до этого было еще далеко.
Однако на берегу началось движение, выскочила юркая фигурка, потом две, потом еще две. Спустили челноки, шаткие, вертлявые и бойкие, как у самого Кендыка. Еще два. Шесть человек поехали вверх перехватить беглого. Приезд его не был совершенно неожидан. Весть о том, что «какие-то едут сверху», возникла на поселке Чайдуван еще вчера поутру, неведомо как и откуда.
Видел ли Кендыка кто-нибудь из русских ребятишек, проехавших вверх по реке поохотиться за линялыми гусями, или впрямь полоумный Алеха Выпивоха увидел Кендыка во сне, как о том рассказали соседки, но никто не сомневался, что едет чужой. Он уже был на виду, на учете еще до приезда.
«Едет беглый» – и даже не беглый, а беглые. Не едет, а едут. Едут многие».
Легенда о беглых жила на Родыме с самого нашествия казаков, ибо с казаками вместе просачивались вольные люди, гулящие, бестяглые, бесписьменные. С петровского времени к ним прибавились настоящие беглые, убежавшие рекруты и солдаты, тюремные сидельцы и каторжные, подневольные колодники. Целые слободки и заимки на самом крайнем Севере пошли от Безыменных, от Непомнящих, от Беспрозванных, которые, обжившись на месте, попадали наконец под вопрос заседателя: «Откуда пришел и как звать тебя?» И они отвечали по-старому, по-бывалому: «Андрюшка Непомнящий» или «Иван Бе спрозванный».
Так же и в самые недавние годы последние волны гражданской войны доплескивались сюда в виде осколков беглых банд, белых и зеленых, и попросту разбойничьих.
Эти последние беглые, белые, внушали населению ненависть и страх, более определенный, чем старые отдельные бедняки-беглецы. Эти шли группами, грабили, убивали; оттого и об одиноком одунском беглеце уже сказали в поселке на низу: «не едет, а едут». Это первый разведчик.
Лет двести назад русские были по преимуществу мужчины, а женщины – туземного, местного корня, но теперь человеческое тесто стало однородным. В бытовом отношении преобладал туземный уклад жизни, полученный по наследству от бабушек и матерей.
От русских поречане получили язык, обилие песен и сказок, а главное – надменное сознание своего превосходства над жалкими «полевыми людишками», «тунгусишками», «якутишками».
В прежние годы занятия у них были разные: с одной стороны, охота с различною снастью, с лисьими и заячьими пастями[32]32
Пасть – падающая ловушка.
[Закрыть], рыболовство ивовыми вершами, часто голод, панический страх перед начальством, а с другой стороны – мельчайшая торговля и перепродажа через десятки рук русских товаров, пришедших с далекого юга: чая с табаком и пороха со свинцом, холщовой нити и конопляной пеньки для сетей и неводов.
К одунам и эвенам эти далекие продукты новейшей цивилизации доходили мельчайшими частицами. Кирпич чая разрезался по восьмушкам, папуша табаку разбиралась по листочкам, свинец шел по жеребейкам, а порох – по зарядам. И за каждую частицу требовалась белка, горностай, лисья головка, а то и целая лисица.
Суровое время царской войны и войны гражданской, а затем разрухи закупорило узкую трубочку северной торговли на целое десятилетие, и пред тяжелой бестоварной сравнялись туземные жители Севера – русские и инородцы, бывшие завоеватели и потомки завоеванных племен. Теперь появились наконец товары и новые власти, но власти эти были иные, чем прежде.
В жестокой борьбе – в борьбе между скупщиком и охотником, – которая шла непрерывно на севере, как и на юге, власть впервые стала на сторону охотника. Но скупщик, даже мелкий, называл себя русским. Все лучшее было русское, не только привозное, но даже местное. Была русская собачья упряжка с красным сукном на шлеях, русская нарта, разрисованная яркими красками, как старые московские сани, с колокольчиком у верхней дуги, рыболовная сеть «русанка» с большими ячеями на двенадцать перстов ширины, пригодная для ловли царицы северных рыб – полуторапудовой нельмы.
Однако пронырливые окраинные старожилы живо учуяли разницу и даже забежали вперед. Новое начальство хотело помогать инородцам, которых сначала называли «туземцами», а потом – «националами». В окружных городках и поселках бывшие казаки и мещане и обрусевшие остатки полуистребленных туземных родов теперь стали называться не по отцам, а по матерям или по старым ревизским сказкам, как они писались еще в XVIII веке: чуванцы, юкагиры. Они воскресили имена племен, вымерших за два столетия назад или вовсе не существовавших, и собирали, например, омокские и анаульские съезды, хотя анаулы лишь мелькнули в казачьих отписках сибирским воеводам, а омоки существовали только в полицейских отчетах.
Однако внутри этих полурусских и полуобрусевших групп действовали собственные классовые противоречия, и бедные охотники и рыбаки, говорившие по-русски, ненавидели собственных скупщиков, торговцев и рыбопромышленников не меньше, чем бедные одуны и эвены. Вперемешку с обрусевшими группами обитали другие, еще более пестрые, потерявшие народность и язык в пользу ближайших туземных соседей более сильного культурного состава. Были, например, самоедские группы, принявшие зырянские обычаи, так называемые лраны. Были долганы, племя неизвестного происхождения, принявшие якутский язык, жестоко угнетаемые якутскими скупщиками с юга. Были обуряченные орочоны тунгусского корня и объякученные мурчены, конные тунгусы – эвенкийцы. На устье Енисея жили, напротив, затундренные крестьяне настоящего русского корня, которые утратили русский язык, говорили на долганско-якутском наречии и переняли долганский уклад жизни.
В этом пестром северном затундренном и лесотундренном углу, между Нижним Енисеем и Хатангой, жители, устав разбираться в национальных переплетах и противоречиях, постепенно ввели особую номенклатуру на основе промыслов и взаимных экономических отношений. Все рыболовы любого происхождения назывались долганами, оленеводы, в том числе долганы и якуты, – самоедами, охотники – тунгусами. Все скотоводы назывались якутами, а торговцы и чиновники, приезжавшие с юга, по крови и по языку преимущественно якуты, назывались русскими.
Рыбацкие жители русских поселков Чайдувана, Томилина и Шестистенной отнеслись с недоверием к странному одунскому юноше и его несвязный рассказ о столкновении с собственным дедом, да еще с шаманом, приняли враждебно.
– Стариков надо слушать, – сердито сказал Ребров, тоже глубокий старик, хозяин того дома, куда завезли Кендыка. – Вишь, чего выдумал, мразь, неверная морда. Ну, да как начальство посмотрит.
Первая встреча Кендыка с новым начальством произошла в Родымске. Ответственным секретарем работал приезжий из Москвы, Андрей Алексеевич Лукошкин, по прозвищу Темп. Такое прозвище дали ему местные чиновники из старого состава, потому что он всегда заговаривал о темпах работы. Сами они работали совсем по-старинному, и темп их работы в течение десятилетий равнялся нулю, а пожалуй, представлял собой минус.
При царском режиме чиновники северных областей присылались из южной Сибири или прямо из Москвы и Петербурга. Они отличались неслыханной дрянью. Это были в большинстве злые неудачники, запойные пьяницы или просто полуссыльные? наказанные таким назначением за казнокрадство и другие худые дела. Были еще авантюристы, привлекаемые льготами по пенсиям и тысячными подъемными и проездными. Попадались между ними прямые преступники, даже с обычной чиновничьей точки зрения. Можно назвать колымского исправника Виноградова, который в 1838 году отравил присланного из Якутска ревизора Ринка и похоронил его с молниеносной быстротой.
О другом чрезвычайном ревизоре Келихове, приехавшем в тот же Колымск уже в самом конце XIX века, ходила зловещая легенда, что это был беглый каторжанин, бывший почтовый чиновник, убивший настоящего Келихова и захвативший его документы.
Иные из этих чиновников, проворовавшись на новых местах, утонув в подлогах и хищениях, попадали под суд, но отвечали отказом на судебные вызовы с юга, и в конце концов их судили заочно, осуждали, лишали прав, и они становились настоящими ссыльнопоселенцами, даже каторжанами. Вывезти их силой на юг не было возможности. И они продолжали служить, после некоторого перерыва, на каких-нибудь новых должностях, в сущности, с теми же правами и полномочиями.
В первые годы царской войны состав этой злой администрации еще ухудшился. Самые отважные из них связались с белыми отрядами и бандами, которые попали на Север в начале двадцатых годов, грабили и убивали, расстреливали и топили местных партизан, молодежь и всякого, кто подвернется под руку. Эти потом убежали с последними белыми бандами через весь континент на восток, в Аляску и в Японию. Другие, более осторожные и хитрые, с укреплением советской власти перекрасились и остались на месте, оставаясь такими же злыми хищниками и вредителями. Потом наконец появились первые советские люди.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































