Текст книги "Воскресшее племя"
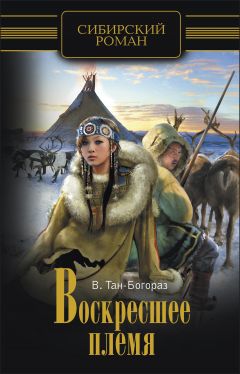
Автор книги: Владимир Тан-Богораз
Жанр: Русская классика, Классика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 16 (всего у книги 19 страниц)
Глава тридцать третья
На окраине невской столицы, на улице широкой и довольно пустынной, заваленной снегом, протоптанным только посредине пучками накатанных колей, начинается ристалище невиданное, неслыханное. Можно подумать, что Нева превратилась в Шодыму, а огромный беспокойный Ленинград – в далекий многоснежный неведомый Родымск.
Впрочем, в настоящую минуту улица совсем не пустынна. По обоим тротуарам построились рядами любопытные зрители. Из-за поворота доносятся звонки и грохот трамвая. Это подъезжает эшелон за эшелоном все новая публика. Открывается начало звездного собачьего пробега, устроенного Осоавиахимом. Участники выстроились в ряд. Все нарты разномастные, собаки разношерстные. Немецкие ищейки и овчарки, привязанные парами, на длинных лямках, обиженно оглядываются на хозяев-ямщиков. Ни деды, ни прадеды этих гладкошерстных грудастых собак никогда не царапались вперед по снежной дороге с грузом позади. Подумайте, с грузом, привязанным на нарте с дубовыми полозьями!..
«Ведь мы вам не лошади», – обиженно думает овчарка Стрела и косится слегка на хозяина. И все же натягивает послушно и угрюмо широкую лямку из мягко выделанной кожи.
«Пусть будет по-вашему, – пожимает она мысленно плечами. – Хау, хау, хау, лошади так лошади. Может, вы прикажете нам на воздух взлететь, как будто мы вороны или галки, или аэропланы? Пусть будет по-вашему. Хау, хау».
Хозяин-ямщик, высокий, худощавый и сильный, снизу одетый по-спортивному, а сверху – по-военному, решительно взмахивает бичом. Настоящие упряжные собаки азиатского севера не знают ни кнута, ни бича. Они повинуются крику, словам, человеческому голосу. Но этот дрессировщик – скептик по натуре. Он не верит собачьей добродетели, благонадежности психических воздействий и больше надеется на свой крепкий кулак и на гибкую кусающую ленту, свитую вшестеро из крепкого ремня.
Рядом с немецкими собаками – енисейские серые лайки. Они совсем другие, косматые, разлапистые, а упряжка у них небывалая, какая во сне не приснится. Тело обвязано поясом, поясным хомутом, от хомута идут две постромки, слева и справа, и больше ничего. Собака тянется вперед, цепляется передними лапами за скользкие неровности дороги, а нарту везет лишь задней половиною тела, задними ногами, крупом и поджатым животом.
«Кух, кух!» На амурских собаках вылетает вперед Лыков, любитель-турист в оленьем балахоне, в высоких торбасах-щеткарях, на руках – рукавицы из камуса, на затылке – малахай из лисьих лап, подбитых тоненьким выпоротком.
Для людей любознательных могу пояснить: торбаса – это сапоги, шитые чаще всего из оленьего камуса – лапы. Щеткарями зовутся они, если подошвы у них сшиты из жестких оленьих щеток. Вырезаемые у оленя на выделку подошвы щетки – это подушечки, находящиеся между четырьмя широко растопыренными копытцами каждой ноги его. Из шести щеток выходит одна подошва. Выпороток – шкура молоденького оленьего теленочка.
«Кух, кух, кух!..»
Кендык каркает по-вороньему и плавно выезжает направо, объезжая одного за другим всех своих растрепанных соперников. В сущности, только он один умеет по-настоящему ездить на собаках. Собаки у него камчатские. Их привезли за тридевять земель сперва на пароходе морском, потом на пароходе речном, потом по железной дороге, в телячьем вагоне. Кормили их кониной, собачьим сухарем, не давали ни рыбы, ни оленины, – пищи, к которой они привыкли смолоду. Собаки терпели, терпели и вот наконец у села Тулуна, которое, впрочем, сделалось ныне городом Тулунском, собаки неожиданно и коварно вырвались на волю. Некстати подвернулись поля и луга и стада большого животноводческого колхоза, расположенного подальше Тулуна. Собаки напали на телят и козлят, на кур и гусей, даже на больших круторогих, лобастых быков.
Собаки рассуждали: козлята с телятами – это законная дичь, предназначенная для лова каждому охотнику: двуногому или четвероногому.
Правда, и птица, и телята пахли как-то по-иному, не по-вольному, с привкусом палого листа и легкого степного ветерка. В этом здешнем запахе был оттенок дыма, человеческого дома. Гуси и телята пахли человеком, изгородью, пастухом. Но собаки не хотели разбираться в этих тонкостях. Дичь улетала, убегала, с криком, с гагаканьем, с блеяньем; они догоняли, хватали, кровавили, грызли. В результате оказалось штук пятьдесят попорченной птицы, штук десять копытного молодняка с вырванным боком, с перегрызенным горлом.
Круторогие быки оказались, однако, поопаснее родымских и камчатских бычков, с виду таких маленьких и слабых, совсем будто игрушечных.
На собачью атаку быки ответили стремительной контратакой, и бурый бородатый пятилеток в одно мгновение подхватил на рога белую камчатскую Иглу, которая шла в передовой упряжке, подкинул ее вверх на добрую сажень, потом припечатал ее своими тяжелыми копытами и пришил ее рогом к земле.
Все же потом пришлось собачьему отделу Осоавиахима разбираться с колхозом, сначала третейским судом, а потом настоящим советским и в результате заплатить увесистый штраф за кур и за гусей, за телят и за козлят и даже за расстройство обмена веществ у больших круторогих лобастых, бокастых колхозных быков.
Ибо колхозный поверенный утверждал, что бокастые быки от гнева и от страха перестали есть как прежде, спали с тела и получили большое расстройство желудка.
Впрочем, эта история случилась с полгода назад, когда собаки имели еще частичку камчатского жира и камчатской развязности. Теперь они привыкли ко всему: к множеству запахов, которые сливаются, пересекаются на каждом ленинградском перекрестке, к собачьим сухарям и объедкам из столовых, возбуждавшим недавно тошноту, к ошейникам, к намордникам, к сырому помещению в подвале, куда никогда не заглядывает солнце, также заодно к ленинградской зиме, бессолнечной, темной, гнилой, мокро-снежной, мерзло-талой.
– Кух, кух, кух! – каркает Кендык по-вороньему: – Ой, ворон, ворон, ворон.
Никакого ворона впереди нет, ни зайца, ни лисицы, ни даже какой-нибудь вольной собаки без привязи, без намордника.
Передовая собака Голова, заместившая убитую Иглу, нервно поводит носом налево и направо и оглядывается с упреком на своего молодого хозяина.
«Проклятая дорога», – можно прочесть в ее огорченных глазах.
Дорога действительно ужасная. Вся она истоптана, испещрена конскими копытами, человеческими каблуками, резиновыми шинами фордов, линкольнов и амо, и приходится бежать нежным и чувствительным собачьим лапкам по этим пересеченным ухабам.
А между тем там, на родине, если через собачью дорогу, накатанную гладкими полозьями совсем до зеркального блеска, если через нее переступит конский караван или даже единственная лошадь, расседланная и отпущенная на волю, сейчас же начинается чуть не скандал. Если караван был купеческий, то купца догоняют на тундре и берут с него штраф, на вольных коньков учиняют настоящую облаву – если придется, хладнокровно застрелят конька, мясо съедят и только шкуру отдадут небрежному хозяину.
– На вот тебе шкуру, в другой раз стереги лошадей своих получше.
По пересеченным дорогам упряжные собаки сбивают себе пальцы до крови, начинают хромать и ложиться, и их приходится обувать в особенные кожаные круглые сапожки.
– Подь, подь, поца! – Кендык погоняет своих скакунов по-русски и по-одунски.
И, как это выходит всегда у хорошего, искусного каюра-ямщика, собаки понемногу втягиваются, дружно налегают на постромки, легонько повизгивают и потом переходят от легкой побежки хлынью», рысцой, на хорошую долгомерную, рысистую езду. Голова даже не оглядывается. Она ведет свою свору собак, ей много заботы, чтобы не дать им спадать с быстроты. На всем ходу она подносит к зубам переднюю правую лапу, дергает зубами кожаный сапожок или, точнее, чулочек, но кожа слишком жесткая. Собаки ненавидят эту насильно навязанную обувь и постоянно стараются срывать ее зубами на ходу.
Обувь завязана крепко, и сразу не сорвешь. Голова широко разевает рот, хватает зубами снег, опускает лапу на землю и, словно со вздохом, бросается вперед.
Проходит полчаса, потом час. Из двенадцати упряжек три выскочили вперед, и до сих пор неизвестно, кто кого одолеет. За Кендыком тянется любитель-турист, собаки его крупнее и сильнее мелких камчатских собак. Они лучше накормлены, за ними смотрят, их лечат.
Третья нарта – это длинноногий инструктор Осоавиахима. Он вышколил свою полудюжину овчарок совершенно драконовскими мерами и гонит их вперед, не давая им ни охнуть ни вздохнуть. Ноги его, воспитанные спортом, не уступают, пожалуй, ногам Кендыка, натренированным на промысле, на зимнем извозе, на тяге груженых салазок, которые летом и зимою тяжело и упорно волочатся сзади.
Инструктор щелкает длинным кнутом, совсем как пастух. То хлопнет над самым ухом у левой поджарой, остроухой, то хлопнет с размаху крайнюю правую, седую, в подпалинах, словно кипятком обожжет, а потом опять кнутом, – небо с овчинку покажется.
Оттого его овчарки тянут, бегут, не сдавая; пожалуй, помрут на дороге, задохнутся, и сердце надорвется, но они не хотят отставать от двух передних.
Еще час прошел, а проехали мало, всего километров восемь. Собаки устали, требуют отдыха, хотя бы привала. Кендык с размаху колотит тормозною палкой о верхнюю стоячую дугу, звенят колокольцы и бубенцы.
– Вот я вас! – кричит в исступлении Кендык. – Я вам покажу отдыхать!
Лыков, не желая отстать, решается на более рискованное средство. Он, в свою очередь, колотит о дугу окованной палкой, потом поднимает свой тормоз и с размаху бросает его прямо по дороге, наметив спину правой упряжной из третьего кольца.
Этой собаке тянуть надоело, и она звонит, то есть слегка опускает постромки, так что железный верт-лужок, скрепляющий ременные концы и зацепы, начинает чуть слышно позвякивать.
Другие собаки глядят на нее исподлобья и как будто сердятся: «Видишь, какая ленивая».
Лыков искусно и легко подхватывает палку, трясет ею в воздухе и снова бросает в ленивых собак. Он нацелился хуже, чем прежде, и вместо правой упряжной третьего кольца попадает в левую.
Левая собака на ходу хватает за плечо виноватую правую, глубоко запускает свои белые острые зубы, дескать, свои собаки – сочтемся. Лыков подхватывает палку с той же удачей, что и раньше, и снова бросает вперед. Он попадает, однако, не в третье, а в четвертое кольцо. Собака, получившая удар, быстро оборачивается, кусает виновную подругу и снова несется вперед. Собачий ямщик имеет право попасть своей палкой в любую из шести собак. Пара виноватых, пара впереди и пара позади. Собаки на ходу восстановят справедливость, ничуть не ослабляя быстроты и сплоченности.
«Гонк, гонк, гонк…» – это настоящий живой ворон гонкает сверху на усталых, охромелых собак.
Лыков опять бросает палку так же, как прежде, слепо, неукротимо, но на этот раз совсем неудачно. Он попал в спину правой собаки из пятого кольца и этим нарушил неписанный устав ездовой конституции.
Пострадавшая собака бросается назад и хочет укусить виновницу через четвертое кольцо. Начинается путаница. Три пары собак перепутываются, переплетаются постромками и наконец образуют какой-то бесформенный ком, шесть голов вместе, шесть туловищ, как спицы колеса, и шесть хвостов торчат в разные стороны, как будто рукоятки.
Лыков останавливает нарту, потом опрокидывает ее в снег. Ему предстоит неприятная задача – распутать все эти постромки, подпруги и ремни.
Он принимается за дело, упорно и жестоко колотит своей круглой березовой палкой и правого, и виноватого, всех собак вместе и каждую порознь.
– Если будете путаться, так я вас еще не так…
Кендык впереди широко улыбается. Назойливый соперник сошел со счета и уже не представляет особой опасности.
– Го-го-гок, ток, ток… – Инструктор Осоавиахима гаркает на собак, как будто на охоте с борзыми. – Тяните, тяните, – настаивает он, – ах, так, так, так…
Он угощает собак отборным, крупным русским матом.
Собаки справились, натянули постромки и опять догоняют Кендыка. В конце концов, быть может, в Советском союзе появится новая езда на немецких упряжных овчарках, нисколько не хуже, чем на анадырских, камчатских или гижигинских псах.
Спуск. Подъем. Опять спуск, довольно крутой и длинный-предлинный, конца даже не видно.
На спусках надо тормозить, не то нарта наедет на собак и перекалечит их, но Кендык вместо того привстает, гикает, и собаки, как угорелые, чуть не кубарем несутся вниз по утоптанной тропинке.
Осоавиахимщик решил не уступать. Он тоже привстает, гикает и гонит собак.
И вот в половине спуска опять поворот, и довольно крутой, направо. Кендык проскочил, а инструктор дал маху, наехал на задних собак. Толстобрюхая Кото завизжала, как зарезанная. Он отдавил ей сразу обе задние лапы. Нарта и собака сцепились вместе и покатились под гору с лаем, с грызней, с дерганьем влево и вправо без всякого толка.
Кендык остался один, без соперника, ибо другие участники словно сгибли бесследно. Ни слуху ни духу. Кендык, в свою очередь, даже гнать перестал. Он садится боком на нарту, болтает ногами и только слегка понужает[52]52
Погоняет (северно-сибирское наречие).
[Закрыть] собак. По привычке он поет даже негромкую песенку, так себе, о чем попало, что в голову придет.
Бегите, собачки, бегите,
Нам ночлег недалеко.
Мы скоро приедем,
Поедим, отдохнем.
А те никогда не приедут,
Никогда не догонят.
А затем, чтобы им отдохнуть,
Пускай лучше вернутся обратно.
– Ух, ух!..
Глава тридцать четвертая
Была северная смычка. Смыкались все три северные учебные заведения: ИНС (Институт народов Севера), Северное отделение педвуза имени Герцена, Северное отделение ИЛИ (Институт лингвистики и истории). В ИНСе были северные туземные студенты, у Герцена – северные учителя, настоящие и будущие. Настоящие уже были три года на местах, на тундре, в тайге, и приехали сейчас в Ленинград получить переподготовку. Будущие учителя на местах еще не были. В ИЛИ были северные литераторы, издатели северных газет на туземных языках. Эти газеты не выходили в свет, но будут выходить. Впрочем, и редакторы тоже еще в начале работы, им придется учиться, пожалуй, до конца пятилетки…
Это вечер смычки, пения, пляски, веселья.
На сцене хор ИНСа, юноши и девушки. Гольды и ульчи, эвенки и орочоны, все варианты одного и того же племени. Коряки и чукчи, остяки и вогулы.
По-прежнему взяли шаманский костюм из музея Академии наук, по-прежнему Ваня Путугир шаманит, стучит колотушкой в бубен и прыгает высоко, как козел. Но шаманство отнюдь не настоящее, даже не театральное. Оно вырождается и падает.
Три года назад, если туземные студенты начинали шаманить, их было не остановить. Два-три часа прыгают и колотят. Ведь они должны взвинтить свои нервы, почувствовать в конце концов, что они действительно шаманят, что в них кто-то вселился, дух не дух, что-то вроде этого.
После того на местах окреп молодняк, и нажим на шаманство получил довольно серьезный характер. Шаманы стали часто отрекаться от всех своих духов и отдавать сельсоветам и рикам свои бубны и кафтаны и подвески. Шаманство начало постепенно вырождаться, но несколько самых лукавых, прожженных, продувных искусников шаманской работы забрали кафтаны и бубны и укатили в Москву и Ленинград. Здесь, в союзе с артистами театра, под наблюдением ученых, они стали выступать на сцене, как настоящие актеры. Они делали разные фокусы и трюки. Выпьет для храбрости штоф водки и после этой зарядки начинает носиться по сцене, как будто резиновый.
В это время шаманство стало уже только театральным искусством. Публике было интересно видеть воочию того самого алтайского кама (колдуна), который когда-то служил и духам, и богам, да и местных кулаков и князей тоже не забывал. Теперь начался период вырождения шаманства. Сеанс на сцене длится десять минут, шаман неистовствует с палкою над бубном, а хор распевает во все горло новую шаманскую песню:
Не будем шамана кормить,
Не будем шаману платить,
Не будем шамана слушать.
Антирелигиозная часть программы кончилась. Начинается вторая часть. Туземные нации построились, разбились на естественные хоры и стоят наособицу, отдельно друг от друга.
Гиляцкая девушка вышла вперед. Голову склонила так томно, так печально и запела одинокую песню:
Пошла за ним по берегу, осталась.
Он греб на лодке, я шла пешком.
Моя левая слеза упала на мой левый подколенок.
Моя правая слеза упала на мой правый подколенок.
Утром, пробуждаясь, и вечером, засыпая, тебя вижу.
Ты вспоминаешь ли меня?
Платок мой взявши, нюхая, вспоминай меня.
Мой тельник в руки взявши, нюхай, вспоминай меня. Утром, не видя тебя, тоскую.
Вечером, не видя тебя, плачу.
Без тебя не живу, не помираю.
Помни меня!
Чукчи заводят коллективную пляску северного побережья. В ней должны поочередно участвовать люди всех зверобойных поселков, от мыса Дежнева до мыса Чаплина.
Нууканцы били в бубен,
Парни били в бубен,
Уэленцы пели,
Толстоголосые пели.
Яндранайцы били в ладоши
Крепкими руками.
Уназикцы плясали,
Девушки плясали,
Молодые плясали.
У них ножки в гладком мехе,
Как у молодой важенки.
У них спина в гладком мехе,
Как у легкой важенки.
Ух, ах, ах, ух…
Мои кости стали мягки,
Словно печень на огне.
Вогулы запели частушку. Молодая белокурая лопарка, с виду похожая скорее на шведку, тонким задумчивым голосом запела тихонько:
Взгляды его глаз на мне, гой, гой!
Сердце плавает, тает, как лед в огне, гой, гой!
По тихому течению, спускаясь, черным платком махая,
Словно в воду нырнул.
Сказал мне, расставаясь: «Не тоскуй,
По тонкому первому льду вернусь я назад».
Пока лиственные иглы не пожелтеют,
Как доживу?
Пока не замерзнет река, как дождусь?
Взгляд его бросил меня, охо, охо…
Сердце мое замерзает, как мелкое озеро, охо, охо…
На другом конце сцены эвенки водят свой круглый хоровод – «охорьё». Они крепко сплелись руками и высоко подскакивают вверх. Вьются по сцене кольцом, не обращая ни на кого внимания. Вот они сверзлись со сцены прямо в зрительный зал, но им все равно. Охорьё, как огромный удав, вьется кругом публики, захватывая в кольца все новые и новые жертвы. Минута – и ползалы пляшут с эвенками, пляшут против воли, бранятся, но не могут выпутаться; еще минута – охорьё неожиданно и ловко выбралось обратно, бросило на полпути всех захваченных и вернулось на сцену назад. Все смеются.
Мелькают все новые северные пары: Бесспорнов с женою, оба черномазые, были в чукотской школе на мысе Восточном и там сотворили маленького чукчонка. Он пищал с утра до вечера. Из учительской двойки стала семейная тройка. Пришлось поневоле вернуться в Москву. В Москве у них не было квартиры, и Комитет Севера нашел им пристанище в пышном отеле для приезжих иностранцев. Комната была действительно пышная, но на бархатной скатерти лежал черномазый чукотский детеныш и хныкал.
Белокурая Иванова – эстонка, – бывают латыши и эстонцы с такими русскими фамилиями, – а замужем она за костлявым ненцем Окотетто, и подруги называют ее теперь Котятовой.
Северная группа на сцене выстроилась в ряд и запевает согласно и громко песню Ильича:
Новый путь, советский путь,
Ком-северный путь, ком-путь.
Этот путь показал нам Владимир Ильич Ленин.
На смену северянам выступают местные силы. Звенит «Комсомолочка», раздается татарская песня:
Ай, ай, ай, ай
А слов не разобрать…
В толпе студентов проходит странная фигура. Чукотская кухлянка-балахон, длинная до пят, просторная, как океан, меховые торбаса с жесткими подошвами из растопыренных оленьих щеток. На голове огромный волчий шлык, с красными кораллами у стоячих ушей, как будто две капельки крови. В такой одежде можно ночевать на снегу, в пятидесятиградусный мороз, а в зале восемнадцать градусов тепла. Но на сухом лице под коричневой кожей нет ни единой капельки пота.
– Ого, Мительман, – приветствуют его, – скажи нам свое веское слово.
Мительман, не смущаясь, проходит на сцену и тоненьким, пискливым голоском отвечает:
– Ну что же, скажу. Прожил на тундре пять лет, в город вернулся, а в городе сидеть не могу, тесно в городе, в кожаной обуви тесно, в суконных штанах холодно, снег грязный, все грязное. А на тундре-то, на тундре снег мягкий, как пух, еда прямо с поля, убей и глотай. Воля на тундре, а вы словно камнем одеты…
Плясать, плясать!..
Жажда пляса овладела всей многогранной, разнородною толпой. Пляшут туземные студенты, по-прежнему настойчиво, упрямо размахались чукотские пары. Парнишки и девчонки выбрасывают руки и ноги с характерными телодвижениями и поют – так называемое «горлохрипение». Его производят, втягивая воздух снаружи внутрь. Выходит что-то вроде чревовещания.
Одноглазый старик, с шишкой на лбу,
С косичкой на затылке,
Плясал и хрипел горлом.
Ух, ах, ух, ах..
Я стал без костей…
Коряки проходят гуськом, неспешно и чинно, держа друг друга за задние хлястики курток, – это они водят «китовый» танец, который устраивается по случаю поимки кита и отличается особливой медлительностью.
Вспыхивает пляска славянская, гопак, трепак, краковяк и другие славянские «-аки».
Украинская:
Ой, лихо, закаблуки,
Закаблукам лихо дам,
Достанется и передам,
А за тыи закаблуки
До сталося лиха-муки.
Сибирская:
А старухе двадцать лет,
Молодухе году нет,
Три деревни, два села,
Хвостом улицу мела.
Час ночи. Надо идти в общежитие на жесткую койку и поспать хоть немного.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































