Текст книги "Воскресшее племя"
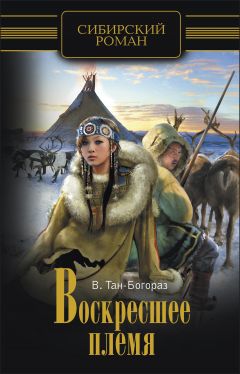
Автор книги: Владимир Тан-Богораз
Жанр: Русская классика, Классика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 19 страниц)
Глава семнадцатая
В вагоне железной дороги, на полдороге между Хабаровском и Новосибирском, едет Кендык вместе с товарищами. Их всего восемнадцать человек. Эти восемнадцать человек представляют одиннадцать народностей, малых, отсталых народностей далекого севера и северо-востока. И каждое племя имеет два названия: одно – данное историей и насмешливыми завоевателями, другое – подлинное название, которое советская эпоха вызвала впервые на поверхность из глубины народного сознания. Тут были прежде всего гольды-нанаи, обитающие ближе всего к городу Хабаровску – столице Дальнего Востока. Ближайший поселок гольдов-нанаи находится всего в восьмидесяти верстах от Хабаровска.
Гольдов было трое, и все трое разного типа: один был из гольдов обруселых, другой из гольдов окитаенных, и только третий был из гольдов настоящих, не тронутых ассимиляцией.
Было двое гиляков-нивхов, один – с устья Амура, другой – с Сахалина. Был один ороч с Приморья, один удэге и один таза, из тех же удэге, но уже совершенно порабощенных, окитаенных китайскими торговцами, хунхузами, переселенцами. Был эвен с Охотского прибрежья, называвший себя камчадалом, но Камчатки в глаза не видавший. Один камчадал, из давно обруселых поселков, чьи деды уже говорили по-русски. И другой камчадал-ительмен с западной Камчатки, еще говоривший на родном ительменском, камчадальском языке.
Был коряк-нымылан с Берингова прибрежья и другой нымылан с Охотского моря. Оба они плохо понимали друг друга и ни слова не понимали ни на одном из других языков.
С устьев Енисея был долган, говоривший по-якутски, но все же якутов ненавидевший, то есть, в сущности, не якутов, а якутских торговцев и чиновников. И, наконец, один кет, из племени самого загадочного, наполовину вымершего, быть может, древнейшего в Сибири и связанного какими-то не вполне выясненными узами с населением далекого Тибета. Было, наконец, двое эвенков, из разных округов, отдаленных один от другого на добрую тысячу километров. Эти понимали друг друга, хотя их роды, быть может, не встречались уж тысячу лет.
Народности Севера окружают население внутренней Сибири растрепанным венком по северовосточным окраинам. Они первобытнее и несравненно малочисленное своих ближайших соседей: коми-зырян, якутов и бурятов. С незапамятных времен живут они рыболовством и охотой, отчасти оленеводством, не зная земледелия и разведения рогатого скота. Еще до появления казаков они были оттеснены в глубь тайги, отчасти уже истреблены. Но жестокость Ермака и Семена Дежнева, Михаила Стадухина и Петра Атласова и других завоевателей Сибири приложила к их истреблению свою беспощадную руку, вооруженную «огненным боем», фитильною пищалью, кремневым ружьем. Русские торговцы споили их водкой, наградили их наследственным сифилисом. Царская война и белая разруха привели их разрозненные клочья на край гибели.
В советскую эпоху они стали оживать для жизни, для гражданственности, для новой социалистической стройки. Прежде всего на местах завелись школы, быстро наполнившиеся учениками. Самые активные из них устремились в местные столицы – Хабаровск, Новосибирск, а потом и в центральные столицы: Москву, Ленинград, – учиться, сравняться с ушедшими вперед, догнать русских, украинцев и другие, более счастливые народности!..
А пока, в настоящую минуту, эти восемнадцать юношей, которые ехали в Москву и Ленинград усвоить основы советской культуры и потом принести ее своим соплеменникам, эти восемнадцать северных пионеров-разведчиков чувствовали себя сиротливо и жутко. Они жались в своем углу вагона, подавленные впечатлениями. По-русски они почти не говорили, да если иные и знали язык, то их северное русское наречие с множеством туземных слов и оборотов было непонятно другим пассажирам вагона. Больше всего их угнетала эта бегущая повозка на колесах, целый караван бегущих телег, которые мчатся вперед днем, и вечером, и в полночь, и в зыбком рассвете. Где-нибудь остановятся на малое время и опять летят дальше. Почти все они, эти северные странники, до того времени никогда не видели самой простой, обыкновенной телеги, не знали даже колеса. И единственное прозвище, которое они могли дать железнодорожному вагону во всем разнообразии своих языков, было: «сани на катках», «нарта на круглых полозьях».
В качестве единственного наблюдателя и хранителя с северянами ехал русский студент-рабфаковец, тоже направлявшийся в Москву. Но ему было не до них. Это и для него была первая далекая поездка по железной дороге в неведомую зауральскую Русь, дорожных условий он тоже не знал, и северные юноши были предоставлены сами себе.
На остановках постоянно случались маленькие трагедии. Северные странники сперва боялись выходить из вагона, но сидеть безвыходно в этой крытой повозке им было невмоготу. И уже после первого полудня на каждой остановке они спускались вниз и выпрыгивали на волю, как засидевшиеся зайцы или кролики. И при каждой отправке в путь кто-нибудь непременно отставал и тотчас же пускался бежать сбоку поезда, бросался на лету на подножку, даже на буфер. У каждого из них было такое чувство, что отстать от своих и остаться в человеческом потоке, в неизвестной стране – все равно что выброситься в океане с бегущей байдары и остаться в воде на произвол ветра и волн.
Два раза совсем отставали сперва нивх-гиляк, потом – ительмен-камчадал, но товарищи, даже не обращаясь к поездному начальству, оба раза поднимали такой визг и вой, что его слышал машинист и собственной властью замедлял ход. Весь состав поезда и пассажиры знали о диковинных студентах-первобытниках, ехавших на запад. Гольд-нанаи из Хабаровского округа, который вначале задавал форсу своей близостью к столице Дальнего Востока и мнимым знанием городского обихода, ужасно оскандалился. Он ухитрился потерять из бумажника все свои деньги, документы и, разумеется, также железнодорожный билет.
При первой проверке контролер хотел его объявить безбилетным пассажиром, но товарищи опять-таки подняли вой, и начальство отступилось. Документы, конечно, можно было восстановить, но дорожные деньги пропали безнадежно. Пришлось для растеряхи сделать сбор с других по рублю, по полтиннику. Держать свои дорожные деньги и документы вместе, у общего старосты, они не могли. Пожалуй, такой временный староста мог бы при случае потерять все сразу.
Их донимала и мучила также непривычная пища. Во Владивостоке и Хабаровске их кормили хотя не особенно важно, но там была постоянно горячая похлебка и в ней кусочек мяса. Северные юноши всю свою жизнь питались мясом и рыбою. От хлеба и каши у них пучило живот и делалась отрыжка. Здесь, в дороге, пришлось отказаться от горячей похлебки и перейти на хлеб и овощи, холодный вареный картофель, огурцы, лук.
Особенно для коряков это было непривычно и странно. Вся эта растительная пища на их языке называлась общим именем: «трава», «травяное питание». И один из них не вытерпел и возопил:
– Что я вам – корова, что вы кормите меня полевыми корешками, мне непривычными?
– А может, привыкнешь, – сказал другой коряк, настроенный более оптимистически.
– Ну да, привыкнешь, – сердито возразил пессимист. – Скорее подохну… А ежели привыкну и вернусь домой, то придется отвыкать, – прибавил он рассудительно – Где я возьму там такое: хлеб, корешки?..
Это было уже проявление встречной критики, направленной на старые условия жизни.
День, пятидневка, декада… Вагоны летели на запад, отмеривая километры десяток за десятком.
– Куда они торопятся, зачем? – спрашивали странники друг у друга. И тут они стали понимать, что чем дальше на запад, тем жизнь бежит все торопливее.
Даже притаившийся одун вспомнил Лукошкина с его постоянными темпами. Но темпы на Родыме были только на словах. Время на Родыме не имело ценности. Здесь же все говорило о пропущенных минутах, летело вперед, стараясь нагнать и наверстать потерянное.
Глава восемнадцатая
Кендык первое время действительно сидел совершенно тихо и судорожно сжимал на груди кожаный мешочек, где были спрятаны деньги и документы, и самое ценное – послание Лукошкина. Он постепенно привык его считать каким-то талисманом, который в тяжелую минуту все объяснит и даст спасение.
Кстати сказать, такие бумаги и письма были не у одного Кендыка, а также и у многих других. Новые советские работники на Севере относились к уезжающим юношам с особенным вниманием, трогательным и даже сентиментальным. Некоторые юноши, побойчее, сочиняли послания сами и везли их с собой на предмет предъявления новым властям и учителям в далеком Ленинграде.
Уже в самом конце путешествия один из бурятских эвенков, сидевший с Кендыком на одной скамейке, показал ему под страшным секретом письмо, саморучно написанное им на имя директора Института народов Севера. Письмо это не было отправлено. Эвенк вез его с собой в виде своеобразной авторекомендации. Письмо называлось: «Резолюция студента Обуглеева Бурятской республики, эвенкской народности, на имя директора Института народов Севера…»: «Первым долгом, я прошу принять от меня огнерасплавленный привет и очень большую благодарность за то, что вы меня примете на ученье. И также прошу принять от меня резолюцию по поводу ваших лекций. Я – приехавший из далекой тайги Сибири на северной окраине Бурято-Монгольской республики в Ленинградский рабфак. Я лично заявляю, что я буду стоять за просвещение своего туземного народа и клянусь довести начатое великое дело советской власти до самого победного конца».
Мимо окон проносились деревни и села, леса, и луга, и огромные поля. Что было на полях? Хлеб, человеческая пища, – рожь, и овес, и ячмень. Часть хлеба была скошена или сжата и лежала снопами на жниве.
Как растет эта диковинная пища! Зернышко к зернышку, былинка к былинке. И тут впервые северные студенты наглядно увидали и поняли, что главнейшая пища российских народов – хлеб – вырастает действительно миллиардами былинок, а потом созревает такими же несчетными грудами мелких одинаковых, однообразных зерен.
У одного был сибирский букварь, и в букваре отрывок из Некрасова:
Выйдут не бужены,
Встанут не прошены,
Горы по зернышку
Жита наношены.
Особенно дивились морские охотники с Берингова моря:
– Ну разве не диво: нас только сотни, а питаемся огромными китами, моржами. Бывает, на целый поселок хватит одного хорошего кита. А этих тысячи тысяч, и пища для них вырастает по травинкам, по крупинкам, а хватает для всех. Мы постоянно голодаем, а они вот и сыты бывают и другим посылают от сытости своей.
В прииртышских степях стали попадаться многочисленные отары овец.
– Мельче оленей, – тотчас же решили эвены и эвенки, привыкшие к оленеводству. – А счетом их больше, – согласились они добросовестно.
– У нас и оленей неменьше, – возразили приморские коряки, вспоминая многочисленные стада своих о ленных соплеменников.
Обе стороны заспорили: «Мельче – многосчетнее…» Но тут показались огромные степные быки с громадными рогами, ничуть не похожие на мелких коров и бычков полярного скотоводства.
– Больше лосей, – говорили с восхищением лесные охотники, для которых лось был самым крупным зверем. – А наши-то коровы – вроде маленьких телят, вот этакому дяде можно под брюхо подсунуть, он даже не заметит.
И тогда показались верблюды, целый караван каких-то живых призраков с длинной гусиной шеей, с горбатыми вьюками на горбатых спинах. Восторг и возбуждение северных странников были неописуемы.
– О, какие большие, огромные, – говорили они. – Кто это? Слоны, горбороги?
Они вспоминали по книжкам и картинкам случайно увиденных крупных животных тропических стран. И, разумеется, путали все имена. Так, носорога они именовали «горборогом» и именно это название хотели приклеить к горбатым и странным верблюдам.
В Черембассе они видели угольные вышки и груды угля на станциях и также заметили, что в угольном районе все: множество людей, и стены, и самая зелень – все было покрыто угольною пылью.
На крупных станциях северяне видели железнодорожное депо и в предместьях городов проезжали мимо заводов с длинными трубами, откуда выходил дым. Они видели высокий переплет железных балок и долговязые подъемные краны, пробегавшие вверху.
Здесь раздавались удары парового молота, заглушая скрипение поезда. Здесь ковали железо и сталь, делали машины. Эти места им представлялись еще чудеснее, чем хлеб и быки, и верблюды.
– Здесь настоящие работники, – говорили они. – Умнейшие здесь.
Этот термин, как было указано выше, в некоторых северных наречиях применяется к коммунистам. Но эти северные странники считали, что умнейшие из умных – это, конечно, металлисты.
После первых десяти дней дорога стала утомлять их.
– Скорее бы, – говорили они.
Им казалось, что вагоны идут невыносимо медленно.
На подъезде к Омску они видели аэроплан, который плавно и быстро проплыл над железнодорожным полотном, без усилия обогнал их поезд и улетел вперед.
– Железная птица, – говорили они. – Летучее железное судно…
– Где он остановится? – спросил Кендык.
– В Омске, – объяснили ему.
Когда поезд подошел к Омску, Кендык, недолго думая, с обычной решимостью взял свой сундучок и направился к выходу
– Куда ты, куда? – спросили товарищи.
– Довольно мне ехать этим тюленьим ходом, – объяснил Кендык сердито.
Тюлени, проворные в воде, на суше мучительно медленны, хотя и предпринимают порою сухопутные походы на несколько десятков километров. Ход поезда уже казался Кендыку медлительно-тюленьим.
– Я полечу на железной птице, – заявил он уверенно.
Его, однако, удержали. Пришел студент-сопроводитель и объяснил, что в Москве и Ленинграде довольно самолетов и он сможет полетать при случае.
– Я буду не только летать, – твердо говорил Кендык. – Я буду ямщиком и погонщиком этого железного орла.
Уже недалеко от Москвы сахалинский гиляк заболел, и настолько серьезно, что его пришлось снять с поезда и отвезти в больницу. Он съел два яблока, зеленых и грязных, скорее всего, из любопытства. Съел и бранился, и плевался, и, в довершение всего, захворал чуть ли не дизентерией.
Москва осталась в стороне. Знакомство с нею было отложено до зимней экскурсии. В Ленинграде на вокзале студентов встретил воспитатель ИНСа, подали грузовик, погрузили багаж, а сами путешественники отправились в лавру, как водится, пешком.
В эту ночь они ночевали в общежитии, где им предстояло провести три или четыре года. Тут они разбились по группам, по степени знаний, отчасти по национальностям. Но Кен дык отделился от дорожных товарищей, с которыми он вообще не особенно сблизился.
Институт малых народностей Севера на первое время подавил его своей необычайной обстановкой. Он мог подавить человека и более искушенного в восприятии культуры, чем этот полудикий одун.
Институт начинал второе пятилетие. За первые пять лет своего существования он развился, вырос и далеко ушел вперед. Сперва это был скромный рабфак при Ленинградском университете, плохо обставленный, бедный, потом рабфак перешел в ведение ЦИКа и стал Северным факультетом при ЛИЖВЯ – Ленинградском институте живых восточных языков. При этом он был переведен в Детское Село, в полуразрушенное здание, которое было отремонтировано.
После того как бывший рабфак и факультет преобразовался в самостоятельный институт – ИНС, он был переведен обратно в город и за неимением места помещен в Александро-Невской лавре, в бывшем здании Духовной академии. Много приключений пришлось испытать ИНСу и много трудностей одолеть на своем недолгом пути. Здание Духовной академии тоже было полуразрушенным и нуждалось в ремонте. За оградою лавры, в пристройках академии ютились группы дефективных детей.
Некоторые из этих дефективных ребят были долговязые и крепкие, с четырьмя судимостями в прошлом.
Их пришлось долго и настойчиво выселять и вывозить. Двенадцать групп выселилось, а тринадцатая группа – самая закаленная – так и осталась на территории Духовной академии, правда, не в главном здании, а в одной из пристроек.
Эта тринадцатая группа гнездилась в своем каменном логовище по испытанному образу жизни беспризорных кошкодавов. Сняли потолок и пол, поставили долговязую печку-буржуйку и жили, зарывшись в солому. Промышляла эта группа воровством и даже убийством, давая приют литовской пьяной шпане.
ИНС тоже был одним из объектов постоянной грабиловки, начиная от запасов кирпича и проволоки и кончая куртками и кепками, которые порою беспризорные снимали с северных студентов, приходивших домой слишком поздно.
Кончилось это большим столкновением, даже настоящим сражением северян с беспризорными. После того были применены решительные меры, и беспризорные со всем своим преступным активом и штабом покинули здание лавры.
Все это, впрочем, было давно позабыто, и теперь квартал у лавры был совершенно мирный. Институт быстро рос, ежегодно приходилось делать ремонт, перестройку и новую стройку.
Духовная академия была высшим рассадником православия в огромной стране, а эти наиболее угнетенные и затоптанные народности тяжкой России были наполовину язычники – анимисты и шаманисты, никогда не крещенные даже формально.
На старых толстейших стенах академии пришлось местами прогрунтовать и побелить образа святых и ангелов, не представлявшие, впрочем, никакой художественной ценности. Но для новых студентов православие было настолько чуждо, что, устраивая первую ячейку безбожия, им пришлось направить острие своего отрицания не против православия, а против собственных духов, богов и божков, против собственных шаманов, «черных полевых попов», как называли их с большим беспристрастием русские православные соседи. Шаман был «полевым попом», помощник его – «черным полевым дьячком». Шаман священнодействовал в особом облачении, с целым ритуалом обрядов.
Глава девятнадцатая
Уже к приезду Кендыка ИНС выравнялся в учебное заведение, небывалое, неслыханное где бы то ни было на Земле. Здесь было четыреста студентов, представлявших двадцать пять народностей, которые растянулись на карте Севера больше чем на десять тысяч километров, от Колы до Колымы, от Берингова пролива до китайской границы южнее Владивостока.
Даже собирать их в Ленинград представляло большие трудности, в особенности вначале. Ибо местные власти северных округов считали совершенно излишним посылать таких полудиких детей в далекую столицу. Они посылали вместо них якутов и зырян и даже северных русских.
Это, впрочем, скоро уладилось, и зыряне с якутами попали в другие, более соответственные рабфаки, но были другие северные группы, действительно потерявшие свою национальность: ненецкие озыряненные яраны, обруселые камчадалы, чуванцы и юкагиры. Эти группы попадали сюда и создавали постоянные трудности. Они тоже имели право на образование и стремились в институт, занимая места и стипендии настоящих нацменов.
Восточный институт в прежние годы подбросил сюда зарубежные группы: сойотов из Таину-Тувы и монголов из Монгольской республики, и их перевести в более подходящее место было трудно.
Помимо этих смешанных групп, в институте было большое разнообразие настоящих северных языков и антропологических типов. Белокурые лопари с узкими скулами и голубыми глазами встречались с широколицыми эвенками и орочами, представлявшими желтую расу. На тех же скамейках сидели смуглые стройные алеуты с Командорских островов и о ленные чукчи с приземистыми, крепкими фигурами, с тяжелыми лицами.
Енисейские кеты, какие-то разномастные, с глазами то серыми, то карими, с каштановыми волосами, сухопарые коряки, напоминавшие североамериканских индейцев, – все говорило об осколках древнейших народностей, о всяких племенных обрывках и смешениях.
Также и языки были всяческих групп: финноугорские, турецкие, тунгусо-маньчжурские и палеоазиатские, и азиатско-эскимосские – последние по конструкции своей более близкие Америке, чем Азии.
Было неизвестно, на каком языке учить этих студентов. И, естественно, сочетались и отчасти боролись две тенденции: обучение по-русски и обучение на родном языке. Эти обе тенденции были также и у самих студентов. Одни всемерно отстаивали русский язык и собственного языка чуждались, другие, напротив, увлекаясь примером автономных республик и областей азиатской части СССР, столь же ревностно настаивали на применении своих собственных языков.
Пестрота и различие были также и в возрасте. Были молоденькие мальчики двенадцати-четырнадцати лет, которых на родине учить было негде. Были совсем взрослые, даже женатые, приехавшие с женами, с грудными младенцами. Другие, увлекаясь желанием учиться, оставляли на родине своих маленьких детей, а потом тосковали о них, с тоски заболевали.
Со студентами были студентки, тридцать-сорок девиц и девчонок, даже от таких народностей, где женщина совсем угнетена и до сих пор являлась предметом продажи, как скот. И, несмотря на крайнюю молодость или даже именно благодаря ей, студенты женились на студентках, юноши и девушки сходились, скрещивая различные человеческие типы. Черномазый алеут, как будто обшитый сапожным голенищем, сам себя называвший креолом, женился на беленькой остячке из Обдорска, по-видимому, с примесью русской крови, и молодая чета долго не могла решить, куда ей ехать работать: на западно-сибирскую Обь или на дальневосточные острова – Берингов и Медный?
Общим языком института, естественно, стал русский. Но разные народности говорили разным русским языком, в значительной степени малопонятным другим.
Самоеды из Болыпеземельской тундры и юкагиры с низовьев Омолона картавили и пришепетывали, но совсем по-разному.
Туземные слова в русском языке у остяков были совсем не похожи на туземные слова у обруселых камчадалов.
Были, кроме того, и общие севернорусские слова, неведомого туземного корня, которые никак не сводились хотя бы к одному из туземных языков: нарта – сани, юкола – сушеная рыба, алык – собачья шлея, каюр – собачий ямщик и т. д. Эти слова, по местным рассказам, шли от неведомой чуди, которая некогда обитала на Севере, а потом растаяла, исчезла неизвестно куда.
В севернорусских наречиях были также слова древнейшего русского корня, даже древнейшего славянского корня, родственные старочешскому и старопольскому языкам. Северных собак привязывали на «деревянных жезлах», лошадей пасли на «пажитях», шею кутали «огонкой», сшитой из хвостов песцовых или беличьих. «Севернорусская огонка» была сродни польскому слову «ogon» – хвост.
В туземных языках тоже были постоянные недоразумения. У русских лопарей боролись три наречия, не говоря уже о лопарях зарубежных, живших в Финляндии, Норвегии и Швеции. У гольдов-нанаи соперничали два диалекта. Одиннадцать групп эвенков, раскиданных на огромном пространстве от Оби до Сахалина, до Камчатки и до Чаунской губы на Полярном океане, с недоумением прислушивались к этой суматохе диалектов, но потом постепенно, отчасти помимо воли, вырабатывали общий эвенкский язык.
Такая же разница была и в культуре и в уровне знаний. Иные, хорошо говорившие по-русски, окончившие местную школу, сразу поступали на первый курс и быстро шли вперед.
Другие, совершенно сырые, прямо из глубины тайги или тундры, не знали ничего и оставались по году и по два на двух подготовительных отделениях – младшем и старшем.
Возникло опасение, что первые в конце концов оторвутся от Севера и останутся в западной стране, встречавшей их так гостеприимно. Более захолустные пришельцы, напротив, тяготились климатом и обстановкой и страстно мечтали о возвращении на родину, в первобытные, суровые и дикие условия Севера.
Впрочем, опасения, что кто-нибудь останется совсем в Ленинградской или Московской областях, были малоосновательны. Каждою весною начиналось одно и то же: тундренные и таежные выходцы, устав от жизни взаперти, в четырех стенах института, без постоянных скитаний на чистом, свежем воздухе, на вольных охотничьих просторах, даже без моциона, без привычного физического труда, настойчиво рвались на каникулы домой. Они словно вставали на дыбы, как волки и лисицы поднимаются на задние лапы и бунтуют в зверинцах весною. Приходилось поневоле отпускать их домой, но для некоторых было невозможно добраться домой даже в трехмесячный срок. Они застревали по дороге и проводили все каникулы в постоянной езде. Другие выезжали домой на зиму, на год, но потом постоянно стремились вернуться обратно и действительно возвращались хотя бы через два года.
Городская обстановка была для большинства не только тягостна, но прямо опасна. Сырость помещения, непривычная пища, а в особенности микробы заразных болезней, к которым мы притерпелись и которых даже не замечаем, представляли для студентов-северян реальную опасность. Туберкулез, и трахома, и другие болезни, дыхательные и глазные, поражали глаза и легкие, гланды и железы и особенно подстерегали самых крепких, выносливых людей. Больше всех страдали чукчи с Берингова моря, удивительно здоровый народ у себя на Севере. Иные юноши прямо с вокзала попадали в больницу, в больнице проводили зиму, а потом уезжали домой. Бывали и такие, что даже не успевали в своей мученической жизни заглянуть в институт.
Для северных студентов Ленинград являлся настоящим боевым фронтом, не менее опасным, чем фронт подлинной кровавой войны.
Были постоянные трагедии. Тевлянто с Анадыря три раза болел глазными болезнями, сидел в темной комнате, не мог учиться и поневоле уезжал домой. Но потом возвращался обратно. И только на третий год его организм наконец приспособился к ленинградским мельчайшим вредителям, водяным и воздушным.
По признаку социальному большая часть студентов были дети батраков и бедняков, даже безродные сироты, которые, отбившись от своего рода, скитались где попало. Они жили и работали у русских и у собственных богатеев и вели очень тяжелую и малообеспеченную жизнь.
Впрочем, и здесь было весьма любопытное различие. В племенах, обитавших ближе к русским и более подверженных воздействию культуры, хотя бы через десятые руки, местные эксплуататоры успели оценить значение и важность образования. Бывшие князьцы, скупщики, торговцы старались так или иначе определить своих детей в школы.
Из обруселых и полуобруселых племен постоянно приезжали дети чиновников, волостных и улусных старшин, переводчиков и прочих. Некоторые приезжали даже с поддельными путевками, конечно, попадались и должны были уезжать обратно, проделать весь долгий путь назад, те же тысячи километров. Надо помнить, что туземцам приехать из Анадырского устья и из Хатангской тундры прямо в Ленинград почти так же трудно, как нам переехать на Луну или на Марс, и не менее опасно для здоровья и для жизни.
Оттого кулаки не часто рисковали посылать своих детей на такие тяжелые приключения.
Но «бедность смела и готова на риск», по чукотскому присловью. Бедняки и сироты без оглядки записывались на поездку в Ленинград.
Кроме того, постоянно попадались добровольцы и самовольцы, которые пускались в дорогу, помимо всяких записей и контрольных проверок, и так добирались до Москвы и далее, до места назначения.
Один юкагир из Нижней Колымы ехал до Ленинграда более двух лет через местности, еще не очищенные окончательно от белых банд. На реке Индигирке в Абийском улусе он попал в плен к белогвардейцам и даже был продан в рабство одному из местных старшин. Потом он бежал от него и в конце концов добрался до Якутска.
Однако, при всем разнообразии своего происхождения, всех этих юношей объединяла непреклонная жажда учения. Им было все равно, чему учиться: счету и письму, политграмоте, физкультуре, советскому праву, медицине, кооперативному строительству. Они брались за все, не довольствовались длинными учебными часами, организовывали общества и кружки, даже кружок красноречия.
Они словно отстали на десять тысяч лет и теперь хотели догнать и наверстать потерянное в какие-нибудь два-три года: молчали сто веков и теперь стали говорить, говорили три года и не могли умолкнуть.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































