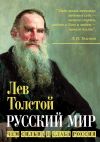Текст книги "Неизвестный Толстой. Тайная жизнь гения"
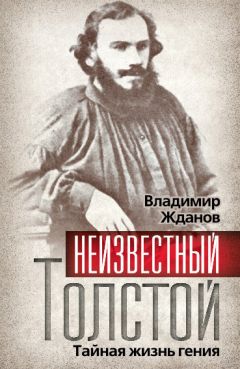
Автор книги: Владимир Жданов
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 23 (всего у книги 30 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
IX
Начало 1895 года открывает новую главу жизни семьи – 23 февраля после короткой болезни скончался младший сын, всеми любимый семилетний Ваничка. Эта смерть оставила неизгладимый отпечаток и имела особые последствия.
Через несколько дней после похорон Софья Андреевна подробно обо всем сообщает сестре: «Ты знаешь, что с 5 января Ваничка болел лихорадкой и целый месяц я мучительно ходила за ним, с предчувствием и болью сердца. Но он выздоровел, давали ему мышьяк, который быстро его поправил. Левочка говорил, что он часто, глядя на то, как поправляется Ваничка, захлебывался от счастья… Во вторник в 11 часов утра Маша повезла его (очень близко от нас) к доктору его, Филатову, посмотреть селезенку. Филатов его тщательно осмотрел и сказал, что он настолько здоров, что может все есть, гулять как можно больше, и ездить. После завтрака он пошел гулять с Сашей, очень вспотел, но отлично обедал. Вечером Маша им читала вслух переделанный Верой Толстой рассказ Диккенса «Большие ожидания», но под заглавием «Дочь каторжника». Когда Ваничка пришел со мной прощаться, я спросила о чтении. Он ужасно грустно глядел и говорит: «Не говори, мама, так все грустно, ужас! Эстелла вышла замуж не за Пипа!» Я его хотела развеселить, но вижу, лицо у него ужасное. Я повела его вниз, он зевает и говорит со слезами: «Ах, мама, опять она, она!» (Он говорил про лихорадку, которой пугался всегда, когда начинался озноб). Я положила градусник – 38 и 5. Так как он жаловался на боль в глазах, я думала, что это корь, так как русская учительница Саши ходила в дом, где корь. Ночью он очень горел, но спал. Утром послали за доктором, он сейчас же сказал, что скарлатина. Уже жар был больше 40 гр. С этим вместе начались боли в животе и сильнейший понос. Он стонал всякий раз, как его слабило. Давали опий и внутрь, и в клистире, но ничего не помогало. К вечеру стало гораздо хуже. Ночью, в три часа, он опомнился, посмотрел на меня и говорит: «Извини, милая мама, что тебя разбудили». Я говорю: я выспалась, милый, мы по очереди сидим. – «А теперь чей будет черед, Танин?» – Нет, Машин, – я говорю. – «Позови Машу, иди спать». И начал меня целовать так крепко, нежно, вытягивая свои сухие губки, и прижимался ко мне. Я спросила его, что болит. Он говорит: «Ничего не болит». – Что же, тоска? – «Да, тоска».
После этого он уже почти не приходил в сознание. Весь день, среду, он горел, изредка стонал; пропускали по капле ему воду. Жар достиг до 42 градусов. Сыпь с утра скрылась. Его обвертывали в простыню, намоченную в горчичную холодную воду; потом сажали в теплую ванну, – ничего не помогало. Он все тише и тише дышал, стали холодеть ножки и ручки, потом он открыл глазки и затих. Это было 23 февраля в 11 часов вечера. При нем были: Маша, Машенька (сестра Левочки), она все молилась и крестила его, няня – и больше никого. Таня все убегала. Я сидела в другой комнате с Левочкой, и мы замерли в диком отчаянии. Когда его одели в белую курточку и расчесали его длинные, кудрявые волосики, я пришла с Левочкой. Он лежал на кушетке, образок мой на груди, восковая свеча в головах, – ах, ужас просто, умирать буду – все в глазах будет эта картина, это несомненное явление смерти, ничем непоправимое, навеки совершившееся. Три дня он стоял, не изменяясь ни капельки. Все дети, люди и я, мы проводили все время у его гробика. Прислали столько венков, цветов, букетов, что вся комната была, как сад. О заразе никто не думал. Все мы страстно примкнули и друг к другу и к любви нашей к покойному Ваничке, все не расставались. Машенька жила у нас и разделяла с нами наше горе так хорошо и душевно. На третий день, 25-го, его отпели, заколотили и в 12 часов отец с сыновьями и Пошей вынесли его и поставили на наши большие 4-местные сани. Гробик и сани были завалены венками и цветами. Сели мы с Левочкой друг против друга и тихо двинулись. И вот, Таня, все время, без единой слезы, пока отпевали Ваничку, я держала его ледяную головку в руках, согревала его мертвые щечки руками и поцелуями, – и я не умерла от горя, и теперь, хоть и плачу над этим письмом, но живу и буду, верно, долго еще жить с этим камнем на сердце!
В доме, когда отпевали, почти никого не было, но на кладбище поехало очень много народу. Было тихо и тепло. Левочка дорогой вспоминал, как он, любя меня, ходил по этой дороге в Покровское, умилялся, плакал и очень ласкал меня словами и воспоминаниями.
Когда мы въехали в Никольское, толпа детей нас стала провожать, любуясь на венки. Это было воскресенье, школы не было, и все ребята гуляли. С саней опять нес гробик Левочка с сыновьями. Все плакали, глядя на старого, убитого горем отца. Да, подумай, Таня, естественно ли нам, седым, хоронить всю самую светлую нашу будущность в этом ребенке? Как его опускали в яму, как засыпали землей, – ничего не помню. Я вдруг куда-то пропала, смутно видела грудь Левочки, к которой он меня прижал, кто-то мне загораживал яму, кто-то держал меня. Потом я узнала, что это был Илюша. Он рыдал ужасно… Я же не пролила ни слезинки и не издала ни одного звука. Опомнилась я, когда мы уже отъехали от могилки, при виде няни, которая из других саней раздавала большой толпе детей и нескольким нищим калачи и большое количество мятных пряников. Дети смеялись и радовались, а я тут разрыдалась, вспомнив, как Ваничка любил всех угощать и праздновать что-нибудь.
И вот мы, осиротелые, с плачем и отчаянием вошли в наш запустелый дом. Сегодня две недели только, как он заболевал, и рана открыта, как была; а всякий день какие-нибудь вещи или просто воспоминания возникают с терзающей душу болью, и выхода я не вижу. А что еще предстоит пережить с весной, с переездом в Ясную, которая и так запустела без вас, без дорогой мне жизни с семьей вашей! Я и подумать не смею о Ясной. Ведь и Ясная получила для меня особенное значение потому, что стала Ваничкина. Всякое деревцо, всякое улучшение, все делалось для него, для его будущего. Левочка, плача, мне говорил: «А я-то мечтал, что Ваничка будет продолжать после меня дело Божье! Что делать!» Смотреть на его скорбь, это еще ужаснее, чем бы одной скорбеть.
Знаешь, Таня, последнее время я точно одурела совсем от заботы о Ваничке. Я почти два месяца из дому не выходила. Мы до того сжились с ним, что вечером он меня отпустить не мог сразу. Помолюсь с ним Богу, я его, он меня перекрестит, потом скажет: «Поцелуй меня покрепче, положи головку свою около моей, подыши мне на грудку, чтоб я заснул с твоим дыханьицем». Когда он заболевал, он говорил: «Вот это воля Божья, мама, что я опять заболел». Он собирался писать Митичке[289]289
Дмитрий Александрович Кузминский (р. 1888), сын Татьяны Андреевны.
[Закрыть] к рожденью и послать подарочек. Не успел, бедный крошка! Таня, милая, ты тоже раз пережила такое горе с Дашей, ты поймешь меня; но то, что я теперь перемучилась и буду еще долго терзаться, этого не поймешь, потому что я уже стара, мы с Левочкой похоронили наше дитя старости…
Вот, Таня, пережила же я Ваничку и дышу, ем, сплю, хожу. Но кто бы хорошенько заглянул в мою душу, тот понял бы, что именно души-то во мне и нет, и если так будет продолжаться, то вынести тех жестоких страданий, которые я переживаю, просто невозможно. Утром, первое пробуждение после короткого мучительного сна – ужасно! Я вскрикиваю от ужаса, начинаю звать Ваничку, хочу его схватить, слышать, целовать, и это бессильно перед пустотой, это – ад! Не слышно никого и ничего в доме теперь, это – могильная тишина. Саша замерла в своем уголке и большими, тоскливыми глазами смотрит на меня и плачет. Девочки свою потребность материнской любви всю перенесли на Ваничку, который бесконечно любил и ласкал всякого, и на всех у него хватало нежности, а теперь и для них исчез. Левочка совсем согнулся, постарел, ходит грустный с светлыми глазами, и видно, что и для него потух последний луч светлый его старости. На 3-й день смерти Ванички он сидел, рыдал и говорит: «В первый раз в жизни я чувствую безвыходность». Как больно было смотреть на него, просто ужас! Сломило и его это горе…
С Ваничкой сразу кончился детский милый, хотя часто безумный, но сложный и веселый мирок. Ни смеху, ни детских шагов, ни игр, ни елок, ни крашенья и катанья яиц, ни горячее первое говенье (он все просил позволить ему говеть), ни все то, что наполняло всю мою жизнь, могу сказать, с детства. Как умел Ваничка ко всему относиться горячо, праздновать, дарить; как он любил писать письма, общаться всячески не только с детьми, но и с людьми. В воскресенье до его смерти все им любовались у Глебовых[290]290
Владимир Петрович Глебов (1848(50?)-1926) и его жена Софья Николаевна (р. 1854(5?), сестра кн. С. Н. Трубецкого.
[Закрыть]. Он оживленно плясал мазурку, со всеми разговаривал, но приехал очень усталый… Не могу больше писать, милая Таня, все мое сердце надорвалось от воспоминаний. Теперь час ночи, завтра опять пробуждение, пустота и жизнь без жизни. Ужас просто! Завтра припишу и отправлю письмо, а сейчас ничего не могу.
И сегодня [приписано на другой день] опять та же мука, делать мне нечего, шатаюсь из угла в угол и плачу, как сумасшедшая. Неужели возможно долго жить с такими страданиями? Все, все от меня отпало, и что ужаснее всего, что у меня осталось восемь человек детей, а я чувствую себя одинокой со своим горем и не могу прицепиться к их существованию, хотя они добры и ласковы со мной очень… Вдруг кончилась жизнь».
Страдания матери безграничны, мучительно и отцу. От нее ушел детский милый мирок, он потерял надежду на преемника в деле Божием. Она переживает трагедию престарелой матери, он плачет и благодарит провидение за величие жизни. Она на границе безумия, он на высоте религиозного экстаза.
«Похоронили Ваничку. Ужасное, – нет, не ужасное, а великое душевное событие. Благодарю тебя, Отец. Благодарю тебя».
«До сих пор все хорошо, прошу Бога, чтобы он помог мне поступить в эти торжественные минуты так, как он хочет. Удивительно приближает к нему, а Он – любовь – смерть».
«Мне бывает минутами жаль, что нет больше здесь с нами этого милого существа, но я останавливаю это чувство и могу это сделать (знаю, что жена не может этого), но основное, главное чувство мое – благодарность за то, что было и есть, и благоговейного страха перед тем, что приблизилось и уяснилось этой смертью».
«Для меня эта смерть была таким же, еще более значительным событием, чем смерть моего брата. Такие смерти (такие в смысле особенно большой любви к умершему и особенной чистоты и высоты духовной умершего) точно раскрывают тайну жизни, так что это откровение возмещает с излишком за потерю».
«Не только не могу сказать, чтобы это было грустное, тяжелое, но прямо говорю, что это… милосердное от Бога, распутывающее ложь жизни, приближающее к нему событие».
В этой катастрофе Лев Николаевич хочет найти еще одну радостную сторону. В отчаянии Софьи Андреевны он усматривает новый, давно желанный сдвиг, и он верит, что смерть сына раскроет перед ней истину, что на склоне лет они духовно объединятся. Отношения становятся теплыми, близкими.
«Жена очень тяжело страдает, но, благодарю Бога, религиозно переносит свое ужасное горе». – «Ребенок был особенно милый и последний, и жене очень тяжело. Но она хорошо несет, и, как всегда, смерть, особенно такого чистого, любящего существа, сближает и дает много духовно хорошего».
«Она, бедная, тяжело борется, но я надеюсь, что духовная природа выйдет победительницей. Я рад, что могу сочувствовать ей в этом и облегчать хоть немного ее положение. Помочь же ей может только Бог, т. е. та внутренняя сила, которая живет в ней. И эта сила просится наружу. И я надеюсь и молю Бога, чтобы она восторжествовала».
«В особенности первые дни я был ослеплен красотою ее души, открывшейся вследствие этого разрыва. Она первые дни не могла переносить никакого кого-нибудь к кому-нибудь выражения нелюбви. Я как-то сказал при ней про лицо, написавшее мне бестактное письмо соболезнования: какой он глупый. Я видел, что это больно резнуло ее по сердцу, так же и в других случаях».
«Под влиянием этой скорби в ней обнаружилось удивительное по красоте ядро души ее». «Боль разрыва сразу освободила ее от всего того, что затемняло ее душу. Как будто раздвинулись двери и обнажилась та божественная сущность любви, которая составляет нашу душу. Она поражала меня первые дни своей удивительной любовностью: все, что только чем-нибудь нарушало любовь, что было осуждением кого-нибудь, чего-нибудь даже, недоброжелательностью, все это оскорбляло, заставляло страдать ее. Заставляло болезненно сжиматься обнажившийся росток любви».
«Соня переходит с тяжелым страданием на новую ступень жизни. Помоги ей, Господи». «Хотя как будто перед людьми совестно, радуюсь и благодарю Бога, – не страстно, восторженно, – а тихо, но искренне, за эту смерть (в смысле плотском), но оживление, воскресение в смысле духовном, – и [ее] и мое. Нынче утром она плакала тихо, и мы хорошо поговорили с ней». «Никогда вы все не были так близки друг к другу, как теперь, и никогда ни в Соне, ни в себе я не чувствовал такой потребности любви и такого отвращения ко всякому разъединению и злу. Никогда я Соню так не любил, как теперь. И от этого мне хорошо».
«Душевная боль ее очень тяжела, хотя, мне думается, не только не опасна, но благотворна и радостна, как роды, как рождение к духовной жизни. Горе ее огромно. Она от всего, что было для нее тяжелого, неразъясненного, смутно тревожащего ее в жизни, спасалась в этой любви, любви страстной и взаимной к действительно особенно духовно, любовно одаренному мальчику. (Он был один из тех детей, которых Бог посылает преждевременно в мир, еще не готовый для них, один из передовых, как ласточки, прилетающие слишком рано и замерзающие.) И вдруг, он взят был у нее, и в жизни мирской, несмотря на ее материнство, у нее как будто ничего не осталось. И она невольно приведена к необходимости подняться в другой духовный мир, в котором она не жила до сих пор. И удивительно, как ее материнство сохранило ее чистой и способной к восприятию духовных истин. Она поражает меня своей духовной чистотой – смирением, особенно. Она еще ищет, но так искренне, всем сердцем, что я уверен, что найдет. Хорошо в ней то, что она покорна воле Бога и только просит его научить ее, как ей жить без существа, в которое вложена была вся сила любви. И до сих пор еще не знает как».
Надеждам Льва Николаевича не суждено было сбыться. Горе Софьи Андреевны не того порядка, из которого возникают глубокие религиозные эмоции. Ее мучения порождались физической болью матери, и эти страдания никак не могут перейти в сферу духа. Трогательность, насыщенность таких переживаний позволяет часто допустить наличие в них религиозного содержания, но в действительности они не выходят за пределы материнской тоски, не выводят в мир, а сжигают на собственном огне.
Льву Николаевичу пришлось скоро в этом убедиться, и он с особенной отчетливостью понял все принципиальное различие жизненных устремлений мужчины и женщины, увидал, что его семейная трагедия построена на этом основании. Прежде казалось, что причина несогласия лежит в неудачном сочетании индивидуальных свойств. Теперь, хоть на минуту, была достигнута предельная душевная близость, но и на эту минуту пути не совпали.
«Время проходит и росток [любви] закрывается опять, и страдание ее перестает находить удовлетворение, vent[291]291
Выход, выражение (англ.).
[Закрыть], в всеобщей любви, и становится неразрешимо мучительно. Она страдает в особенности, потому что предмет любви ее ушел от нее, и ей кажется, что благо ее было в этом предмете, а не в самой любви. Она не может отделять одно от другого; не может религиозно посмотреть на жизнь вообще и на свою. Не может ясно понять, почувствовать, что одно из двух: или смерть, висящая над всеми нами, властна над нами и может разлучать нас и лишать нас блага любви, или смерти нет, а есть ряд изменений, совершающихся со всеми нами, в числе которых одно из самых значительных есть смерть, и что изменения эти совершаются над всеми нами, различно сочетаясь – одни прежде, другие после – как волны. Я стараюсь помочь ей, но вижу, что до сих пор не помог ей. Но я люблю ее, и мне тяжело и хорошо быть с ней».
«Как ни больно видеть страдания жены, не имеющей религиозной точки опоры, и как ни безнадежно иногда кажется передать ей эту точку опоры, я не отчаиваюсь и говорю ей все одно и одно, что смерть Ванички есть только маленький, крошечный эпизод жизни, что есть другая жизнь, вечная, Божеская, которой мы можем быть участниками, и такая, живя которой, нет зла, нет горя. Я рад, что она хоть слушает меня и не раздражается, и надеюсь, что от Бога в моих словах, то западет в ее душу».
«Соня все так же страдает, и не может подняться на религиозную высоту». «На ней поразительно видно, как страшно опасно всю жизнь положить в чем бы то ни было, кроме служения Богу. В ней теперь нет жизни. Она бьется и не может еще выбиться в область Божескую, т. е. духовной жизни. Вернуться же к другим интересам мирской жизни, к другим детям, она хочет, но не может, потому что жизнь с Ваничкой и по его возрасту и милым свойствам была самая высокая, нежная, чистая. А вкусив сладкого, не хочется не только горького, но и менее сладкого. Один выход ей – духовная жизнь, Бог, и служение ему ради духовных целей на земле. Я с волнением жду, найдет ли она этот путь. Мне кажется, так бы просто ей было понять меня, примкнуть ко мне, но, удивительное дело, она ищет везде, но только не подле себя, как будто, не то, что не может понять, но не хочет нарочно, понимает превратно. А как бы ей легко было, тем более, что она любит меня. Но горе в том, что она любит меня такого, какого уже нет давно. А того, какой есть, она не признает, он ей кажется чужд, страшен, опасен. Мало того, она имеет rancune[292]292
Злость, обида (фр.).
[Закрыть] против него, в чем, разумеется, я виноват. Но я не отчаиваюсь и всеми силами души желаю этого, и надеюсь, и делаю, что умею». «Все то прекрасное духовное, что открылось тотчас после смерти Вани, и от проявления и развития чего я ждал так много, опять закрылось, и осталось одно отчаяние и эгоистическое горе».
«Страшно трагично положение матери. Природа вложила в нее прежде всего неудержимую похоть (то же она вложила и в мужчину, но в мужчине это не имеет тех роковых последствий – рождение детей), последствием которой являются дети, к которым вложена еще более сильная любовь и любовь телесная, так как и ношение, и рождение, и кормление, и выхаживание есть дело телесное. Женщина, хорошая женщина, полагает всю свою душу на детей, отдает всю себя, усваивает душевную привычку жить только для них и ими (самый страшный соблазн; тем более, что все не только одобряют, но восхваляют это); проходят года, и эти дети начинают отходить – в жизнь или смерть; первым способом медленно, отплачивая за любовь досадой, как на привешенную на шею колоду, мешающую жить, или вторым способом, смертью, мгновенно производя страшную боль и оставляя пустоту. Жить надо, а жить нечем. Нет привычки, нет даже сил для духовной жизни, потому что все силы эти затрачены на детей, которых уже нет»[293]293
Дневник, 25 апреля 1895 г. Эту мысль Л. Н-ч предполагал вложить в новое художественное произведение. Запись дневника он заканчивает следующими словами: «Вот что надо бы высказать в романе матери».
[Закрыть].
«Всего больше число страданий, вытекающих из общения мужчин и женщин, происходит от совершенного непонимания одного пола другим. Редкий мужчина понимает, что значат для женщин дети, какое место они занимают в их жизни, и еще более редкая женщина понимает, что значит для мужчины долг чести, долг общественный, долг религиозный».
Горе Софьи Андреевны безысходно. Оно все застилает перед ней. И время не залечило ран, и острота не уменьшилась.
По возвращении от сестры из Киева она пишет: «Въехав в дом, пустой без Ванички, я почувствовала такое отчаяние и пустоту, что до сих пор, не переставая, громко и безумно плачу, скрываясь от всех; и не в состоянии одолеть себя… Опять Ясенки, Ясная, Козловка, Тула – и слезы, печаль, тоска по отжитом, счастливом и невозвратном… Очень мне эти дни тяжело, все вновь пережила, все горести и воспоминания: стараюсь взяться за дела, но все неважно мне и тяжело. Ну, да что об этом говорить! Теперь жизнь моя кончена».
«Здесь все – страданье. Здесь больше, чем в Москве, где постоянно видишь людей, чувствуешь свое одиночество и свою потерю того, что мне было дороже всего на свете – любви, участия и общества Ванички и тебя. Мы все живем здесь врознь и сходимся только к repas[294]294
Ужин (фр.).
[Закрыть]. Вчера Левочка трогательно позвал меня погулять. Я пошла с ним, но расстроила его очень, потому что плакала все время; и кроме этого единственного раза, я никуда ни разу не вышла из дому; даже в сад не ходила и не хожу, совсем не могу. Нет для меня ничего: ни природы, ни солнца, ни цветов, ни купанья, ни хозяйства, ни даже детей. Все мертво, на всем могильная тоска».
«Ничего на меня не действует, ничто не волнует, кроме одного живучего и жгучего чувства тоски и безвыходного горя без Ванички. Я тут истомилась ужасно. Даже страшно делается порою, до чего я живо везде вижу Ваничку. По купальной дороге не могу совсем ездить, и во все лето, и то в компании, и только четыре раза купалась. Какая польза от купанья, когда всю дорогу плачешь взад и вперед. Ведь все бугорки с белыми грибками и боровиками, все деревца, все местечки – все мы с ним находили, везде исходили, и теперь смотришь в пустоту, душа разрывается, глотаешь слезы, чтоб других не расстраивать и не мешать жить, да и разразишься рыданьями одна, дома, в своей комнате, перед портретом Ванички, и плачешь, плачешь, просто мука! Перед свадьбой Сережи[295]295
Сергей Львович Толстой 9 июля 1895 г. женился на Марии Константиновне Рачинской (1865–1900).
[Закрыть] стало немного легче, а теперь ждать нечего, все стало все равно, и только жду, жду, с болезненным нетерпением, что кончится когда-нибудь моя мучительная жизнь, жизнь тела, томящегося без души, а душу унес с собой Ваничка».
«Пока Левочка жив, еще и я жива, а потом уйду куда-нибудь при монастыре жить. Есть женский монастырь в 1/2. версте от могилки Ванички и Алеши; там я хочу кончить жизнь».
Отношения Софьи Андреевны и Льва Николаевича продолжают быть теплыми, ласковыми. Порою возникают прежние несогласия («по старым ранам»), поднимаются снова тяжелые вопросы «о сочинениях и доходе с них, разделе, воровстве, вегетарианстве», но все это стушевывается, оставляя место жалости и любви.
В октябре, проводив Софью Андреевну в Москву, Лев Николаевич записывает в дневнике: «Сейчас уехала Соня с Сашей. Она сидела уже в коляске, и мне стало страшно жалко ее: не то, что она уезжает, а жалко ее, ее душу. И сейчас жалко так, что насилу удерживаю слезы. Мне жалко то, что ей тяжело, грустно, одиноко. У ней я один, за которого она держится, и в глубине души она боится, что я не люблю ее, не люблю ее, как могу любить всей душой, и что причина того – наша разница взглядов на жизнь. И она думает, что я не люблю ее за то, что она не пришла ко мне. Не думай этого. Еще больше люблю тебя, все понимаю и знаю, что ты не могла, не могла придти ко мне, и оттого осталась одинока. Но ты не одинока. Я с тобой, я такую, какая ты есть, люблю тебя и люблю до конца, так, как больше любить нельзя».
Письмо жене: «Хотел тебе написать, милый друг, в самый день твоего отъезда, под свежим впечатлением того чувства, которое испытал, а вот прошло полтора дня, и только сегодня, 25-го, пишу. Чувство, которое я испытывал, было странное умиление, жалость и совершенно новая любовь к тебе, любовь такая, при которой я совершенно перенесся в тебя и испытал то самое, что ты испытывала. Это такое святое, хорошее чувство, что не надо бы говорить про него, да знаю, что ты будешь рада слышать это, и знаю, что от того, что я выскажу его, оно не изменится. Напротив, начавши писать тебе, испытываю то же. Странно это чувство наше, как вечерняя заря. Только изредка тучки твоего несогласия со мной и моего с тобой уменьшают этот свет. Я все надеюсь, что они разойдутся перед ночью и что закат будет совсем светлый и ясный».
Ответ Софьи Андреевны: «Сегодня такая радость была и твое письмо, и Левино, и отношение мальчиков ко мне. Те облачка, которые, как тебе кажутся, еще затемняют иногда наши хорошие отношения, совсем не страшны; они часто внешние – результат жизни, привычек, лень их изменить, слабость, но совсем не вытекающие из внутренних причин. Внутреннее – самая основа наших отношений – остается серьезная, твердая и согласная. Мы оба знаем, что хорошо и что дурно, и мы оба любим друг друга. Спасибо и за это. И мы оба смотрим на одну точку, на выходную дверь из этой жизни, не боимся ее, идем вместе и стремимся к одной цели – Божеской. Какими бы путями мы ни шли, это все равно».
«Письма твои, ласковые и добрые как свет изнутри, мне все освещают». «Точно ты мне открыл свои душевные двери, которые долго были заперты от меня крепким замком; и теперь мне все хочется входить в эти двери и быть душевно с тобой. В прежних наших разлуках нам часто хотелось сойтись для жизни совместной материальной; теперь же естественно и непременно должно прийти к тому, чтоб нам врознь было душевно одиноко и чтоб душевно хотелось жить одной жизнью».
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?