Текст книги "Тишайший (сборник)"
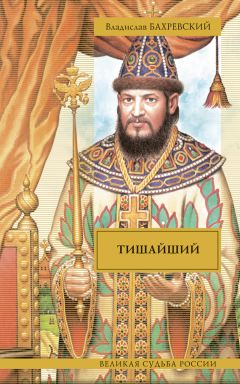
Автор книги: Владислав Бахревский
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 19 (всего у книги 39 страниц)
Ни на какую потеху глаза не глядят. Страшно. Судьбы страшно. Как бы судьба и Марию Ильиничну не выкрала.
Третью ночь кряду над государем бессонница мудрует. Только забылся – Евфимия к нему идет. Лицо милое, в слезах. Руки тянет, а он вдруг засмеялся. И до того жутко ему стало от своего кощунственного смеха – пустился бежать. От себя уж, что ли? Бежал, продирался сквозь дремучий лес, а прибежал на то же самое место, к ней, к Евфимии Федоровне. Она его дареным платком лицо закрыла и уже не обе руки – одну протянула, словно бы за милостыней.
Алексей Михайлович сел на постели. Дышать нечем. Перестарались истопники. Изразцы пышут жаром, как печати дьявола.
Вспомнил имя дьявола, перекрестился. Из головы не шел сон: протянутая за милостыней рука Евфимии.
– Надо раздать милостыню! – решил Алексей Михайлович и велел Федору Ртищеву, ночевавшему с ним, одеваться.
Возле тюрьмы Земского приказа шло строительство.
– Леонтий Стефанович расширить велел, – сказал царю целовальник. – Пока новый дом ставим, для сидельцев нарыли ямы.
Царь знал: в московских тюрьмах три-четыре сотни горемычных.
– Сколько же у вас… тут?
– Девать некуда! Больше трех сотен!
Государь озадачился: милостыни он захватил человек на пятьдесят. Поглядел на Ртищева:
– Одари милостыней тех, кто в земляных тюрьмах томится.
В земляных тюрьмах тоже было тесно.
– Теплее так, – объяснил целовальник, – одним дыхом греются.
Опустили в яму фонарь, на дне ямы зашевелились, заворчали, заругались.
– Молчать! – рявкнул целовальник. – С милостыней к вам.
Царь заглянул в окошко, через которое подавали сидельцам еду и питье и через которое выбрасывали нечистоты.
Вонь ударила как обухом, но государь не поморщился: не впервой награждать милостыней заблудших.
– Сколько вас? – спросил государь.
– Двенадцать душ! – ответили снизу.
– Вот на артель вашу! – Царь протянул вниз руку и кинул в чью-то ладонь ефимок.
– Спаси тебя Бог! – сказал артельщик.
– Государь! – истошно закричал зажатый в угол человек. – Государь, отчего я здесь? Помилуй, государь! Сжалься! Не виновен!
– Кто ты? – удивился Алексей Михайлович отчаянью человека, правдивости отчаянья.
– Устюжанин Васька! Торговый человек. На прошлой неделе у руки твоей был, государь. Целовал!
Алексей Михайлович вгляделся в лицо несчастного.
– Оклеветали меня, государь! Разбойники оклеветали! Будто я человека убил, а я мухи… мухи… – И Васька Устюжанин зарыдал.
– Не огорчайся! – сказал Алексей Михайлович. – Я похлопочу перед Леонтием Стефановичем, он человек добрый.
8
В воскресенье шестнадцатого января в Успенском соборе состоялось венчание Алексея Михайловича Романова с Марией Ильиничной Милославской.
Свадьбу не играли – свадьбу отслужили. Обошлись без музыки, без плясунов, без потешников, к великой душевной радости Стефана Вонифатьевича и ревнителей благочестия, но без пиров не обошлось.
В первый день своей радости государь был одет в тафтяную сорочку с ожерельем, в тафтяные червчатые порты. Пояс на нем был златокованый, шуба русская, крытая венецианским бархатом, малиновым да зеленым шелком, круги серебряные по шубе были велики, в них малые золотые круги с каменьями и жемчугом. Шапка на государе была червчатая, большая, новая, колпак большой, весь обнизан жемчугом и каменьями. Башмаки шиты волоченым золотом и серебром по червчатому сафьяну.
Марья Ильинична одета была тоже из Большой казны.
Пир шел шесть дней, и все эти дни царь и царица принимали подарки.
Ртищевы, старший, Михаил Алексеевич, постельничий, и сын его, Федор Михайлович, получили соболей из казны, чтоб на свадьбе ударить челом государю и благоверной царице. В свадебном действе им было отведено место не больно видное, но важное – стояли у мыльни царя.
Посаженым отцом конечно же был Борис Иванович Морозов, посаженой матерью – жена Глеба Ивановича Морозова, Авдотья Алексеевна. Сам Глеб Иванович с Ильей Даниловичем Милославским охранял сенник, где помещалось брачное ложе.
С Милославскими ближних людей прибавилось, появились имена малознакомые. Предпоследним среди сверстанных на царской свадьбе стоял Прокопий Федорович Соковнин. Он был провожатым у саней царицы, а сын его, Федор, был предпоследним среди стольников-поезжан.
Через месяц после свадьбы Прокопий Федорович станет дворецким у царицы и будет сидеть за поставцом царицыного стола, отпускать ествы.
А через два месяца получит чин окольничего.
Илья Данилович Милославский окольничего получил к свадьбе дочери, а через две недели, второго февраля, его пожаловали в бояре.
Милославские были выходцами из Литвы. Некий дворянин Вячеслав Сигизмундович прибыл в Москву в свите Софьи Витовны, невесты великого князя Василия Первого, в 1390 году. Внук Вячеслава Терентий принял фамилию Милославского. Высоко Милославские не взлетали, но всегда были при деле. Дед Марии Ильиничны Данило Иванович служил воеводой в Верхотурье, а потом в Курске. Сам Илья Данилович до своего нечаянного счастья был стольником, наместником медынским, посланником в Константинополе, в Голландии, служил кравчим у знаменитейшего дьяка Посольского приказа Ивана Грамотина, с которым был в родстве.
Теснили новые люди старое боярство.
Петру Тихоновичу Траханиотову невелика была честь на царской свадьбе – скляницу с вином в церковь нес, но то уже было дорого, что вниманием почтили.
…На четвертый день государевой радости патриарх Иосиф благословил государя образом всемилостивого Спаса, а государыню – образом Пречистыя Богородица взыграние Младенца.
Государю патриарх подарил сто золотых червонцев, и государыне тоже сто, а также кубки, атласы, объяри, камки, тафту, соболей, бархаты.
В седьмой день государь и государыня отправились в Троице-Сергиеву лавру, а еще через два дня они были на свадьбе ближнего боярина Бориса Ивановича Морозова и Анны Ильиничны Милославской, красавицы смуглянки.
Глава девятнадцатая1
Вдовствующая пятилетняя дочь падишаха Османской империи Ибрагима вернулась в сераль и принесла своему отцу наследство умерщвленного капудан-паши. Ибрагим, не долго думая, снова выдал ее замуж, теперь за великого визиря Мегмета. Это была награда визирю за подавление бунта.
Войска долго не могли смириться с нелепой гибелью Жузефа-паши. Волновались янычары, народ волновался, и падишах Ибрагим уехал из Истамбула в Адрианополь, но и там к нему явились начальники янычар и потребовали даров.
– Войска дарят только при вступлении в войну, – ответил падишах, – а мы уже давно воюем, и очень плохо воюем, и неизвестно, сколько еще будем воевать, ибо таковы наши войска!
Великий визирь Мегмет приказал тайно убить начальников янычар, и начальники были убиты. Волнения прекратились, падишах Ибрагим вернулся в столицу.
Теперь он вел переговоры только со старой своей наложницей Кесбан. Все его помыслы были заняты одним: как заполучить Регель – так звали красавицу, у которой каштановые волосы по щиколотку, груди – как нераспустившиеся бутоны белой розы и у которой была родинка, но где…
Падишах Турции может иметь четырех жен и много тысяч наложниц, но не в его воле насильно взять в сераль турчанку.
Мало того что красавица Регель была турчанка; она оказалась дочерью великого муфти – третьего человека империи, после падишаха и великого визиря, ибо великий муфти – глава духовенства.
Ибрагим знал, что требовать Регель в жены – значит получить отказ, но в благоразумии падишаху отказала сама природа. Он послал к великому муфти главного евнуха, и главный евнух принес ответ: «Дочь муфти – не невольница».
Теперь вся надежда была на змеиную хитрость Кесбан.
Ибрагим отправил верную старую наложницу к Регель со словами огнепышащей любви и со шкатулкой, в которой лежала диадема, стоимостью равная четырем большим купеческим кораблям.
Падишах ждал Кесбан в саду, на берегу Босфора. Зима стерла краски с земли и неба, но в четырех стенах Ибрагима сами стены бесили. Он долго водил подзорной трубой, разглядывая противоположный берег, спохватился: все, что увидел, прошло мимо него. Оставил трубу, глядел на воду, на небо. И, чтоб хоть как-то убить время, приказал позвать хранителя книг.
– Скажи мне что-нибудь очень удивительное и в то же время умное, но чтоб это было действительно удивительное и умное… и еще – чтобы я понял тебя.
Книжный человек поклонился:
– Убежище веры! Чудесам мира несть числа, как несть числа звездам, – сказал он, – но что может сравниться с движением и круговращением небесных сфер, Солнца и Луны? Что может сравниться с мудростью и непостижимостью смены дня и ночи, зимы и лета? Но мы видим это постоянно, свыклись с этим и, увы, не удивляемся.
Ибрагим вдруг засмеялся:
– Я всегда робел перед ученостью улемов, но ты ошибаешься, мудрец. Есть на белом свете еще более непостижимое и чудесное, чем смена дня и ночи, чем движение Луны и Солнца. Это непостижимое и прекрасное – женщина. Нам не дано насытиться ее красотой, и познать ее нам тоже не дано.
– Великий падишах, я преклоняюсь пред светочем твоего царственного разума.
Ибрагим посмотрел на коленопреклоненного грустными серьезными глазами:
– Я знаю, каковы они – достоинства моего ума. Я получил от Аллаха не меньше, чем другие, но я слишком долго сидел в яме, каждый день ожидая насильственной смерти. Ступай, мудрец, ты меня утешил.
И тут к падишаху привели Кесбан. Она бросилась в ноги Ибрагиму:
– Вот ее ответ, величайший из величайших.
Старая наложница разжала ладонь. На ее ладони лежал алмаз.
– Я от своего не отступлюсь, – сказал Ибрагим, багровея. – Пусть ее выследят на улице, схватят и доставят в сераль!
2
В первый раз, кажется, за всю свою жизнь падишах Ибрагим не притронулся к завтраку.
Когда пришло время убирать блюда, вошел главный евнух:
– Великий падишах, красавица Регель доставлена в Сераль!
Ибрагим вскочил:
– Лучшие одежды! Лекарей! Горе им, если на моем лице не взыграет румянец!
На Ибрагима полыхнули черные огромные глаза.
«Каков стан! Какие округлости!» Падишаха забила мелкая животная дрожь.
– Кто создал сей ослепительный сосуд жизни! – закричал он.
– Я – дочь великого муфти, – спокойно ответила Регель. – И ты, падишах, знаешь об этом.
– Аллах! Таких гордых и прекрасных речей я не слышал во всю мою жизнь. Твои губы – лепестки розы!
– Падишах, прикажи подать паланкин. Меня ждут в доме моего отца.
– Я был бы безумцем, если бы отпустил мою птицу Симург. Ты – моя судьба.
– О Аллах! Если этот человек возьмет меня силой, пусть его торжество будет последним в его жизни. Пусть этот день будет последним его днем.
Ибрагим заслонился от ужасных слов руками:
– Будь милосердна! Зачем ты кличешь беды на мою голову? Я – падишах. Моя беда – беда для всех турок. Регель, я ослеплен тобою, я умираю от желания.
– Ну так умри!
Ибрагим выбежал из комнаты своей пленницы:
– Все сокровища к ее ногам!
И перед Регель сыпали жемчуг и алмазы, рубины, изумруды, бирюзу, золотые кубки, оружие в чеканке и каменьях – ни единой пяди пола не осталось не закрытой драгоценностями. И одну вещь Регель взяла – кинжал.
– Это все твое! – сказал Ибрагим, сам удивленный россыпью несметного сокровища.
– Падишах, ни одна женщина в мире не видела такого зрелища. Отпусти меня, свобода мне дороже.
– Ты ревнуешь меня к моим наложницам? Позовите весь гарем! – приказал Ибрагим. – Пусть все наложницы поклонятся златоликой Регель.
Перед дочерью великого муфти два часа шли, кланяясь, красавицы: белые как снег, черные как ночь, златоволосые, пышные, хрупкие, и башнеподобные, и будто выточенные из слоновой кости.
– Регель, по одному твоему слову я прогоню их всех из моего гарема. Ты одна мне заменишь его! – Падишах кинулся на колени перед своей пленницей.
– Отпусти меня домой, падишах, – тихо сказала Регель.
– Тогда я тебя возьму силой. – Ибрагим сбросил с себя халат.
– Не приближайся! Я перекушу тебе горло, проклятый вонючий идиот!
Регель ногтями располосовала себе лицо.
– Отнесите ее к отцу! – Ибрагим погас, мир стал для него серым.
3
– Великий падишах! Великий визирь умоляет допустить его до твоих очей! – доложил главный евнух.
– Что ему? – спросил Ибрагим.
– Янычары требуют его жизни.
– Пусть войдет, – разрешил Ибрагим и сказал тотчас явившемуся Мегмету-паше: – Пожалей меня, друг мой! Мое сердце разбито.
– Падишах! – закричал Мегмет-паша. – Меня хотят убить. В городе паника. Янычары заперли ворота и никого не выпускают. Великий муфти собрал недовольных тобой в мечети Ортадиами.
– Какое противоядие ты нашел? – спросил Ибрагим, разглядывая и трогая прыщик на запястье.
– Убежище веры! Я прошу защитить меня. По твоей просьбе я умертвил начальников янычар…
– Не теряй головы, Мегмет-паша! Прикажи послать к бунтовщикам бостанжи-пашу с приказанием разойтись по домам.
– Я послал к ним бостанжи-пашу, но в ответ великий муфти прислал фетьфь к тебе, великий падишах. Вот она. – Мегмет-паша протянул Ибрагиму свиток. – Меня осудили на смерть.
– Спрячься в моих покоях, я сам отвечу великому муфти. Слава Аллаху, его дочь я отослал к нему.
Падишах Ибрагим отправился в тронную залу.
Посланцам великого муфти и бунтующих янычар он сказал:
– Великий визирь Мегмет-паша, может быть, и виноват в смерти янычарских аг, но он зять падишаха. Он – мой зять, и я не желаю ему смерти.
Сераль, как после молнии, затих, съежился, ожидая страшного удара. Падишах Ибрагим из тронной залы не ушел, ждал.
Раздались шаги. Явились новые посланцы, они вели под руки древнего старика. Это был восьмидесятилетний Мурад-паша, спага-агаси – начальник придворной кавалерии.
– Убежище веры! – воздел руки к небу трясущийся старец. – Видит Аллах, против моей воли меня избрали великим визирем. Заклинаю тебя, ясноликий падишах, пошли им голову Мегмет-паши. Они все пришли сюда. Они стоят у дверей сераля.
– Пес! – Ибрагим подбежал к старику и стал бить его по щекам. – Ты возжег мятеж, алкая стать визирем! Я сам погашу его! Ты первым увидишь, как я умею управляться.
Ибрагим схватил старика за ухо, подвел к дверям и вытолкнул вон.
4
Ибрагим торжествовал победу: вон как лихо он расправился с возмутителями покоя. А в это же самое время у дверей его гарема красавица Регель и великий муфти держали огонь, требуя суда валиде Кёзем-султан.
Мать падишахов вышла к ним, покрытая фатой, с главным евнухом и со всеми другими скопцами. Евнухи несли опахала и дымящиеся жаровни. Это был безмолвный ответ матери падишаха на требование корпуса улемов. Кёзем-султан была согласна свергнуть сына с престола.
В диване великого визиря высокие чины империи решили взять все имущество Мегмет-паши в казну, а его самого казнить.
Мегмет-пашу нашли в покоях падишаха Ибрагима и тотчас удушили.
Брошенный всеми, Ибрагим сидел на троне в пустой зале. Он просидел так всю ночь, а наутро за ним никто не пришел, но он упрямо не сходил с верховного места во всей подлунной, словно оно и впрямь было недосягаемо для человеческих страстей.
Утром в мечети Ая-Софья великий муфти произнес слово против падишаха Ибрагима:
– Великий Мурад Четвертый оставил нам империю процветающей. Еще не минуло десяти лет со дня его скоропостижной смерти, и что же мы зрим? Области и провинции разорены, истощена казна государственная, флот обращен в ничтожество. Христиане овладели частью Далмации, морские суда Венеции осаждают замки на Дарданеллах. Великолепное ополчение правоверных почти истребилось… Один только человек винотворец нашему упадку и позору! Этот человек самой природой лишен всякой способности царствовать.
Новый великий визирь, старец Мурад-паша, и великий муфти послали падишаху Ибрагиму фетьфь, в которой требовали явиться в назначенный день и час в мечеть Ая-Софью и дать отчет о делах империи.
Фетьфь понес ага янычар с высшими военачальниками.
Ибрагим фетьфь разорвал не читая.
– Я прикажу задушить и Регель, и великого муфти, – закричал он, топая ногами.
Ага янычар ответил ему:
– Твоя собственная жизнь, падишах, а не жизнь великого муфти в опасности. Разве что я упрошу, чтоб дали тебе окончить дни твои в заточении.
– Неужели среди вас, моих слуг, нет ни одного, который пожелал бы умереть за меня, защищая честь имени Османов?! – воскликнул падишах, зарыдал и кинулся к матери, к великой Кёзем-султан.
– Твое спасение в отречении от престола, – сказала она сыну, глядя в окно.
От великого муфти между тем принесли новую фетьфь. Она была короткой: «Султан – нарушитель Корана – есть неверный и недостоин владеть мусульманами».
Падишаху Ибрагиму прочитали эту фетьфь и отвели в темницу, туда же посадили Кесбан и престарелых невольниц.
5
На высоком троне Османской империи оказался Магомет IV, семилетний сын Ибрагима. Регентство получили мать малолетнего падишаха валиде Турган-султан и неувядающая Кёзем-султан.
Для Кёзем-султан это был последний удачный переворот. Через некоторое время она сделает попытку свалить внука и наконец-то заплатит за все свои козни жизнью.
Но это произойдет много позже, а пока новый падишах подтвердил первое решение своего правительства: султану Ибрагиму была назначена смертная казнь.
В тюрьму нагрянули вельможи. Двери темниц отворились. Новый падишах выпустил на свободу узников бывшего падишаха.
В тюремные покои Ибрагима вошли люди. Ибрагим сразу догадался, зачем они пожаловали к нему.
– Я хочу помолиться, – сказал он им и опустился на молитвенный коврик.
Когда-то султан Ибрагим страшился смерти. Теперь он был другой. Он получил от жизни все, о чем мечтал, сидя в зловонных ямах, куда время от времени бросал его Мурад IV. Не получил он от жизни любви наложницы Мурада Дильрукеш да любви Регель. Да еще счастья не получил, но счастье падишахам неведомо.
Палачи не смели приступить к своему делу. Вельможи Магомета IV принялись колотить палачей палками.
– Оставьте их, – попросил Ибрагим, – они соберутся с силами и возьмут мою жизнь… Я закрою глаза, чтоб им легче было.
6
Тимошка Анкудинов шел, держась за руку с Костькой Конюховым. Они шли, не оглядываясь на свой каменный замок.
– Пока они заняты друг другом, – говорил Тимошка, – пока они будут делить места и добычу, нам надо улизнуть из этой проворной на расправу страны.
– Куда же мы теперь? – спросил Костька.
– А теперь мы с тобой к папе римскому пожалуем. У него на Московию давно уже зуб наточен.
– Рим – это хорошо, – согласился Костька. – Надоели мне эти визири, минареты, муэдзины. Как оглашенные орут. Только заснешь – они орут.
7
Был Тимошка у папы римского, поменял ислам на католицизм, с тем и прибыл к чигиринскому двору гетмана Богдана Хмельницкого. Замутила щука воду, но московские дьяки, острогами вооружась, испортили щучью охоту. Пришлось Тимошке в который раз бежать. Бежал он с личным посланием будущего предателя генерального писаря Выговского к семиградскому князю Ракоци II.
В 1650, грозном для царского самодержавия, году восстали псковичи, и Тимошка прикатил в Ревель. Он уже коня себе белого приготовил для торжественного вступления в пределы русские, деньжонок у врагов московского царя наскреб, собрал тысячу головорезов, но псковичи не пустили изменника в славный город свой.
Околачивался Тимошка при дворе шведской королевы, жил у герцога Леопольда в Брабанте, потом перебрался в Лейпциг. В Виттенберге принял аугсбургское исповедание, нигде покоя не нашел.
Перебежал в Голштинию. Тут и схвачен был русским купцом Петром Миклафом. С пеной у рта доказывал Тимошка на следствии, что не русский он, не русский! Но герцог Шлезвиг-Голштинский за малую услугу выдал Анкудинова московскому царю.
После многих пыток и допросов смутьяна и самозванца четвертовали на Лобном месте.
И было его недоброго, но удивительного жития тридцать шесть лет.
Часть третья
Глава двадцатая1
В Вербное воскресенье Москва проснулась задолго до света. Помолившись, с нетерпением ждала солнца, а чтобы не выказать суетливости и чрезмерной охотки, не подобающих государству Российскому, стольному граду, наследнику славы святого Константинополя, Рима, древнего Киева и собственной древности, чтобы от самой себя скрыть детство свое, – Москва ханжески позевывала, закатывала глаза на иконы и благоверно вздыхала.
Государь Алексей Михайлович поднялся в тот день, по своему обычаю, в четыре часа. Постельничий Михаил Алексеевич Ртищев, гоняя постельников и стряпчих, убрал царя. Царь помолился в одиночестве, а потом с женою, царицей Марией Ильиничной, пошел к заутрене в Благовещенскую церковь. Вместе с царем службу слушали ближние бояре, родовитейшие князья и высокие думные дворяне.
Все собрались ради праздника и величайшего в Московском государстве праздничного действа.
Москва тем временем охорашивалась, как селезень перед утицей. Перышко к перышку, и каждое перышко с отливом.
На Красной площади расцвел превеликий маков цвет. Был тот цветочек Лобным местом. Укрыли его алыми сукнами, увенчали налоем, крытым зеленым бархатом, а на бархат положили Евангелие. Выставили иконы Иоанна Предтечи, чудотворца Николы, Казанской Богородицы.
От Лобного места к Спасским воротам дорогу оградили надолбы, крытые красным сукном.
В приказе Большого дворца дьяки рядили огромную вербу. Чего только не навешали на нее: яблоки, цветы, заморские сушеные фрукты в расшитых мешочках, зелень, детские игрушки, крестики, иконки, ветки пальм, а по-другому – вайи… Вербу привезли на Красную площадь в санях, поставили у Лобного места, на вербу посадили четырех певчих мальчиков.
Возле кремлевских кладовых стоял высокий веселый гомон, точно галочья стая слетела с осеннего поля. Это восемьсот счастливых мальчиков, стрелецких детей, получили разноцветные кафтаны и сукна, чтобы метать их под ноги шествию, а в награду – пряники да денежки.
Солнце взошло наконец. Москвичи потянулись на Красную площадь. Кто в чем… да в том, чтоб соседа переплюнуть, щеголиху перещеголять, богатому – чтоб богатого перебогатить, нищему – нищего перенищенствовать, калеке – калеку перекалековать!
Только ведь перед грязью все равны. А грязи в Москве – лошади по брюхо, мужику пешему по грудь, бабонькам по шею. А Москве – весело! Коль перед грязью все равны, стало быть, в грязи-то все ровня.
Словно козлики, словно козочки! Горожане с горожанками, дворяне с дворянками, купцы с купчихами, стрельцы со стрельчихами, попы с попадьями – с доски на досочку, с кирпича на кирпичик, где по бревнышку, где по жердочке, а где – Боже ты мой! – через мост.
Прыг да скок.
Сам в грязь – и жену уволок!
На Кукуе мо́лодцы, до молодиц молодцы, сапоги надели до того высокие, аж дальше некуда.
– А ну, ласточки! Садись на руки – в колыбельке-то давно, чай, не качались!
– Ах, ведь и не упомним!
– А давно ли венчались?
– Упаси Боже!
– Гоже!
Молодцов было шестеро, а желающие переехать через грязь тоже были.
Дошла очередь дворяночки, а дворяночка со служанкою. Ох уж эти служанки! Ноги быстры, глаза шустры, язык остер, что тебе осетр!
Служаночку-то и подхватили молодцы как пушиночку, поставили на место сухо, с поклоном и норовят вслед за ней, оставивши госпожу.
– С ума спятили! – шепчет молодка. – Со света она меня сживет за ваши шуточки. Не погубите!
Посмотрели ребята на дворяночку издали – царь-колокольня. Платье золотыми цветами расшито, каждый цветок с блин, а в самой-то дворяночке то ли десять пудов, то ли шестнадцать. Перемигнулись ребята и пошли.
Села дворяночка на руки – будто ветер тополям вершинки пригнул. Шаг вперед, а другой – куда занесет. Шли-шли да и разжали руки, бесстыдники. А дворяночка не будь дурой – правой ручкой правого, левой левого да всех шестерых и утащила с собой. А того, что у нее в правой-то был, на воздуси подняла, а того, что в левой был, тоже. И, поднявши, стукнула их лоб об лоб, плюнула сначала правому в очи, потом уж и левому и пошла себе к служанке.
Служанка вокруг госпожи захлопотала, принесла из лужи воды в шапочке своей. Обмыла кормилицу, обчистила, сама, чтоб той не обидно было, попачкалась.
И пошли они дальше, пошли сохнуть на площадь Красную. Ветерок по Москве гулял не холодный, а в толпе, где каждый третий в грязи увяз, – не стыдно.
2
В дом к драгунскому начальнику Лазореву зашла принаряженная соседка, жена протопопа Казанской церкви Ивана Неронова.
– Любаша, готова ли? – по-волжски пропела она.
– Готова, матушка!
Любаша вышла в горницу в праздничном одеянии. На голове кика, шитая золотом, с жемчужными нитями, окаймляющими лицо, с жемчужной поднизью, ниспадающей на лоб. Убрус с золотым шитьем низан жемчугом. Стоячий воротник, ожерелье, тоже в жемчуге. Опашень голубой, шелковый, на бобровом пуху. От подола к рукавам – вошвы из алого атласа, шитые зелеными камушками: хризолитами, изумрудами, кошачьим глазком.
– Царица! – всплеснула руками протопопица.
– Чай, теперь полковничья жена! – засмеялась Любаша, сама смущенная великолепием и красотой своего нового наряда: отец, провожая дочку в стольный град, подарок сделал.
– Пошли, не опоздать бы! – спохватилась протопопица.
Покрестились на иконы, пошли-посеменили на Красную площадь.
Лазорев хоть и не исполнил тайного приказания Бориса Ивановича, но был у боярина в милости. Дали Андрею чин полковника, поставили ему под команду майора Якова Ирвина, четырех капитанов: Петра Дятлова, Юрия Брюса, Юрия Вынброка, Петра Шарля; четырех поручиков: Якова Дутстерна, Степана Ровена, Павла Теса, Нильса Арталя и полкового квартирмейстера Анца Флюверка.
Драгун надлежало поверстать из гуляющих людей и отправляться на юг – собирать разбредшееся войско Кондырева, а собравши, идти на помощь донским казакам.
Отпуском драгун ведали дьяки Назарий Чистый и Алмаз Иванов.
Поселили драгун в Девичьей слободе и в Лужниках. Ставка их помещалась в Ворониной слободе, возле Андроникова монастыря, там же Земский приказ выделил для двух сотен драгун из немцев шестнадцать дворов.
Драгунам обещали выдать трехмесячный оклад, но, как всегда, тянули. Лазорев серчал, обивал пороги приказов: драгуны – лихие люди – пошаливать начинали. А Любаше печаль. Трех недель с мужем не пожила, а его опять в дали далекие отсылают. И горевала, и гордилась мужем: женился поручиком, а через год уже полковник!
Поглядеть бы, как идти будет по Красной площади на виду у всех.
3
Алексей Михайлович после утренней службы успел-таки вздремнуть и теперь смотрелся в зеркало. Он был в исподнем. Разоблачился, чтоб облачиться в праздничные царские одежды-вериги.
Из зеркала глядел на него молодой здоровый мужик, гладкий, румяный, хотя румянец от поста и поблек, словно зима дохнула на розовое стекло. Губы мягкие, алые, борода чесаная. Глаза – лесные колокольчики, в них смеху бы звенеть, а не звенится: у царей одна забота – достоинства не уронить. Сидеть на русском престоле – это ведь на русском престоле сидеть. Не прибили – миловал. Не прокляли – и на том спасибо. Все еще впереди.
Да и не больно-то плохо в царях. Вспомнил кречетов своих да челигов. На последней охоте Свертяй добыл двух совок в великом верху. На одну с десяток ставок ушло, на другую – все двадцать. Вторую совку вырвал за две сажени от земли. Славная птица Свертяй!
И опять глянул царь в зеркало. Увидал свою улыбку, все еще не сбежавшую с лица от воспоминания. Задержал улыбку. Хорошая улыбка. Что с правой, что с левой стороны.
Засмеялся государь и хлопнул в ладоши:
– Одеваться!
4
Шествие двинулось через Успенские ворота. За двумя хоругвями по двое шли диаконы, за диаконами, по трое, – священники, за священниками – протопопы, и запрестольный образ с ними.
– Вот он, мой-то! – подпрыгивала на носки протопопица, толкая Любашу. – Видишь, крест несет? А другой крест несет Никон, друг царя.
– Вижу, вижу! – отвечала Любаша.
Разбрызгивая солнечные зайчики, торжественно и весело плыли два хрустальных креста. Их осеняла золотая вычурная рипида. В Иерусалиме рипида была обыкновенным опахалом, только в северных странах не больно-то вспотеешь, – и рипида, нужная вещь, превратилась в непонятный, но зато золотой символ.
За рипидой несли соборные иконы. Под их сенью вышагивали протопопы, успенский и благовещенский, а за ними – певчие с образом Богородицы. Перед образом диаконы несли две зажженные свечи.
И наконец, за соборными ключарями шел патриарх Иосиф в малом облачении, с посохом. По правую руку от Иосифа диаконы несли большое Евангелие в бархатном ковчеге. По левую руку – крест на мисе, самый дорогой в Московском царстве крест.
Иосиф был стар, слаб, его пошатывало.
Кто-то сказал:
– Не жилец.
– Типун тебе на язык! – зашикали в толпе на болтуна.
Двое соглядатаев бросились к нему, но толпа не выдала, заслонила, заширяла соглядатаев в бока:
– А ну, не крутись! Не мешай патриарха лицезреть!
За Иосифом несли кресты – золотой, жемчужный, большой – и малое Евангелие. За крестами надвигалось на площадь вызолоченное и ожемчуженное высшее духовенство.
Толпа восторженно насчитывала:
– Три митрополита!
– Два архиепископа!
– Епископ!
– Архимандритов десять!
– Игуменов десять же.
– Протопопов пятнадцать.
– Священников тьма, и диаконов тоже.
Священников было триста, диаконов двести.
За патриаршим шествием колыхалось соболиное государево. Дьяки, дворяне, стряпчие, стольники, окольничие, думные люди и ближнее боярство. И посреди этого шествия лучших людей государства – самый наилучший, наимудрый, пресветлый, предобрый, наипрекраснейший государь Алексей Михайлович. Шел он и улыбался. Теплу, солнцу, народу, празднику, и народ от удовольствия покрякивал и на солнышко, жмурясь, поглядывал.
Государево шествие охраняли полковники…
– Мой! – воскликнула Любаша. – Андрюша, Андрей Герасимыч.
Ход остановился у Покровского собора. Государь и патриарх встретились у придела «Входа в Иерусалим». Пошли помолиться.
Там же, в соборе, их облачили в большой наряд. Бармы, шапка, держава, посох. Все из золота, усыпано драгоценными камнями, отделано прозрачными эмалями, и за все плачено деньгами страшными, несусветными. За одни только бармы, сделанные по образу диадемы благочестивого греческого царя Константина, было заплачено 18 325 рублей.
Выряженные так, что без помощи двинуться нельзя, два первостепенных российских артиста вышли из собора.
Началась игра в Иисуса Христа.
Перед въездом в Иерусалим Иисус Христос остановился у горы Елионской и послал двух учеников в селение. «Там, – сказал Он им, – вы найдете осла, на котором никто еще не ездил. Возьмите его и приведите ко Мне. Если спросят, зачем вы берете осла, скажите: он надобен Господу нашему». Ученики привели осленка, положили на него свои одежды. Иисус сел и поехал в Иерусалим. А люди устилали путь его своими одеждами и ветками вайи.
В Вербное воскресенье в Москве сцену эту разыгрывали на московский лад.
Выйдя из собора, Иосиф благословил образа и кресты, и их возвратили в Успенский и другие кремлевские церкви и соборы.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































