Текст книги "Тишайший (сборник)"
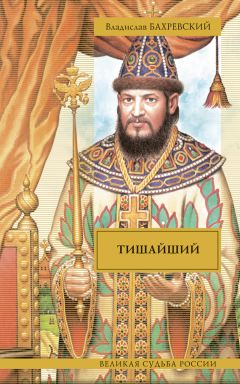
Автор книги: Владислав Бахревский
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 24 (всего у книги 39 страниц)
– Одна тысяча пятьсот и один!..
Государь царь и великий князь Алексей Михайлович в тысяча пятьсот первый раз опустился на колени перед образом Иисуса Христа и, глядя на лик преданными глазами, невинными, как цветущий лен, печальными, как лесные безлюдные озера, заплакал, будто девушка, слезой обильной, привычной, врачующей грустное сердце.
И воскликнул государь:
– Свершись, о чудо! Не для себя прошу – для уставшего от бедности, несчастного народа моего. Не победной войны, возвышающей цесарей, жажду – любезного тебе, Господи, мира! Ищу не славы вечной, царской шапкой обременен, но тишины! Не в разгуле провожу ночи молодости драгоценной – в молитвах. Вразуми!
Царю было двадцать лет, потому и не скупился на поклоны. Силенка взыгрывала, и, опасаясь норова своего, как застоявшегося коня, государь загонял себя в церковь и был в молитве неистов.
Покладистый, за слово свое не цеплялся безумным утопающим – умных людей слушал и слушался. Со стороны – мякиш. Ручеек с кисельными берегами. А про то, что в киселе булат утоплен, может, никто и не знал. И не надо было никому знать. Сам-то Алексей про него помнил всегда, и в том были его крепости.
Государь поклоны бил да посчитывал. И бояре его толстые, государевы поклоны посчитывая, изумлению своему неподдельному радовались безмерно: Романов-то Алексей – первейший среди них. По усердию…
Полторы тысячи ежедневных поклонов – не мал подвиг. Где на земле другого такого государя молитвенного сыщешь? В каких таких счастливых царствах? В немцах, что ли, прости Господи?
Алексей-то, царь, за всю Россию молитвенник! Благословенная, святая страна! Благородный, блаженнейший царь! Целомудренный, счастливый, богобоязненный, угодный Богу народ!
А чуда не совершилось! Нет как нет чуда на Руси. А уж ведь и ждут его! Ни в какой заморщине так ждать не умеют. А уж молят как чудо-то и всё не вымолят. Унижаются нижайше, да все не вынищенствуют, не отъюродствуют. А без чуда можно ли на Руси жить?!
Оттого и не живут – мыкаются.
В том 1650 году без чуда было всему государству Русскому худо. Деньжонок бы! Денег не было. И как добыть их, придумать не умели. Иноземным государствам долги натурой платили: соболями да рожью. А соболь – он с ногами, за ним побегать надо. А рожь – как Господь пошлет: то ли уродится, то ли нет.
В том 1650 году хлеб уродился не хил, да и не хорош. А платить надо.
За пятьдесят тысяч перебежчиков Швеция ожидала выкупа. Стоили православные, сами того не зная, сто девяносто тысяч рублей!
Наскребли же в Москве всего-навсего двадцать тысяч.
Двадцать тысяч – и никакого чуда. И все бояре и думные дьяки глаза в пол.
Православных в лютеранах оставить богомерзко. Не желаешь, царь-государь, взять на душу этот грех, ну так думай!
А что придумаешь?
Кротко глядит царь на мозговитого Алмаза Иванова. Думный дьяк Алмаз Иванов выступает вперед:
– Великий государь, дабы покрыть долг шведской королеве Кристине, нужно продать шведам двенадцать тысяч четей[2]2
Четь – четверть; равнялась двадцати четырем пудам.
[Закрыть] хлеба.
– Хватит ли?
– Но продавать хлеб нужно по псковским порубежным ценам. Хлеб во Пскове дорог. А цены еще можно поднять. Найти умного купца…
– А ведь есть такой! – воскликнул обрадованный государь. Он радовался тому, что знал во Пскове толкового купца. – Есть, есть во Пскове ловкий человек – Федор Емельянов!
Сказал и задумался.
– Дорогой хлеб – народу горе. А ведь ничего не поделаешь. О Господи!
Бояре на царя весело глядели. Порешили дело многохитрое.
Во ПсковеАфанасию Лаврентьевичу Ордину-Нащокину во Пскове скучно. Вот сидит он перед окном и пустыми глазами смотрит на запотевшее стекло. На дворе оттепель. Снег сер, на деревьях по веточкам капельки висят.
Галки, закрывая небо черной живой сетью, слетелись со всего света, облепили кровли и кресты церквей, заняли высокие деревья, орут – беду кличут.
Ничто теперь не волнует Афанасия Лаврентьевича. Жизнь не удалась. Все позади – падения и полет. Летал и он. Все-таки летал! Высоко заносило. Нужный был человек. Государям!
Сорок пять лет стукнуло. Не стар, да ведь и не молод. Служба вдали от ласковых глаз государя такова: плохо будешь службу справлять – в шею погонят, хорошо – не заметят. Вся заслуга, все дело твое воеводе зачтется.
Не служил бы, но ведь – дворянин! Можно бы черед справлять – отроду честен. Дурака валять не дано и ума выказать некому. Вот она, беда российских задворок. Умному в Москве место, а вдали от Москвы с умом-то пропадешь. Служба хоть и тайная у Афанасия Лаврентьевича для Посольского приказа, но ничтожная.
Смотрит, смотрит в окошко Афанасий Лаврентьевич, а в глазах – былое.
…Сидит молдавский господарь Василий Лупу, усыпан алмазами, как небо в ясную ночь. Борода черна, глаза черны, слова высокомерны:
– Твой государь презирает меня своим жалованьем. Дивлюсь тому, по какому извещению такая его государева милость?
Афанасий Лаврентьевич полшажка вперед и тоже не без гнева:
– Царево сердце в руце Божии! Где твое обещание Богу радеть и добра хотеть великому государю нашему, его царскому величеству? Во всех концах Вселенной непримолчно благодарят великого государя нашего, его царское величество – единого христианского царя и непорочной истинной веры хранителя!
Хорошо было сказано. Не каждый осмелится так. Да ведь чуять надо миг!
Василий-то после этих слов с трона вскочил, подбежал к образу Спаса и давай за государя Михаила Федоровича на глазах посла молиться. А потом к Афанасию Лаврентьевичу повернулся:
– Пиши в Москву – жить тебе в Молдавской земле до его, государева, указа. Обо всем, что узнаю – о делах султана или короля польского, – немедля буду государю писать. И не токмо в котором государстве какие вести, – лист на дереве потрясется, и мне ведомо будет о том, стало быть, ведомо будет и государю Михаилу Федоровичу…
Десять месяцев жил при дворе молдавского господаря Ордин-Нащокин. Жил тайным обычаем. Про то, что он человек русский, мало кто в Яссах знал. В те поры решались дела тонкие и запутанные. Донские казаки захватили у турок город Азов. Турецкий султан грозил Москве войной, но воевать не хотел. Русские тоже устали от войны с поляками и шведами. Хорошо бы сохранить Азов, но тогда война неизбежна. А война эта на руку магнатам Речи Посполитой: сразу двух зайцев убивают – русские ослабеют и турки.
Мирить Стамбул с Москвою взялся тайно от поляков молдавский господарь, старая лиса Василий Лупу. Да только полякам он тоже был друг, а старшая его дочь была замужем за литовским князем. За таким мирильщиком – глаз да глаз!
Молодой Ордин-Нащокин свет Афанасий Лаврентьевич и был тем оком московского царя…
Звонят.
Господи, ведь давно звонят! Очнулся от грезы:
– Войди!
Вошел слуга, ладный в ладном немецком платье:
– Мой господин, письмо из Москвы!
– Из Москвы?! – Афанасий Лаврентьевич вскрикнул и чуть было не вскочил. Не вскочил. Белая рука медленно поплыла над столом к слуге. – Давай.
Слуга подал письмо и вышел.
Афанасий Лаврентьевич перекрестился, вскрыл письмо.
Посольский приказ потребовал вновь наладить потерявшуюся связь с Духовым монастырем в Вильно.
Слава Богу, появилось Дело!
Афанасий Лаврентьевич затрезвонил в звонок.
– Соболью шубу и шапку! Лучших лошадей в лучший возок! Еду к воеводе.
Окольничий[3]3
Окольничий – один из высших чинов в Древней Руси.
[Закрыть] Никифор Сергеевич Собакин заканчивал воеводствовать во Пскове. За свое псковское кормление окольничий изрядно нажился. Теперь же, напоследок, подворачивался большой куш от хлебной торговли, затеянной Федором Емельяновым по приказу Москвы.
Никифор Сергеевич, похаживая по дому, поглядывал, что можно при выезде снять, выдрать, выставить и продать. Одних изразцов на печах вон сколько. Да и железа пудов двадцать, а то и тридцать будет: замки, засовы, цепи, петли, дверные ручки, скобы, пробои, тяги…
До Никифора Сергеевича во Пскове Лыков воеводствовал, ничтожный человек. Уезжая, оставил дом без дверей-окон, разорил, как разбойник разорить не посмеет. Гвозди из полу повыдергал!
Никифор Сергеевич не чета Лыковым. С немцами знался. Гвозди дергать? Петли у дверей отдирать? Выставлять окна? Куда бы ни шло – свое с собою забрать, нажитое. Дом-то ведь не свой, содержание воеводских хором на плечах посадских людей. И бесстыдство бесстыдное – возле дома разоренного Лыков торги устроил: из дома – и на продажу! Такого и пропойце нельзя простить.
Никифор Сергеевич собирался увезти с собою только то, что сам покупал для украшения дома у ливонцев и шведов, и для того, чтобы и на другом месте жить привычно. Ну а железки он выдирать не собирался. Пересчитать пересчитывал и оценял, но не для того, чтобы разорить дом. Железки Никифор Сергеевич собирался продать на месте, скопом. Продать купцу, а тот уж пусть, не выдирая и не ломая ничего, псковичам перепродаст товар. И все останутся при выгоде.
По примеру немцев Никифор Сергеевич в счете был точен. Всякую железяку в книжицу записывал, а против нее – цену. Умеренную.
Ордин-Нащокин попал к воеводе не ко времени – оторвал воеводу от приятных подсчетов, – и принял окольничий простого дворянина вполоборота. За всю беседу так ни разу и не поглядел на Афанасия Лаврентьевича обоими глазами. Как петух, одним косился.
– Деньги для отцов Духова монастыря получишь у дьяка моего, – сразу же, без вежливого разговора ни о чем, сказал Никифор Сергеевич. – Велено проведывать, что у шведов говорят про хлебные торги, которые мы скоро начнем с ними вести… А еще велено узнать, где теперь скрывается лютый враг государя, вор и самозванец Анкудинов, называющий себя сыном царя Василия Шуйского.
– Господин мой Никифор Сергеевич, – сказал вкрадчиво, – все будет исполнено, как велено. Дозволь и тебе, воеводе нашему, сослужить службу.
– Какую же? – Не поворотился, наглец!
– Люди мои каждый день говорят мне с тревогой: Федор Емельянов самоуправничает. Посольским приказом велено ему закупить для поднятия цены на хлеб двенадцать тысяч четей ржи, а Федор скупил все, что мог.
– Откуда известно во Пскове, о чем просит Посольский приказ? Болтовня! Федор Емельянов доверенный человек самого государя!
– Но недовольство растет.
– Для недовольных у меня в кадках иву мочат.
Афанасий Лаврентьевич вспыхнул:
– Мое дело, дело слуги государя, – предупредить: надвигается бунт.
– А мое дело воеводское – бунтовщикам языки рвать.
Афанасий Лаврентьевич поклонился и вышел.
СсораДом купца Федора Емельянова был велик и уродлив. Дом этот не стоял, хотя о домах принято говорить, что они стоят, не высился, а был он высок, затейлив, с луковками и шпилями, – он выхвалялся. Мещанские, стрелецкие, дворянские и прочие избы и дома отпрянули от него в почтительном страхе.
Земле от этого дома было тяжко. Он давил ее, душил, лез в нее. И все-таки был ненадежен. Страх ослепил его два нижних белокаменных этажа, толстостенных, будто крепость. Страх распялил безумно окна третьего, деревянного, жилого этажа. Где, мол, он, тать, с какого боку ждать? Страх и гордыня. У кого еще в городе столько стекла заморского найдется на окошки-то?
Сын Федора Мирон, первый во всем Пскове дылда и балда – на гусе куриная головка, – подглядывал в щелку за двоюродными сестрицами.
В их курятнике с утра переполох: ждали братца.
Донат-младший сегодня выходил из-под стражи. Взяли его за нападение на шведского офицера Зюсса, и кто знает, сколько бы продержали, когда б не дядюшкины деньги.
Сестрицы кудахтали, каждая про свое и все разом – о братике.
Четверо сестер сидели на одной кровати, под крылышком у старшей, у красавицы Вари, а вторая после нее, Агриппина, тоже красавица, только вся острая, как лисичка, злая, как хорь, металась по комнате в тоске.
– Господи! – шептала она с присвистом. – Зачем мы сюда приехали? Неужто плохо нам жилось там, где люди живут? Чего нам не хватало?
– А что тебе здесь не хватает? – спросила Варя.
– Кофею хочу! Кофею! И общества! Не будь я Агриппиной – при первой же осаде собачьего вашего Пскова убегу к шведам.
– Дура! – крикнула Варя в сердцах. – А ну, всем одеваться!
Возле двери Федор Емельянов своего Мирона за ухо поймал. Приволок в библиотеку домашнюю, ткнул носом в Псалтырь:
– Читай!
– Аз! – взревел Мирон, не видя книги, и попал в точку.
– Ну? Дальше! Дальше! – кричал отец.
Мирон узрел буквицу, напрягся, будто камень лбом спихнуть хотел, и в тот же миг вспотел, ибо слово было длинное и с юсом.
– Аз же… Аз же… Аз же поу…
– Что «поу»?
– …чу. Аз же поучу…
– Дале!
– …ся! – рявкнул Мирон. – Аз же поучуся.
– Тебе сто лет не хватит, чтобы Псалтырь пройти! – Федор захлопнул тяжелую, в медном окладе книгу и грохнул этой книгой по Мироновой башке. Ухнуло, как из бочки. – Смотри, парень! Не женю, покуда грамоты не одолеешь.
– У-у-у! – затрубил Мирон в тоске.
А на улице-то – динь-динь-динь!
Колокольцы.
Тройка, осаженная перед воротами, – фырь да пырх. Из саней Донат выпрыгнул. И бегом в дядюшкины хоромы: матушку обнять, сестриц приголубить.
Слуги, кланяясь, отворяли Донату двери.
Он, легкий от счастья, воли, быстрой езды, в ожидании ласки, веселья, добра, новой жизни, влетел в комнату купца Федора.
Федор, огромный, как отец, стиснул Доната в объятиях, расцеловал, отстранил от себя и посмотрел. От погляда вспрыгнули на спину Донату мурашки, будто ком снега невзначай проглотил.
Дядюшкины глаза приценялись, рылись в нем, как в ворохе тряпья. Рот – властный: хозяин; глаза – дерзкие: мальчишка; лоб – высокий: поумнеет; грудь – широкая: породистый; спина – еще шире: на такого грузить да грузить, не скоро надорвется.
Дядя глядел на Доната, глядел, и Донат все еще улыбался, но радость загнал в закуту, и вместо нее, выставив уши, оскалив зубы, запрыгала в груди злая собачонка обиды.
Федор и улыбку Донатову оценил, и обиду разглядел, но ничего не сказал. Прошел в святой угол, зажег лампаду.
– Помолимся, сынок, за спасение души твоего отца.
Голос был теплый, без фальши. Собачонка в Донатовой душе вильнула хвостом, но зубы не спрятала.
Стали на колени под образами, помолились.
– А теперь садись, Донат, поговорить с тобой хочу.
– Матушку бы повидать, – заикнулся было.
– Увидишь. Это всегда успеется. Сестрицы-то заждались тебя…
Под окнами шумно осадил коня всадник.
– Кого это несет? – Федор недовольно прищурил глаза. – От воеводы, никак? Дьяк его думный.
Дьяк вошел стремительно. Поклонился:
– К тебе, Федор сын Емельянов, от воеводы Никифора Сергеевича с делом государевым и спешным.
Нагло и недоуменно воззрился на Доната.
– Говори! Это мой сын! – приказал купец.
Дьяк недоверчиво покосился на Доната, но прекословить побоялся. Прекословить Емельянову куда как опасно.
– Никифор Сергеевич велел сказать тебе под великим секретом. – Дьяк помешкал, едва заметно плечами пожал: смотри, мол, твое дело, но не почитать тайну…
– Не тяни. – Голоса Емельянов не повысил, бережет свое достоинство, свое мошенничество.
– Никифор Сергеевич велел сказать тебе под великим секретом: не медля ни единого часа, перевози из амбаров своих хлеб в Завеличье. Из Москвы едет швед Нумменс с казной. При нем государевы деньги для шведской королевы. Тебе наказано вести с Нумменсом хлебные торги. Вот царское письмо к тебе.
Дьяк поклонился иконам, достал из-за пазухи письмо, поцеловал краешек, передал Емельянову.
– Давно пора с этой затеей кончать. Народ зол, того и гляди, в амбары полезет, а мы все ждем чего-то.
Дьяк покачал головой: говорить такие дерзкие речи, держа в руках письмо государя? И опять смолчал. На Емельянова даже донос писать страшно. Ему все равно ничего не будет, а тебя, писаку, на дыбу поднимут, а то и в Сибирь упекут.
Федор Емельянов, однако, с письмом обошелся вежливо – опамятовался, видать. Поцеловал письмо, на колени перед образами опустился, потом уже стал читать.
Прочитал, поглядел на дьяка:
– Скажи Никифору Сергеевичу, пусть укажет амбары в Завеличье, я новые обозы туда и заверну. А ночами буду возить хлеб из своих амбаров. Чего зря народ дразнить? Меньше глаз – меньше толков. Не так ли? – обратился вдруг к Донату.
– Так.
– То-то! Народ – дитё малое. Не разумеет, что для его пользы делается. Так? – снова у племянника спросил Федор Емельянов.
– Не так.
– А как же?! – Сел и от любопытства голову свою львиную на руки положил, ожидая ответа.
– Народ знает, когда его дурят. Он умеет терпеть, но терпит до поры, и его не надо выводить из себя.
Глаза у Федора Емельянова заблестели.
– Хвалю тебя, Донат, за ум.
– Не мои слова. Так говорил мой отец.
Федор это мимо ушей пропустил, повернулся к дьяку, спросил:
– Слыхал?
– Слыхал.
– Вот и скажи воеводе: народ, мол, до поры терпит. Его, мол, из себя выводить – себе вредить… Стрельцы по домам сидят. На улицу нос высунуть страшно. Голодранцы, как волки, в стаи сбиваются. Спроси воеводу, чего он ждет? Когда ему в хоромы красного петуха пустят?
Дьяк двинулся к выходу.
– Погоди!
Открыл Федор ларчик на столе, достал три серебряных рубля.
– За великую радость, которую доставил моему дому золотословным царским письмом.
– Благодарствую, Федор Емельянович! – как дворянина, по отечеству, с радости поименовал купца. – Всегда помним твои щедроты и молимся о твоем благе.
Откланялся.
Федор подождал, пока лошадь унесет за ворота дьяка, и пошел из комнаты. Поднялся со стула и Донат.
– Сиди, – приказал ему дядя, – не успели поговорить-то с тобой. Распоряжусь вот.
Донат сел на стул, сел прямо, строго. Почувствовал себя несчастным. Чужой дом!
Хотелось оглядеть эти мрачные, обитые мореным дубом палаты, да гордость не позволила. Смотрел перед собой, на огромный дубовый черный стол, на черный стул с бархатной черной спинкой и в страхе думал: уж не колдун ли дядюшка? В черноте-то явится ли светлая мысль?
Федор вошел стремительно и сразу сел к окну, смотрел жадно, властным движением руки позвал племянника к себе:
– Смотри!
Вдоль по берегу Великой, словно пасть, полная зубов, – стена. Башни по стене круглые, высокие, недоступные.
– Что видишь?
– Вижу, как грозен Псков.
Дядюшка всплеснул руками. Словно две золотые рыбы выпрыгнули из своей стихии и канули. И точно канули: утонули в соболях озлащенные перстнями и кольцами волшебные руки Федора Емельянова. Великие руки купеческие. За этими руками грустная матушка-Русь следила с надеждой. В эти руки лилось, и сыпалось, и падало то, чего не было в бесчисленных, немереных землях русского царя, – серебро и золото.
Дядя, владелец рук своих, еще мгновение назад протягивал их племяннику и вот – упрятал.
Опять заиндевело умное лицо Федора Емельянова. В глазах – пустота, губы подобрались и легли одна на другую проволоками, голос поскучнел, пошли в нем скрипы, словно сосновое полено на лучину щепали. А все из-за того, что племяш не на возы, груженные хлебом, воззрился, а на крепостную стену.
– Хотел спросить тебя, Донат, – прикрикнул дядюшка, – как же это бросил ты отцовское наследство, пять возов отборнейшего иноземного товара: серебро, китайские шелка, китайский фарфор?
– До богатства ли, когда на глазах убили отца?
– Но знаешь ли ты, кем бы ты был во Пскове, и твоя мать, и твои сестры, если бы вы вернулись на родину с вашими возами? И знаешь ли ты, кто вы теперь без этих возов?
– Знаю. Я нищий. – И положил руку на тяжелый свой пояс.
– Ты купец. Купец, на плечах которого осталось хотя бы подобие платья, не теряет надежды разбогатеть… И тряпки можно обменять с выгодой. Но если у купца пять возов драгоценных товаров, он удесятерит свое состояние, а удесятерив, умножит его во сто крат… И тогда является миру купеческий род, богатство которого уравнивает его с силой самых древних княжеских фамилий. – Глаза у Федора Емельянова опять заблестели, но огонек в них сидел свирепый. – Ради одного тычка шпагой ты бросил все, что скопил отец по крохам в ежедневных трудах. Ты предал отца.
– Я? – Не дай Бог, была бы в этот миг у Доната шпага в руках. – Я, который отомстил за смерть отца, предал его?!
– Ведаешь ли ты, как дороги мы, торговые людишки, нашим государям! – закричал Федор. – Если мы улыбаемся – народ ликует, если мы плачем – народ рыдает. Мы – всё! Изобилие и голод, победы и постыдное бегство.
– Но я мстил за смерть отца! Святая месть стоит пяти возов барахла. Можно ли стерпеть…
– Купец должен терпеть. Для купца нет ничего выше, чем его товары. Ибо, говорю я тебе, благополучие купечества – благополучие царства. Понимаешь ли ты это?
– Нет! – Донат топнул в ярости ногой. – Нет!
У Федора поднялись брови. Улыбнулся.
– А кровей ты, парень, наших, емельяновских. Жалею, что не купцом рожден. Те пять возов я тебе не смогу простить, племяш. Оставил мать без куска, без приданого – сестер-невест, дом свой – без имени.
– Я саблей добуду и славу, и хлеб, и приданое.
Федор Емельянов расхохотался:
– Пробуй! Вот тебе писулька. – Достал из ларца заготовленное письмо. – Пойдешь в Стрелецкий приказ. В стрельцы тебя возьмут – мое купеческое имя тебе порукой. Но мой дом отныне для тебя закрыт. Не люблю, когда при мне топают ногами. Дослужишься до полковника – приходи.
Хоть и зол был племянник на дядюшку своего, а письмо взял.
«Умница!» – похвалил его про себя Федор.
А в насмешке не смог отказать своему степенству:
– Вновь поверстанные стрельцы получают жалованья три рубля в год. Прощай! Копи сестрицам на приданое.
Федор отвернулся от Доната и с жадным любопытством прильнул опять к окну.
Через Великую по льду тянулись обозы с хлебом. Большие деньги затратил на этот хлебушек Емельянов.
Другой бы разорился, а Федор уже прикидывает, какая будет ему прибыль от этой «невыгодной» сделки. Красная цена хлебу – девятнадцать алтын за четь. Скупал же его Федор у псковских дворян по тридцать шесть алтын и четыре деньги. Цена высокая, и Москву она радовала. Теперь шведам придется покупать дорогой хлебушек! Правда, денег они платить не будут, хлеб получат в зачет тех ста девяноста тысяч рублей, которые Московское государство должно королеве за перебежчиков… Потому-то и не жалел денег Емельянов. На эти деньги покупалась дружба, спаянная государственной тайной, с самим государем. Да ведь убытки-то купец и не собирался терпеть. Вместо двенадцати тысяч четей он с воеводой Собакиным скупил весь псковский хлеб. А землякам-то есть надо! Голод, говорят, не тетка, и по пятидесяти алтын за четь будут платить… Беднякам, конечно, тяжело придется. А что делать? Всему свету мил не будешь. Дворяне-то, что повиднее да поумнее, за Федора Емельяновича Бога молят. Поднажились! Нащокины, Чиркины, Туровы… Самые сильные люди Псковщины. У них-то теперь в кошельках туго. Стало быть, за Федора грудью пойдут, коли – упаси Бог! – какая смута.
Ухнула бешено дубовая дверь внизу: племянничек дом покинул.
Федор прищурил левый глаз, но улыбнулся. Перебесится парень – человеком будет. Да и ничто не могло рассердить Емельянова в тот счастливый миг. Спорилось дело денежное, купеческое, живое.
Подошел к столу, позвонил в серебряный колокольчик. Тут же протиснулся в дверь десятипудовый страж-слуга, половицы так и заскрипели.
– Доната, племянника моего, запомнил?
– Как не запомнить? – словно гром дальний, пророкотал великан.
– С его головы чтоб ни волоска не пало! Не мешать его делам ни в чем, но чтоб ни волоска… Понял?
– Как не понять?
– Ступай, Сиволапыч.
Половицы вздохнули.
Донат выбежал на улицу. Тяжелый грудастый ветер пошел толкать его, как подвыпивший гуляка. Донат хлебнул холодного воздуха, поперхнулся, опамятовался. Матушкиного благословения не получил, с сестрами перед новой разлукой, не дай Господи вечной, не свиделся, не простился.
Назад побежал Донат в палаты Емельяновы, а в дверях ему Сиволапыч дорогу заслонил:
– Не велено тебе у нас быть!
Детина широк, с дверь, руки по локоть засучены, коротки и толсты: коль обнимет, осерчав, душу выдавит. А Донату уже и черт не страшен. Схватил быка того за бороду левой рукой, а правой – по шее. Рухнул Сиволапыч на колени. Донат мимо него, по лестнице каменной наверх, в деревянные жилые покои.
А матушка, будто чуяла, в сенцах между мужскою половиной и женской, затаясь, ждала сына.
– Донат!
– Матушка!
– Донат, все знаю. Береги себя. Помни, сестры ждут тебя, избавителя… Горек сладкий кус, коль печен в чужой печи. И я тебя жду. Вот возьми золотой на счастье. Ступай! Увидят – на меня гнев Федора падет.
И вдруг – легкие шаги, теплые белые руки: Варя!
– Братик! Жду тебя!
Донат, сдерживая рыдания, бросился вниз по лестнице, мимо отшатнувшегося уважительно Сиволапыча.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































