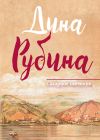Текст книги "Персона вне достоверности (сборник)"

Автор книги: Владислав Отрошенко
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 21 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Не знаю, зачем я пошел в тот душный июньский денек, когда получил это письмо, к горбатой Дашеньке? Что я хотел выяснить у несчастной старухи, неотлучно пребывающей в заповедном мире, чудесно выскользнувшем из потока времени и утвердившемся на неподвижных берегах ее сознания, исполненного нерушимых иллюзий… «Стасик играет на бильярде»… всегда, во веки веков. Боже мой! Я даже не могу припомнить хорошенько, о чем расспрашивал ее, лежавшую в смрадном тулупе на улице, на лавке, под низким окном осевшего в землю дома, – что кричал ей, нетерпеливо топая ногою и наклоняясь к ее глухому, источающему запах подвальной прохлады уху, – что требовал от нее?..
В Криничном переулке гудели и вздрагивали кусты, осторожно осаждаемые пчелами и на лету пронзаемые шмелями; тучные стрекозы ударялись об оконные стекла, падали на черный тулуп и на серое лицо старухи и тут же взлетали, мгновенно превращая в призрачное сияние передохнувшие крылья. Дашенька поднялась – как будто для того, чтоб окинуть взглядом картину июньского торжества насекомых; уставилась на дерзкий кустик, выросший прямо из стены ее дома, потом взглянула на меня. Да-да, она узнала меня… я тот самый чиновник по акцизной части, который вечно (от Сотворения мира до Судного дня!) преследовал и будет преследовать ее брата, проигравшись ему до копейки вне времени и пространства. Ее глаза – прежде тусклые, а теперь загоревшиеся, излучали ровный, чистый и яркий свет сумасшествия.
– Что?! Что?! – неожиданно закричала она, замахиваясь на меня клюкой. – Обыграл тебя Стасик, несчастный акциз!.. И поделом тебе!! Поделом!!
Я ушел.
И по тому, с какой вызывающей победоносностью были произнесены устами безумной эти слова, а также по тому, с каким неодолимым волнением я торопился в тот памятный день домой, чтоб читать, перечитывать и снова читать, разрывая в клочья давно заготовленные разоблачительные письма, то последнее, немилосердное послание д-ра Казина, я понял: он выкрутился…

По следам дворцового литавриста
Отчет исследователя
Святые апостолы, до чего же я заблуждался! Я полагал, что мне не составит труда отыскать вполне достоверные и столь необходимые мне сведения об авторе этого немыслимого сочинения, напечатанного отдельной брошюрой в Санкт-Петербурге в 1914 году. В подзаголовке оно невозмутимо именовалось «научным докладом». В заглавии же его – быть может, не так отчетливо, еще не с такой торжествующей ослепительностью, как в самом тексте, но все же достаточно явственно и упрямо, – проглядывало, точно бойкое солнце в кудлатых мартовских тучах, чистейшее сумасшествие: «о некоторых свойствах подвижных реальностей и неизменного сновидения»…
Да, я был горделиво уверен тогда, без малого год назад, когда насмешливый случай вовлек меня в эти забавные поначалу поиски следов душевнобольного (здравый смысл обязывает меня и теперь решительно настаивать на этом печальном определении) литавриста Игната Ефимовича Ставровского, служившего оркестрантом в атаманском дворце, что мне понадобится неделя, чтоб навсегда избавиться от того завораживающего впечатления, которое произвел на меня – увы, произвел-таки – его безумный доклад, проникнутый какой-то особенной, свойственной, впрочем, и бреду, несокрушимой степенностью.
Помнится, я хорошо представлял, что мне нужно для этого сделать.
Мне (осмелюсь надеяться, не худшему из исследователей) нужно было установить – ах, до чего же это нелепо звучит! – что таинственный литаврист-философ, вопреки его собственным, внешне вполне рассудительным утверждениям, все же существовал; что он всецело пребывал в этом мире, и притом пребывал далеко не бесследно, как ему болезненно воображалось, то есть – вовсе не в качестве «упоительно устойчивого фантома», говоря языком его фантастического доклада, а именно в качестве литавриста Ставровского, объявившего себя в 14-м году «первым исследователем сновидения»; что он просто был, этот несчастный литаврист, а значит, был всего лишь умалишенным…
Мне хватит недели, думал я, потому что, во-первых, мне прекрасно знаком тот «призрачный» город, о котором помешанный музыкант беспрестанно толкует в своем сочинении, – тот «загадочно ускользающий», «трудно вообразимый» и даже «совершенно несуществующий» город на Юге России, в котором я родился и жил много лет и в котором знаю каждую улицу, в том числе и Кавказскую, описанную оркестрантом с некоторыми неточностями. Во-вторых, в этом городе всего одно старинное кладбище и только один достаточно старый, со специальным при нем архивом (учрежденным «для пользы врачей-психиатров» еще по указу атамана Самсонова) сумасшедший дом, где литаврист, по всей видимости, и сочинил свой доклад, странным образом угодивший в печать. И в-третьих, я еще не забыл, по каким адресам искать в моем городе почтеннейших антикваров, столь же надменных, сколь и всезнающих, да к тому же живущих аредовы веки, не менее древних библиотекарей, чьи облысевшие головы полны всевозможных сведений, и одного совершенно уж дряхлого, но неистово памятливого архивариуса, посвященного в судьбы и содержание старорежимных бумаг, словом – всех этих обаятельных чопорников и спесивых затворников, огорчительно недоступных для заезжего незнакомца, но только не для меня…
Я начал с кладбища. Кажется – с кладбища: теперь я в этом полностью не уверен. Однако помню, что именно там, среди мраморных обелисков, колонн, крестов и всевозможных скульптур, любовно воздвигнутых над упокоенными останками кавалерственных дам, есаулов, старшин, коллежских и статских советников, я вздумал развлечь себя перечитыванием доклада. Это было забавно. И, пожалуй, это вполне отвечало тому приподнятому настроению, которое иногда охватывает на кладбище праздного посетителя, преисполненного, несмотря на частые приступы скорбных раздумий и мрачной мечтательности, затаенно счастливого чувства жизни и яви.
Разыскивая могилу Ставровского, я бродил по наиболее опрятной, чинно спланированной юго-восточной части кладбища и между делом, беспечно актерствуя, как бы обращаясь вслух к обширной и учтиво безмолвной аудитории благородных покойников (знавших, быть может, при жизни дворцового литавриста), перечитывал вслух с подобающим выражением его доклад… Впрочем, скорее всего я цитировал текст по памяти, ибо помнил его тогда – как и теперь, надеюсь, – отлично…
* * *
«Глубокочтимый господин Председатель! Уважаемые коллеги! Дамы и господа!
Я хорошо осознаю, что настоящий доклад может немало смутить вас, ибо многие его положения находятся не только на грани строго научного, но и попросту трезвого мышления.
Более того, я полностью отдаю себе отчет в том, что явление, о котором я намерен вам сообщить, настолько поразительно и неправдоподобно, что, описывая его, я рискую навсегда распрощаться с репутацией серьезного исследователя и быть сопричисленным в общественном мнении к разряду отчаянных проходимцев – мистификаторов и шарлатанов, забавляющих публику вздорными выдумками.
Что до моей репутации, господа, то я заявляю вам о своей искренней готовности смириться с любым поворотом дела, вплоть до признания меня сумасшедшим: мое исследование, или, с вашего позволения, мое путешествие в неизведанную область, именуемую сновидением, завело меня уже достаточно далеко и с некоторой поры приобрело для меня, к сожалению (а быть может, и к счастью), слишком личный характер, чтобы меня волновали какие бы то ни было суждения о моей компетентности или о моем душевном здоровье…
Итак, я утверждаю, что сновидение, вопреки давно устоявшимся предубеждениям на этот счет, несомненно существует. Оно является вовсе не «игрою воображения наяву, формирующей у вечно бодрствующего субъекта ложные представления о собственной личности», как это принято считать в научных кругах, а совершенно отдельным, протекающим, так сказать, вне границ и законов яви, скрытым от нас психическим процессом, который, однако, оказывает такое мощное воздействие на чувства сновидца, что и вы, господин Председатель, и все здесь присутствующие могли бы мне показаться зыбкими призраками, если бы я сейчас находился в его обворожительной власти.
Когда я приступил к изучению этого таинственного процесса, он поначалу поддавался запоминанию лишь в самых общих чертах. И это одна из его важнейших особенностей, которая препятствует исследованию и осмыслению фантастических образов, настойчиво порождаемых сновидением.
И действительно, погружаясь в сон, находясь во сне (я позволяю себе эти выражения, надеясь, что вы принимаете, хотя бы условно и временно – до выводов о моей умственной полноценности – идею о том, что никакого «вечного бодрствования» не существует), я мог вспомнить – и вспоминал многократно – с разной степенью уверенности и отчетливости образы и события подлинной жизни. Или подвижной реальности, как я ее буду впредь называть для удобства, а также по той причине, что именно таковой она и представляется там, во сне, где все обладает какой-то неистощимой и грандиозной устойчивостью, где не только что всякий образ, но и ничтожнейшие его подробности, точно они заколдованы, даны во всей своей восхитительной нерушимости и где все предстает перед взором сновидца с дерзкой, неукротимой и совершенно бессмысленной, ни о чем не возвещающей, кроме собственного величия, победоносной ясностью.
Там, находясь под воздействием мистического великолепия загадочно неизменных, строго очерченных форм, которые словно затем и явились уснувшему разуму, чтоб изумлять его беспрестанно своим чудотворным оцепенением, я так или иначе, с усилием или с легкостью, мог вспомнить и даже подвергнуть всестороннему рассмотрению различные эпизоды своей действительной жизни. Во сне это возможно почти всегда, за исключением тех непонятных случаев, когда память, то ли в силу высокой степени зачарованности всего твоего существа внезапно открывшимися перед ним фантасмагорическими картинами, то ли в силу резкого перехода в область сновидческого бытия и непомерно глубокого вовлечения в его условия и законы или по какой-то другой причине, вдруг отказывается сообщить тебе что-либо о событиях реальности, непосредственно предшествовавших сновидению, – создается чудесное впечатление (ложное или оправданное – об этом трудно судить), что сну предшествовал глубокий обморок, подготовивший чувства к еще более острому, чем обычно, восприятию иллюзорных образов. Однако и в этих случаях ничуть не утрачивается память о любых других фрагментах действительности, не подпавших под власть сновидческой амнезии. Более того, сохраняется главное – способность помнить о существовании подвижной реальности в целом, о ее неоспоримом наличии как таковой. Мы можем здраво судить, размышлять и предаваться воспоминаниям о ней когда и сколько угодно, не теряя при этом точного представления о возможности и способах возвращения к ней.
Да, во сне – с какой бы чудовищной силой ни овладел бы он на отведенный ему срок нашими помыслами и чувствами, с какой бы серьезностью ни заставил бы он переживать феерическую действительность, лукаво предъявленную им в качестве всеобъемлющей, полнокровной и единственно возможной, – мы не поддаемся изощренному обману, мы сохраняем трезвый рассудок, который позволяет нам всегда, я подчеркиваю, абсолютно всегда и с абсолютной уверенностью утверждать (а не смутно догадываться или робко предполагать), что бодрствование, неотъемлемо присущее нам, подвижная реальность, терпеливо поджидающая нас за порогом пробуждения, явь, не скрывающая от нас своей доступности, – словом, наша обычная жизнь, какой бы странной она ни представлялась во сне, решительно существует. И это осознается нами во время пребывания в иллюзорном мире настолько же отчетливо, насколько основательно забывается сон как таковой при окончательном и полноценном пробуждении. Здесь, наяву, он не только перестает быть чем-то существенным, возможным, принимаемым в расчет – он вообще предпочитает устраниться из поля зрения бодрствующего разума, не оставив по себе, как то и положено осторожному призраку, ни малейших воспоминаний. Со всею проворностью, на какую только способно видение, он уступчиво исчезает, рассеивается, улетучивается, безоговорочно капитулируя перед наступившей действительностью, в безраздельную власть которой он смиренно отдает оккупированные им было чувства, сознание и память.
Как балаган пугливых комедиантов, изгоняемых с площади суровым полицмейстером, сновидение торопливо сворачивается и, послушно прекратив свой фокуснический спектакль, казавшийся завороженному зрителю и серьезным, и величавым, немедленно удаляется, унося с собою все, что только можно унести в поспешном бегстве. Но даже то, что остается от действа комедиантов, – осколки сновидческих образов и ускользнувших переживаний, эти внезапно померкнувшие декорации, балаганные ширмы, костюмы и маски, – все перекрашивается безжалостно по рецептам подвижной реальности, все мгновенно преображается под мощным воздействием яви и пускается в дело в реалистическом театре подлинной жизни, всецело вступившем в свои права.
Комедианты забыты. Забыт балаган. Забыты – и это сейчас подтверждает красноречиво, достопочтенный господин Председатель, уважаемые коллеги, дамы и господа, напряженно-растерянное выражение ваших лиц, – и общий сюжет, и всевозможные частности фантастического представления, разыгрывавшегося в вашем сознании – я в этом вас заверяю – и усердно, и основательно, в расчете на вечность и неизгладимость.
Такова, господа, хорошо это или плохо, наша деспотическая реальность. Она, в отличие от сновидческой, так сказать, слишком реальна, чтоб позволять своим подданным своевольно сомневаться в ее единственности, полновесности и могуществе; чтоб милостиво разрешать им, объятым ее заботами и хранимым ее законами, мечтательно устремлять свои взоры в иные края и пределы, помышлять о чем-то исчезнувшем, постороннем, потустороннем, не связанным с тем, о чем она настоятельно возвещает чувствам сию минуту; чтоб, наконец, допускать в тот урочный час, когда торжествует она, когда над нами необоримо свершается ее самовластное произволение, непочтение к ней, насмешку над ней, неверие в нее, презрение к ней и прочее дерзкое вольнодумие. Нет, она требует все существо целиком, и она его подчиняет себе безраздельно, подавляя в нас всякое уклонение от диктуемых ею переживаний. Она не терпит вторжение чуждого мира в свои обособленные владения, ибо она истинная реальность. Но ей мало и этого, господа! Как жестокая, но возлюбленная отчизна, она ревниво преследует нас повсюду, она не дает позабыть о себе даже во сне. В припадках своей беспощадной любви она шлет неустанно вслед за каждым из беглецов свои летучие образы в державу устойчивых миражей, где враждебно ей все, где положен предел ее власти и где сами посланцы ее вне закона, – но каждый беглец там и знает, и грезит о ней, и покорно желает счастливого возвращения…
Ах, если б и сон, если б мой дивный сон был бы столь смел и настойчив тогда, когда я вознамерился изучить его, умея лишь строить о нем в минуты нечаянного прозрения туманные догадки, тут же ускользающие из виду!..
И все же при помощи длительной интроспекции и некоторых волевых актов, направленных на сохранение памяти о всей совокупности и сложном взаимодействии сновидческих образов, событий и переживаний, мне удалось составить более или менее целостное представление о том причудливом состоянии сознания, которое с удивительным постоянством возникает за пределами реального бытия. Иначе говоря, я научился беспрепятственно воскрешать и подвергать всестороннему рассмотрению свой сновидческий опыт, оставаясь при этом в состоянии бодрствования, – научился в любое время мысленно погружаться здесь, наяву, перед лицом и под властью реальности, в ту далекую, потаенную, вечно ускользающую от нас в момент пробуждения неизведанную действительность сна, – вспоминать ее ясно, детально и длительно, без искажений и во всей полноте, а не разрозненными фрагментами, как это было вначале.
И первое, что я установил, господа, – сновидение существует только одно. Одно-единственное! Оно разделено на части лишь самим бодрствованием. Но разделение это, так сказать, чисто внешнее. Оно не затрагивает таинственных основ какого-то волшебного, однажды запущенного и безукоризненно действующего механизма, не расстраивает той внутренней мистической последовательности, с которой разворачивается сновидение, не нарушает той сверхъестественной поступательности, которая свойственна процессу фантазирования.
Сновидческая фантазия является, если так можно выразиться, необычайно памятливой и бережливой: все, что мы забываем и оставляем, пробуждаясь, – все, что неумолимо разрушает бодрствующий разум, она тотчас же и наперекор своему властному противнику возрождает во всех подробностях, как только мы засыпаем; с ошеломляющей точностью она восстанавливает в сознании сновидящего не только внешние облики и очертания различных фантомов, построенных ею прежде, но и все тонкости смысла исчезнувших было картин и потерявших, казалось, всякую значимость сюжетных движений грезы, а затем продолжает невозмутимо свою искусную работу – продолжает прерванное вынужденным антрактом многоактное действо, загадочно цельное и по духу, и по тональности, и по многим другим ощутительным признакам, о которых я не могу говорить сейчас с полной ясностью, ибо живо они ощущаются только во сне.
Однако я в состоянии вспомнить и выразить вот что: законы видения таковы, что они не допускают тех резких и беспричинных смысловых развитий, тех внезапных и неудержимых перемещений сознания, которые могут привести к молниеносной и глубокой метаморфозе всех зримых в данную минуту образов, к полной и ничем не обусловленной перемене всех декораций и действующих лиц, к разыгрыванию совершенно новой пьесы, содержание которой не предполагает ни малейшего знания – и даже воспоминания – о предыдущей. Нет. Эти законы охраняют высшее чудо сновидческого мира – единственность и внутреннюю неразрывность грезы.
Все это поразительно, господа, но все это так. И если принять во внимание эту невыразимую единственность сновидения, если ее глубоко прочувствовать, то реальность может показаться не только текучей, подвижной, изменчивой – но и множественной. Да-да! Во всяком случае, я впервые решил называть нашу явь подвижными реальностями именно там, во сне, где я всякий раз попадаю в некое торжественное, неизменное и могучее, точно застывший взрыв, светозарное пространство. Там на величественном холме обретается город…
…Мне снится город, один и тот же, с дворцами, фонтанами и монументами, с нарядным сквером в цепной ограде близ грозного здания арсенала, с триумфальными арками и садами, с обширной, мощенной булыжником площадью, где стоит, заслоняя полнеба, дивный собор с золочеными куполами и сочно сияющими витражами в арочных окнах над пышным порталом. В этом призрачном городе, основанном, как я убежден во сне, одним доблестным генералом от кавалерии, есть озвученная ручьями, что стекают по южному склону холма, и заросшая чайными розами улица, называемая Кавказской. Где-то на этой улице, в доме с мозаикой на фронтоне и круглым окном над парадной дверью, постоянно оказываюсь, засыпая, я. Но я – уже не исследователь. Там я совсем не исследователь… Ах, милые дамы и добрые господа! Я вижу, с каким неподдельным, доверчиво-дружеским интересом вы ждете моих разъяснений, с каким сердечным участием и вежливым пониманием внемлете вы докладу. Но я не могу передать вам известными мне словами то восхитительное чувство, которое я испытываю, обнаружив нечаянно, что сознание мое, беспрестанно менявшееся в круговороте подвижных реальностей, наполнявшееся хаотично то одним, то другим содержанием, вдруг как бы остановилось и сжалось, превратилось в яркую точку, чутко застывшую в недрах знакомого, упоительно устойчивого фантома – военного музыканта.
…Мне снится, что я музыкант, огненноусый и моложавый, с глазами цвета ненастного неба и бодро бьющимся сердцем. Меня величают Игнатом Ефимовичем Ставровским. Я владею искусством игры на литаврах, и владею столь совершенно, что сам господин дирижер атаманского оркестра изволил меня пригласить во дворец – в оркестранты Его Высокопревосходительства войскового атамана, заметив, как вдохновенно и виртуозно играл я в оркестре Семнадцатого полка на Масленицу в Ботаническом загородном саду на дощатой эстраде, расцвеченной флагами!.. Это было в 11-м году… Там существуют годы, там существуют столетия и минуты. Там существует нечто такое, что называется временем и что с безумной трепетной тщательностью измеряется, исчисляется и как-то умственно понимается в качестве некой значительной и самодовлеющей категории. Думаю, вы хорошо поймете меня, если я вам скажу, что это сновидческое время, бесконечно дробимое и всегда представляемое в трех ипостасях – Прошлое, Будущее и Настоящее, – не имеет ничего общего с той неделимой, слитной, не поддающейся вычленению, растворенной в самом движении изменчивых образов и, в сущности, ничего не значащей длительностью, которая ощущается здесь, наяву, и которая вся целиком присутствует в одном – всепоглощающем – моменте настоящего. Но сможете ли вы понять, коллеги, как радовался я, когда господин дирижер представил меня в галерее дворца воскресным днем перед обедом Его Высокопревосходительству! Атаман добродушно похлопал меня по плечу и, улыбнувшись, сказал:
– Ну-ну! Ты, я слышал, Игнат Ефимович, большой искусник играть на литаврах. Что ж, будешь служить во дворце… Назначь ему, Яков Фомич, содержание и жалованье по чину, – приказал он дирижеру. Потом снова обратился ко мне: – Может случиться, что увидишь здесь самого Государя. И много чего увидишь невиданного. Однако ж смотри, сукин сын, не запьянствуй мне от вольготной жизни, как старый наш литаврист… Яша, как бишь его, прохвоста?..
– Платошка, Ваше Высокопревосходительство.
– Вот-вот… Не помилую. Ладно. Доволен ли? Отвечай.
– Так точно! – воскликнул я.
И хотя душа моя ликовала, преисполненная чувством благодарности и желанием выразить как-нибудь попространней это кипучее чувство и господину атаману, и господину дирижеру, я больше ничего не нашелся сказать, кроме этого бойкого «так точно», ибо во сне я застенчив и отчаянно косноязычен, как то и положено, впрочем, блаженно невежественному литавристу, который столь же плохо владеет способностью изъяснять вразумительными словами свои мысли и переживания, сколь и способностью ясно мыслить. Но там мне дано другое. Во сне я знаю отлично, как нужно ударять в литавры, когда оркестр играет гордые марши – «Вступление в Париж» и «Триумф победителей», «Мукден» и «Бой под Ляояном»!.. А слышали б вы, господин Председатель, с каким волнительно-нежным коварством нашептывают мои литавры в злобно-веселом Егерском марше! Какие они яростные в Драгунском, какие летучие в Кавалергардском и какие торжественные в Гренадерском! А что мне сказать вам о пышных вальсах и несравненной Уланской мазурке? Ах, господа! Я должен сказать без утайки – во сне я способен усердно думать только о маршах, мазурках и вальсах… и о моих драгоценных литаврах… Во дворце мне выдали – новые, чудной венской работы, с прекрасной мембраной и к тому же педальные, вообразите – педальные! приспособленные к восхитительному глиссандо! Мне выдали легкие сапоги из опойка, белый кивер с султаном и белый же – в золотых позументах и с аксельбантом – парадный мундир дворцового оркестранта!.. Все это – излюбленные образы моего сновидения, настолько излюбленные, что порою и здесь, наяву, я вдруг обнаруживаю себя за литаврами в окружении играющего оркестра, и я тоже играю, играю… я играю самозабвенно, а на мне – белоснежный мундир с эполетами, на мне – сапоги из опойка с дивным узором на голенищах и тот высокий лоснящийся кивер – он, поверите ли, точно такой же, какой надевает в торжественных случаях сам войсковой атаман… Да вот он теперь, этот кивер, – на вашей седой голове, господин Председатель! В нем вы очень похожи на атамана… или на дирижера?.. А впрочем, не знаю. Здесь все беспрестанно – и вопреки моей воле – преображается, изменяется, возникает и исчезает. Во сне же – другое дело. Там засыпает разум, но пробуждается воля – она безраздельно управляет вверенным ей фантомом. Но это только самая очевидная ее функция.
У меня есть все основания предполагать, что абсолютно все образы, создаваемые сновидческой фантазией, склонны, как и образы яви, к текучести, изменчивости и исчезновению. Однако они удерживаются перед взором сновидца и сохраняют устойчивые формы именно в силу особого – высокого и непрерывного – напряжения воли, которое глубоко привычно для спящего, а потому неощутимо, как неощутимо собственное ровное дыхание. Это всепроникающее волевое напряжение не подвержено никаким колебаниям, ибо при малейшем его ослаблении весь сновидческий мир, надо думать, мгновенно рассыпался бы, рассеялся, улетучился или, придя в своевольное движение, уподобился бы миру реальному – и тогда говорить о нем, как о чем-то отличном от яви, было бы невозможно. Но и при сколь-нибудь значительном усилении этого напряжения невозможно было бы воспринять и осмыслить сновидческую реальность, ибо образы сна в таком случае преисполнились бы уже совершенно чудовищной неизменности и, разом выказывая всю свою едкую, ошеломляющую, ничем не ограниченную детальность, виделись бы с такой агрессивной ясностью, какую не выдержало бы ни одно сознание, кроме сознания Всевышнего.
Собственно говоря, мы должны признать, что само пробуждение есть не что иное, как ослабление до известного уровня, до уровня, где обнаруживается естественный строй вещей, того равномерного волевого напряжения, которое бдительно удерживает мир иллюзий от внезапных метаморфоз и бесследного исчезновения; погружение же в сон есть возрастание этого напряжения до определенной степени, и не более.
Вы спросите, господин Председатель: не следует ли отсюда, что и во сне, и наяву мы имеем дело с одним и тем же миром, который, всегда оставаясь реальным – непреодолимо реальным, – лишь проявляет под воздействием, так сказать, волевого излучения высокой интенсивности некоторые свои качества – скрытые, необычные, но все ж таки постоянно ему присущие и, стало быть, совершенно естественные, а не приписанные ему фантазией?.. О, вы большой лукавец, вы изощренный лукавец, господин Председатель! Вы умело подталкиваете меня к весьма далеко идущему – прытко идущему прямо в область безумия – выводу. И ваши следующие вопросы, уже ласково поторапливающие меня на этом привольно-разухабистом пути: «А не кажется ли вам, уважаемый коллега, что «строй вещей» в вашем сне даже более естественный, чем наяву? не приходилось ли вам ощущать, что этот красивый город на холме… очень, очень красивый город на очень большом холме… и дворец, и литавры, и ваш замечательный мундир, который вам несомненно к лицу, и все остальное, нечаянно полюбившееся вам и как-то хитростно соединившееся в этакую устойчивую действительность, чуть-чуть, на самую пустячную малость действительнее другой действительности, тоже необыкновенно действительной, но иногда не совсем существенной? Вам даже случалось их немножечко путать – но это не страшно, не страшно, – случалось считать, что жизнь литавриста Ставровского – как бы ваша главная жизнь, а жизнь исследователя Кирсанова – это некое странное наваждение, не так ли?» – эти ваши вкрадчивые вопросы я хорошо предвижу, как предвижу и ловкое появление здесь столь же вкрадчивых санитаров, а затем и стремительное превращение этой светлой аудитории в уныло сумрачную палату сумасшедшего дома… Но что я говорю! В подвижной и множественной реальности нельзя ничего предвидеть, ибо события здесь свершаются по закону причинной неопределенности.
Даром предвидения мы обладаем только во сне, где все предсказуемо в неизмеримо большей степени, чем наяву, где всякое следствие каким-то магическим образом выводится из причины, а причина волшебно угадывается в следствии, которое, в свою очередь, оборачивается причиной, порождая новое следствие, и так – беспрерывно, так – бесконечно и безначально. О, эта магия зачаровывает! Эта дивная магия такова, что если, к примеру, я иду во дворец, то я не оказываюсь сверх чаяния в хрупкой корзине аэростата над злобной толпой фузилёров или в каком-нибудь подозрительно тихом море на дьявольски быстрой шхуне, где мне суждено позабыть, что я шел репетировать новый вальс, сочиненный третьего дня доброй матушкой-генеральшей, супружницей атамана, страх как охочей до композиторства. Нет, господа, происходит нечто немыслимое и несбыточное: я попадаю именно во дворец! И это – поверьте мне на слово – является предвиденным следствием моего фантастически постепенного продвижения по известному мне пути – моего восхождения вверх от петлистой-душистой Кавказской улицы по прямой, аккуратно мощенной булыжником Красной Горке, мимо дома старого каптенармуса, мимо нарядной Александровской церкви, через южную арку Атаманского сада, густо заросшую дикой лозой, через сам Атаманский сад, где с полудня уже играют оркестры и вращаются в ароматном воздухе, возвышаясь над кронами лип и каштанов, расписные шатры каруселей, где гуляют степенно по широким аллеям отставные чины в белых штатских картузах и, покуривая в ротондах, крутят тросточки праздные франты, крутят пестрые зонтики юные дамы и мерцают, искрятся в струях теплого ветра над покатыми крышами павильонов разноцветные флаги из шелка на невидимых в мареве шпилях…
Да, господин Председатель, многие, многие вещи меня зачаровывают во сне. Но меня еще рано объявлять сумасшедшим.
Видение еще не овладело мною настолько, чтобы я перестал осознавать, что причинная обусловленность и последовательность событий, взаимозависимость и взаимосвязанность явлений, а также прочная оформленность и устойчивость образов – это первейшие признаки иллюзорности. Однако может случиться, что я утрачу способность руководствоваться этими азбучными истинами, а вместе с тем и способность отличать сон от бдения и мираж от реальности. Мое исследование, как я уже говорил, завело меня чересчур далеко. Оно вплотную приблизило меня к той границе, где нечувствительно исчезает из виду сам предмет изыскания – коварный предмет, который за этой границей открывает исследователю в полной мере свои наиболее сокровенные стороны. Но исследователь сновидения уже не является таковым, ибо, всецело проникнув в предмет, он напрочь теряет возможность не только вести бесстрастные наблюдения за состоянием сна, но и оценивать сон как сон, а себя – как исследователя. Впрочем, он может – очень даже может! – ощущать себя неким исследователем, если именно это ощущение лежало в основе его устойчивой грезы. С ним даже может произойти, господа, нечто совершенно невероятное: он может как-нибудь ненароком – в силу случайного интереса или побочной надобности, вытекающей из его иллюзорных научных занятий, – приступить к изучению как раз таки сна, подразумевая под оным саму действительность, то есть уверенно воспринимая бодрствование как нарушение нормальной (уже для него абсолютно нормальной!) деятельности сознания, а сновидческую реальность, которая его целиком поглотила, – как реальность господствующую и единственно полноценную. Но сможет ли он тем же порядком, продвигаясь, так сказать, с другой стороны, перейти по своим же следам границу? Не остановит ли его на пороге прозрения, в ту решительную минуту, когда останется сделать последний шаг, чтобы отринуть мнимую родину и вернуть свое подлинное гражданство, ужасающий стражник – вероломная мысль (будто бы трезвая мысль!) о надвигающемся безумии? Этого я не знаю. Скажу лишь одно: соблазн изучить предмет до конца столь же велик, сколь велика опасность слиться – и быть может, бесповоротно, – с воображаемым «я».
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?