Текст книги "Воин-монах на престоле"
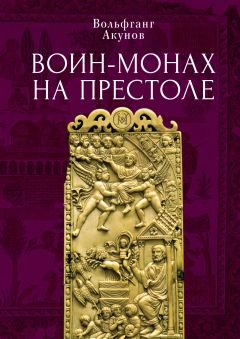
Автор книги: Вольфганг Акунов
Жанр: Исторические приключения, Приключения
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 16 (всего у книги 49 страниц) [доступный отрывок для чтения: 16 страниц]
В Афинах Юлиан посещал лекции так же регулярно и усердно, как и в Константинополе. С той лишь разницей, что в период своего пребывания в столице Аттики он уделял основное внимание изучению на риторики, а философии. Его любимой дорогой была улица, ведшая в рощу Академа, чьи тенистые аллеи тянулись через весь север города в направлении Колона (бывшего в описываемое время не городским районом, а пригородом Афин). Там еще продолжала существовать философская школа, основанная Платоном, напоминавшая собой монастырь с просторными помещениями и навевающими покой тенистыми садами. Благодаря пожертвованиям, источники которых не иссякали, несмотря на, казалось бы, неблагоприятные внешние обстоятельства, Академия могла на свои средства содержать своих преподавателей, не требуя материальной помощи от города или от государства. Вследствие наличия независимых источников финансирования она могла себе позволить, не подвергаясь никаким внешним вмешательствам или воздействиям, функционировать по-прежнему, сохраняя во всем своеобразие и свой исконный характер.
По меньшей мере однажды Юлиан отправился через двойные ворота по священной дороге в Элевсин. Пройдя через воспетые бессмертным Софоклом в трагедии «Эдип в Колоне» масличные рощи, мимо Саламинского залива (навсегда вошедшего в мировую историю одним из величайших триумфов эллинов над «варварами» – сокрушительным разгромом флота персидского царя царей Ксеркса Ахеменида объединенным греческим флотом в морском сражении у острова Саламин в 480 году до Р. X. – и увековеченного Эсхилом в его знаменитой трагедии «Персы»), царевич вступил на порог храма двух богинь – Деметры и Персефоны. В Эфесе «мистик» Максим повелел ему завершить свое посвящение у иерофанта Деметры, заверив Юлиана в том, что там ему предстоит еще многое узнать. Благодаря раскопкам, в ходе которых археологи обнаружили развалины Элевсина, разрушенного в 396 году царем германцев-вестготов (и одновременно – римским «военным магистром» и ревностным христианином, хотя и арианином, как все германцы его времени) Аларихом, туристам стало доступно посещение просторного помещения, в котором еще при императоре-арианине римского Востока Флавии Юлии Валенте II (годы жизни: 328–378 п. Р. X.), а по некоторым данным – даже вплоть до времен остготского царя Италии (и римского патриция) арианина Теодориха (Феодориха) Великого (годы жизни: около 451–526 п. Р. X.) торжественно справлялись знаменитые Элевсинские мистерии.
Подготовленный к церемонии посвящения особыми омовениями и очищениями, царевич, с миртовым венком на голове, вошел в древнее святилище подземных божеств. Юлиан удостоился лицезреть таинственные символы, хранимые в священных кошницах (или, выражаясь современным языком – корзинах); он следил за змеей Триптолема[113]113
Триптолем (др. – греч. ТрштбХсрод, лат. Triptolemus) – герой цикла элевсинских и аттических мифов о Деметре, сын элевсинского царя Келея и Метаниры (по Овидию и Нонну) (либо Кофонеи, либо Гионы, либо Деиопы). По аргосской версии, сын Трохила. По Паниасиду, сын Элевсина. По Орфею, сын Дисавла. Либо же, сын Геракла и Полигимнии. По элевсинскому преданию, Деметра, в образе смертной женщины, пришла к царю Келею в Элевсин и взялась воспитывать младшего брата Триптолема, Демофонта. Однажды ночью, желая дать Демофонту бессмертие, она положила его в огонь, но в это время как раз вошла Метанира. Испуганная мать подняла крик, а тем временем ребёнка истребило пламя. В вознаграждение за эту потерю Деметра подарила Триптолему запряженную драконами крылатую колесницу и пшеничные семена. По Гигину, не Демофонт, а сам Триптолем был положен Деметрою в огонь, причем отец его Элевсин, за то, что стал свидетелем таинства, был поражен смертью, а сам Триптолем – одарен упомянутыми атрибутами земледелия. Деметра излечила его от болезни, напоив соком мака и молоком, но не смогла дать бессмертие. Принес Деметре в жертву свинью, посыпав её соленой мукой. Пас быков. Как любимец Деметры, Триптолем был посвящён в тайну священных мистерий и стал жрецом богини, которая научила его обрабатывать землю; с его именем связано введение в Аттике земледелия и распространение оседлой культуры. Так, на прилегающем к Элевсину Рарийском поле, где показывали алтарь Триптолема, впервые, но преданию, была обработана земля под посев и собрана первая жатва. Позднее и в Афинах, на западном склоне Акрополя, утвердился культ Триптолема: здесь был построен Элевсиний и храм Триптолема, на месте, где Афина, также учительница земледелия, впервые вспахала землю. Показывали ещё одно место, которое, по преданию, было вспахано и засеяно Триптолемом при введении в стране хлебопашества: оно находилось на священной дороге, соединявшей Афины с Элевсином.
[Закрыть], извивавшейся между гранатовыми яблоками и ветвями смоковницы; принял участие в символической трапезе; отведал священного напитка из смеси молока и макового сока, вкусил освященного пирога; он увидел, как в ночном сумраке засветились чудодейственные статуи; он наблюдал за представлениями и плясками; он благоговейно внимал иерофанту в длинном одеянии и с пурпурной повязкой на длинных волнистых волосах, произносившему заповеди, которым был обязан неукоснительно следовать всякий посвященный.
Юлиан вел долгие беседы с этим «иереем божественных мистерий», черпая из глубин источника его знаний. Нетрудно догадаться, о каких вопросах шла речь в этих беседах. Способное привести ум человеческий в смятение, сбивающее с толку многообразие мистериальной символики было истолковано царевичу как образное выражение высших философских знаний и понятий. Возможно Юлиану, как и неофитам во времена Порфирия, было открыто, что иерофант представлял Демиурга, а дадух – жрец с факелом – образ бога Солнца; что жрец у алтаря символизировал Селену-Артемиду, а священный глашатай – Гермеса. Вне всякого сомнения – ибо об этом свидетельствовал сам Юлиан – ему растолковали, что празднества Великих Мистерий двух богинь – Матери и Дочери, Деметры и Коры-Персефоны – проходят в сентябре (или, согласно афинскому календарю – в месяце боэдромионе[114]114
Боэдромион (воидромион) – третий месяц аттического календаря, длившийся с середины сентября до середины октября.
[Закрыть]), под зодиакальным знаком Весов, по вполне определенной и понятной причине, ибо именно в это время подобает воздавать торжественные почести божеству, исчезающему с приходом осени, дабы защититься от неблагоприятного влияния надвигающегося темного, мрачного времени года.
Имя неоплатоника Ириска было впервые названо Юлиану мудрым старцем Эдесием в ходе их столь впечатлившей царевича встречи в Пергаме. В описываемое время так уважаемый старым философом теург пребывал в Греции, и Юлиан несомненно с ним там познакомился. В своем сочинении о жизни философов и софистов Евнапий Сардский писал о Ириске следующее:
«Он был скрытным, сдержанным и глубокомысленным, обладал отличной памятью. Приск знал все учения древних, и они всегда были у него на устах. Видом он был красив и высок, но мог показаться необразованным, поскольку его трудно было вовлечь в беседу. Свои убеждения Приск оберегал, словно сокровище, и о тех, кто болтал о своих взглядах, обычно отзывался как о мотах. Он говорил, что побежденный в философских диспутах не становится от этого лучше, но, воюя с истиной, раздражается от своих болезненных и честолюбивых наклонностей, становится более диким и, в конце концов, повреждаясь умом, начинает ненавидеть и литературу, и философию. Поэтому Приск всегда воздерживался от споров. Он вел себя неторопливо и отчасти даже надменно, причем не только, когда общался с друзьями и учениками, но был таким всегда, от юности до глубокой старости» (Евнапий). Эдесий, «отличавшийся общительным и приятным для всех людей характером», прогуливаясь, после философских дискуссий, по Пергаму в сопровождении своих учеников, «встречая какую-нибудь торговку овощами, был рад видеть ее и останавливался, чтобы поговорить с ней о ценах, о том, какой доход приносит ее лавка и даже о том, как выращивать овощи, и точно так же вступал в разговор, когда встречал ткача, кузнеца или плотника». Приск был единственным из учеников Эдесия, который, «не разделяя пристрастия своего учителя растрачивать время попусту на болтовню с необразованным простонародьем, «называл его предателем достоинства философии, человеком, знающим лишь жалкие словечки, сильно действующие на душу, но совершенно негодные для дел. Имея такой нрав», даже после прихода к власти, а затем – смерти Юлиана «Приск вел себя безукоризненно. Обогатив многими нововведениями своих учеников, которые, словно корибанты1, страстно неслись за его мудростью, оставаясь при этом всегда и везде скрытным и высмеивающим человеческие слабости, достигнув глубокой старости (ему было за девяносто лет), в то время, когда в Элладе разрушались храмы (по воле или с попустительства христианских властей – В. А.), Приск покинул этот мир» (Евнапий).
Особенно соблазнительным и привлекательным для Юлиана было глубокое знание Приском (как и Максимом) всех тайн неоплатонического учения. Он всегда относился к Приску с величайшим почтением, уважительно обращаясь к теургу «твоя милость», столь же сильно любя его, как и почитая. В одном из своих писем Юлиан передавал привет детям философа и его супруге Гиппии (Иппии), из чего следует, что он был знаком не только с самим Приском, но и с членами семьи неоплатоника. Именно от Приска и Максима, ставших спутниками Юлиана в его последнем, персидском походе, август-отступник получил последнее утешение на смертном одре.
Судя по всему, Юлиан, в ходе своего «философического тура» по материковой Греции, успел посетить не только Аттику, но и Пелопоннес, позднейший полуостров Морею. В своем панегирике под названием «Похвальное слово царице Евсевии», в котором Юлиан выразил признательность своей венценосной благодетельнице, добившейся для него императорского дозволения на поездку в Грецию, царственный Отступник в принятых тогда у мастеров изящной эллинской словесности витиеватых выражениях перечислил материковые греческие города, в которых тогда процветало [115]115
Корибанты – жрецы богини Кибелы, приходившие в священное неистовство во время посвященных ей религиозных церемоний.
[Закрыть] изучение философии: «<…> не может умереть <…> философия у эллинов, и не уходит она ни из Афин, ни из Спарты, ни из Коринфа. Так же, как эти источники (философских знаний – В. А.), Аргос не может быть назван многожаждущим (мудрости – В.А. у ибо многие (источники философских знаний, то есть философские школы – В. А.) суть в самом городе, (но за его пределами – В. А.) многие южнее (его порта – В. А.), близ славной в древности Масеты; Сикион сейчас, а не Коринф, обладает Пиреной. И в Афинах суть многие такие источники, чистые и бьющие из земли, и многие – что втекают в город извне, но они ничуть не менее славны, чем те, что внутри. Афиняне радуются им и любят их, ибо они хотят разбогатеть в том одном, что только и делает богатство завидным (то есть в мудрости, постигаемой посредством ее изучения в философских школах – В. А.)».
Вплоть до V века на территории материковой Греции не столько Афины, сколько Коринф и Арголида еще оставались очагами изучения того, что тогда понималось под философией. Именно в одной из этих областей странствующий по Пелопоннесу Юлиан видимо и познакомился с Иерием, или Гиерием, и его братом Диогеном. Согласно Ливанию, Юлиан, став августом, призвал бы к себе не только Приска и Максима, но также Иерия и Диогена, будь они еще живы. Что же касается еще одного друга Юлиана – Цельса, то о нем известно, что он изучал философию не только в Афинах, но и в Сикионе.
По утверждению Ливания, Юлиан прибыл в материковую Грецию, признав все, имевшееся в его распоряжении в Ионии, то есть в греческой (Малой) Азии, включая Пергам и Эфес – «ничтожным сравнительно с городом Афины, матерью Платона и Демосфена и прочей многообразной мудрости, чтобы увеличить запас своих знаний и чтобы вступить под руководство учителей, способных дать нечто больше того, чем он обладал раньше. Но, знакомясь с ними, предоставляя им испытывать себя и их испытывая, он скорее сам поражал их, чем им изумлялся, и он, один из юношей, прибывших в Афины, оставил их, скорее сам обучив других, чем усвоив новое. Поэтому вокруг него постоянно видны были рои юношей, стариков, философов, риторов. На него взирали с надеждою и божества, уверенные, что этот человек вернет культ предков. А он был одинаково привлекательным своею речью, и своею застенчивостью: ничего не говорил он без этого румянца стыдливости. Итак его кротостью пользовались все, его доверием – наилучшие люди».
В Элладе, все еще богатой древними, но по-прежнему живыми традициями, многочисленными памятниками культа «отеческих» богов, произведениями изобразительного искусства, святилищами и храмами, возвышавшимися буквально повсюду – вдоль дорог, в лесах и рощах, источников, на вершинах гор и в глубинах долин и ущелий, Юлиан, как в свое время – в Вифинии – привлекал к себе всех, сохранивших верность культу богов и стремившихся к их триумфальному возвращению.
Между тем отступничество Юлиана от его прежней, христианской веры все еще сохранялось царевичем в тайне. И потому в Афинах он общался не только с язычниками, но и со многими обучавшимися там философии христианами. Среди прочих, он познакомился там с Василием Кесарийским и с Григорием Назианзином. Последний оставил нам не слишком-то лестный портрет царевича-любомудра:
«Другие узнали (о вероотступничестве и о нечестивых помыслах Юлиана – В. А.) на собственном опыте, когда власть доставила Юлиану полную свободу; но я некоторым образом провидел это издавна, с тех пор, как был с ним вместе в Афинах, куда он прибыл вскоре по возвращении брата своего, испросив на то позволения у Императора. Были две причины для этого путешествия: одна благовиднейшая – обозреть Грецию и ее училища; другая отдаленнейшая и не многим известная – посоветоваться с тамошними жрецами; потому что нечестие не имело еще явной дерзости. И тогда я неплохо разгадал этого человека, хотя и не принадлежу к числу искусных в таком деле. Меня сделали прорицателем непостоянство его нрава и неумеренная восторженность; если только наилучший прорицатель – тот, кто умеет хорошо угадать. По мне, не предвещали ничего доброго: шея нетвердая, плечи движущиеся и выравнивающиеся, глаза бегающие, наглые и свирепые, ноги – не стоящие твердо, но сгибающиеся, нос, выражающий дерзость и презрительность, черты лица смешные и то же выражающие смех громкий и неумеренный, наклонение и откидывание назад головы без всякой причины, речь медленная и прерывистая, вопросы беспорядочные и несвязные, ответы ничем не лучше, смешиваемые один с другим, нетвердые, не подчиненные правилам.» («Слово пятое, второе обличительное на царя Юлиана»).
Да-а-а… какой разительный контраст между этой откровенной карикатурой и портретом Юлиана, изображенным Аммианом Марцеллином! Помните, уважаемый читатель?
«Внешность его была такова: среднего роста, волосы на голове очень гладкие, тонкие и мягкие, густая, подстриженная клином борода, глаза очень приятные, полные огня и выдававшие тонкий ум, красиво искривленные брови, прямой нос, рот несколько крупноватый, с отвисшей нижней губой, толстый и крутой затылок, сильные и широкие плечи, от головы до пяток сложение вполне пропорциональное, почему был он и силен и быстр в беге.»
Спрашивается: кому из двух очевидцев и свидетелей верить? Григорий Назианзин, разумеется, соученик царственного Отступника по Афинской философской школе (да тому же святой человек), Марцеллин же – всего лишь подчиненный Юлиана по военной службе (но ведь, с другой-то стороны, Аммиан писал свою «Римскую историю», сиречь «Деяния», уже после гибели своего любимого «отца-командира» и августа, после крушения предпринятой тем грандиозной попытки повернуть вспять ход колеса истории, в самый разгар торжества его противников-«галилеян» на всех уровнях, так что приукрашивать ниспровергнутый кумир ему не было никакого расчета и никакой выгоды)…
В насмешливых, издевательских уличных песенках и шуточках, в которых, высмеивая Юлиана, изощрялись острые на язык антиохийцы, он именовался, вполне в стиле Григория, «кекропсом (обезьяной – В. А.), карликом, который выставляет вперед свои узкие плечи и свою козлиную бороду, ходит огромными шагами, как будто будучи братом Ота и Эфиальта, которым Гомер приписывает невероятно большой рост». В действительности объяснение тому, что поведение Юлиана казалось иногда неловким, выспренним или высокомерным, следует, видимо, искать в присущей ему почти болезненной застенчивости и робости. Не случайно Ливаний, естественно, пристрастный по отношению к своему любимцу, сообщает, что для жителей и гостей Афин Юлиан «был одинаково привлекательным своею речью, и своею застенчивостью (курсив здесь и далее наш – В. А.) ничего не говорил он без этого румянца стыдливости».
Тот же самый Ливаний описывает нам и восторженные, а порой – и экзальтированные формы, в которых Юлиан выражал свои чувства дружбы, приязни и симпатии:
«И когда он (Юлиан – В. А.) говорил (на заседании сената – В. А.) и одно хвалил, другое порицал, третье внушал, некто извещает о прибытии учителя, ионийца, известного под прозвищем философа из Ионии, а Юлиан, вскочив с своего места среди старшин, побежал в двери, в том же порыве, как Херефонт к Сократу, но тот, быв всего Херефонтом и в палестре Таврея, а этот владыка мира и в высшем собрании (сенате – В. А.), всем показывая и возглашая своими поступками, что мудрость почетнее царской власти и что все, что в нем есть превосходного, это дар философии. Итак, обняв его и поцеловав, как в обычае скорее у частных людей в приветствии друг к другу или у царей, но между собою, он ввел его, хотя он не был сочленом сената, полагая, что не место красит человека, а человек место, и побеседовав с ним в присутствии всего собрания о том, каковым, благодаря ему, он стал вместо прежнего, удалился, держа его за правую руку. Какое значение имели эти его поступки? Он не только отплачивал этим, как мог бы иной предположить, за воспитание, но и призывал к образованию молодежь, где бы она ни жила, прибавил бы я, и старость, так как и старики уже устремились к ученью. Ведь все, что владыки оставляют в пренебрежении, встречает и общее пренебрежение, а что они чтут, тем все занимаются прилежно…»
Даже сделав скидку на неизбежную и понятную пристрастность Ливания к своему покровителю, ставшему для него образцом идеального правителя – нельзя не признать, что перед нами – срисованный с натуры портрет не только просвещенного монарха, царя-философа, но и вообще интеллигента с большой буквы (а не напыщенной, надутой от сознания собственного величия куклы в золоте и пурпуре, вроде его двоюродного братца – благоверного августа Констанция, да и многих других).
Впрочем, в одном пункте можно вполне согласиться с прозорливым Григорием Назианзином: сами сочинения Юлиана во многих местах отражают нервную поспешность, торопливость свойственной ему манеры выражаться. Он часто излагает свои мысли путано и сбивает читателя с толку бесчисленными повторами. Видно, что над своими сочинениями он работал в вечной спешке (что, конечно, объясняется не только его постоянной занятостью, но и свойствами его беспокойной натуры и вечно мятущейся души, охваченной тревогой и страхом не успеть совершить все задуманное).
В период своего пребывания в Афинах Юлиан, как будто сотканный из сплошных противоречий, еще не обладал должной уверенностью в себе, позволившей бы ему вести себя соответственно своему положению. Естественный и импульсивный, неуверенный в себе и, тем не менее, порою поразительно отважный и решительный, склонный к забвению завета мудрого гота Мардония блюсти меру во всем, и к проявлению чрезмерности во всем – вплоть до чрезмерно громкого смеха и чрезмерно бурного выражения своих чувств, он лишь после долгих лет учения овладел искусством властвовать собой, стараясь не разучиться этом искусству и неустанно совершенствуясь и упражняясь в нем в зрелые годы.
Ранней осенью Юлиан внезапно получил приказ от императора прервать обучение и возвратиться в Медиолан. Очень испуганный и почти приведенный в отчаяние, он задался вопросом, не ждет ли его судьба злополучного цезаря Галла. Совесть изнуренного, истерзанного двоемыслием царевича отнюдь не была спокойна. Мысль о том, что о его многочисленных встречах с языческими жрецами и философами могли донести императору, наполняла двоедумца Юлиана невыразимым ужасом перед возможно грозящим ему серьезным обвинением. В приливе чувств он обратил слезную молитву к Афине Палладе. «Какие проливал я реки слез» – писал Юлиан впоследствии в своем послании афинянам – «какими стенал плачами, когда взывал, простирая руки к вашему Акрополю, да спасет Афина молящего ее, да не бросит его! Многие из вас были тому очевидцами, многие могут это засвидетельствовать, и помимо всех сама богиня – свидетельница, что хотелось мне умереть в Афинах, прежде чем ехать (к августу Констанцию, или, как предпочел дипломатично выразиться осторожный Юлиан, к тому, «кто, как я знал, уничтожил всю мою семью, и кто, как я подозревал, в недалеком будущем злоумыслит и на меня». – В. А.). То, что богиня не предала и не оставила молящегося к ней, она показала делом, ибо повсюду была она водительницей моей и хранительницей, посылая мне вестников Гелиоса и Селены.» («Послание сенату и народу афинскому»).
В Афинах было принято в день отъезда знатных искателей мудрости, завершивших свой курс обучения в «оке Эллады», устраивать им торжественные проводы. Прощание происходило при всеобщем плаче, после долгих прощальных речей, жалоб на предстоящую разлуку, объятий, поцелуев и рукопожатий. В отношении Юлиана не было сделано никаких исключений. Да и сам царевич вел себя так, как полагалось в таких случаях, как было предписано стародавним обычаем. Он также проливал обильные слезы, ломая руки и простирая их с борта отходящего корабля к удаляющейся гавани Пирея. Однако в его случае, как всегда, за театральными жестами скрывались самые глубокие и искренние чувства.
Впоследствии Юлиан в память о счастливом времени своего пребывания в Греции сочинил прочувствованный панегирик Элладе и ее жителям, сравнив себя в этом похвальном слове с корибантами, испытывающими священный трепет, вызываемый в них звуками флейты.
Приложение
Автобиографический миф, сочиненный Юлианом (Извлечение из «Послания к Ираклию Кинику»)
«Некий богатый человек имел многие отары овец, стада быков и «бродящих коз», десятки тысяч лошадей «по долинам паслось». Он имел и множество пастухов – и рабов, и свободных, и козьих, и бычьих, и табунщиков, обладал он и многим иным имуществом. Много всего завещал ему отец, но во много раз больше нажил он сам, желая разбогатеть – честно или бесчестно; мало он заботился о богах. Было у него несколько жен, сыновей и дочерей от них – между ними он и разделил свое имущество, пока еще был жив. Но он не учил их, как управлять имуществом, как нажить его, если его нет, и сохранить, если есть. Ибо из-за своего незнания он думал, что достаточно [наличного] множества, да он и сам не имел точных знаний об искусстве [наживы], ибо нажил свое богатство не благодаря следованию логосу[116]116
Логос – понятие древнегреческой философии, означающее одновременно «слово» и «термин». Гераклит, впервые использовавший его в философском смысле и, по существу, отождествлявший его с огнём как основой всего, называл логосом «вечную и всеобщую необходимость». Христиане назвали Логосом Бога Сына Иисуса Христа – Воплощенное Слово Божие.
[Закрыть], но скорее, в силу опыта и привычки к таким делам, как и дурные доктора пытаются помочь людям, опираясь лишь на собственный опыт, так что многие болезни избегают их [врачевства]. Соответственно, поскольку он полагал, что множества сыновей достаточно, чтобы сохранить его богатство, он не думал о том, чтобы сделать их людьми добродетельными. Это-то и послужило причиной того, что они начали творить беззакония по отношению друг к другу. Ибо каждый из них хотел иметь столь же много, сколь и отец, каждый хотел сам обладать всем: ради этого восставал брат на сопредельного ему брата. Так продолжалось некоторое время. И родственники сыновей разделяли их невежество и безумие, поскольку и сами не имели должного воспитания. Затем последовала всеобщая резня, и демон осуществил на деле трагические проклятия, и лезвия мечей разделили их вотчину, и все преисполнилось смятения. Дети разрушили родовые храмы, которые прежде презирали их отцы, и они забрали оттуда пожертвования, оставленные иными людьми, но не их предками. Мало того, что они (христиане-«галилеяне» – В. А.) разрушили храмы, они к тому же понастроили склепов (церквей и часовен, возводимых на местах захоронения мучеников, пострадавших за Христа, и других христианских святых – В. А.) и на новых местах, и на местах старых храмов, как если бы им возвещала сама судьба или сам ход вещей, что, в силу нерадения о богах, им вскорости понадобится еще много таких гробов.

Римский «портретный» перстень
Итак, когда всё было в смятении, и было заключено много браков, которые не были браками, когда были поруганы законы божеские и человеческие, подвигся состраданием Зевс и обратился к Солнцу: «О сын, божественный отпрыск старейший земли и неба, ты еще помнишь высокомерие дерзкого и заносчивого мужа, высокомерие, навлекшее на него и его род столь многие бедствия в силу того, что он отказался от тебя? Видишь ли ты, что хоть ты и не гневаешься, не негодуешь, не остришь стрелы против его детей, ты, тем не менее, есть причина его разорения, ибо непроизвольно обрекаешь его дом разрушению? Пусть же, – сказал Зевс, – возвестят нам Мойры (греческие богини Судьбы, которым у римлян соответствовали Парки – В. А.), можем ли мы подать какую-то помощь этому человеку». И тотчас послушались Зевса Мойры. Гелиос же размышлял и обдумывал нечто в себе, взирая на Зевса. И сказала старейшая из Мойр: «Нет, отец, благочестие и справедливость препятствуют нам. Раз уж ты приказал нам содействовать людям, то теперь твое это дело – привести их к повиновению». И отвечал им Зевс: «Воистину, вы – мои дочери, и достойно вопрошать вас. Что имеете вы сказать, о, достопочтенные богини?» «Отец, – отвечали они, – ты сам господин. Посмотри за тем, чтобы нечестивая ревность к злодеяниям не возобладала среди всех людей». «За всем, – сказал, – присмотрю». И они приблизили и впряли всё то, что отец желал.
Затем Зевс обратился к Гелиосу: «Взгляни, – вот твое дитя». (Это был родственник тех братьев, который был отвергнут и презираем, хотя он был племянником того богача и двоюродным братом его наследников). «Это дитя, – сказал Зевс, – твой собственный отпрыск. Клянусь твоим и моим скипетрами, ты должен позаботиться о нем, уберечь его, исцелить его болезни. Взгляни, он наполнен копотью, нечистотами и их испарениями, и если ты не облачишься в могущество, то погаснет искра вложенного в него [твоего] огня. И я, и Мойры уступили тебе это: позаботься о нем и воспитай. Услышав это, возвеселился Царь Солнце и возрадовался отпрыску, поскольку узрел, что малая искра его самого все еще сохраняется в ребенке. С этого времени он вскармливал дитя и хранил его
Вне пораженья, и крови, и бурной тревоги.
Отец Зевс приказал также Афине – деве, не имеющей матери, вместе с Солнцем выпестовать младенца. И когда он был вскормлен и стал юношей,
Первой брадой опушенным, коего младость прелестна, он во множестве изучил то зло, в котором погрязли его родственники и двоюродные братья, и чуть было сам не оказался в Тартаре, пораженный величиной их зол. Затем Гелиос своей милостью вместе с Афиной Пронойей погрузил его в глубокий сон, или обморок, и тем самым отвратил его помыслы от этого. Сразу же по пробуждении он отошел в пустыню. Там он нашел камень и на нем ненадолго успокоился; он размышлял в себе, каким образом ему избегнуть зол – стольких и такой величины. Все казалось ему жалким, ибо тогда нигде не встречал он еще прекрасного. Затем Гермес, родственный ему, явился к нему в облике юноши его лет и, приветствуя его, ласково сказал: «Следуй за мной! Я поведу тебя путем более легким и ровным, как только ты выйдешь из этого кривого и гиблого места, где, как ты видишь, все оступаются и куда все возвращаются вновь». Юноша отправился в путь с великой осмотрительностью, будучи препоясан мечом, имея с собой также щит и копье, хотя и была открыта в тот момент его голова. Доверившись Гермесу, он пошел ровной дорогой, неисхоженной и блистающей чистотой, где над головой свисали тяжелеющие плоды и росли прекрасные цветы, которые любят боги, и были там плющ, лавр и мирт. И когда Гермес повел его к массивной и высокой горе, то сказал: «На вершине этой горы обитает Отец всех богов. Смотри, здесь тебя ожидает великая опасность, поклоняйся ему с величайшим благочестием и проси то, чего желаешь. Желай же, дитя, наилучшего». Так говорил Гермес, постепенно исчезая, хотя юноша и желал узнать у него, что должен он просить у Отца богов. И когда он увидел, что Гермеса уже нет с ним, то сказал: «Отсутствие совета само по себе хороший совет. Да испрошу же я, в силу благой судьбы, наилучшее, хоть и не вижу еще ясно Отца богов. О Отец Зевс, или какое еще имя любезно тебе, чтобы люди могли хоть как-то именовать тебя, покажи мне дорогу, которая возвела бы меня ввысь к Тебе. Ибо действительно прекрасной кажется мне страна, где обитаешь Ты, но я могу судить о Твоей красоте из сиятельности места, которого я достиг».
Когда он произнес эту молитву, на него сошел некий сон или исступление – Зевс показал ему самого Гелиоса. Пораженный юноша воскликнул: «И из-за иного, и из-за этого всего вознесу я себя к Тебе, о Отец богов!» Тогда объял он колени Гелиоса и не разжимал объятия, умоляя спасти его. Гелиос же приказал Афине узнать, что за оружие принес он собой. Увидев его щит, меч и копье, она сказала: «Где же, дитя, твоя эгида и твой шлем?» «Даже тем, что имею, – отвечал он, – я владею с трудом. Ибо в доме моей родни нет помощи презренному». «Знай, – сказал великий Гелиос, – ты должен возвратиться туда». Юноша стал умолять не посылать его туда вновь, но оставить здесь, ибо он уже никогда не сможет взойти сюда позднее, но будет поглощен бездною земных зол. И поскольку он просил упорно и со слезами, отвечал ему Гелиос: «Нет, ведь ты еще юн и не посвящен в таинства. Потому иди к людям, которые могут тебя посвятить, и будь осторожен, живя на земле. Должно тебе вернуться и вымести [из своего отечества] всякую скверну, призывая в помощь меня, Афину, и других богов». Когда Гелиос говорил это, юноша хранил молчание. И возвел его Гелиос на гору, высшая часть которой была наполнена светом, низшая же окутана глубочайшим мраком, через который, как через воду, проникали все-таки, хотя и смутно, лучи солнечного света. «Видишь ли ты, – сказал Гелиос, – тех пастухов, быков и овец?» Юноша отвечал, что видит. «Что за человек этот наследник? И каковы, опять же, его пастухи?» – «Он кажется мне по большей части погруженным в сон, забвенье и влекущимся к удовольствиям; среди его пастырей мало честных людей, большинство же – порочны и зверообразны. Они пожирают и продают его овец, и вдвойне преступней своего господина, ведь они не только уничтожают его стада, но и получают от них огромные прибыли, отдавая ему лишь малую часть, и при этом еще рыдают и жалуются на судьбу, что не получают, дескать, жалованья. Да уж лучше бы требовали себе большое жалованье, чем уничтожать стада!» «А что, если теперь я и Афина, – отвечал Гелиос, – исполняя волю Зевса, поставим управлять всем этим тебя вместо него?» И вновь прильнул к нему юноша и умолял его сильно, чтобы остаться ему Там. «Не будь упорен в непослушании, – сказал тогда Гелиос, – ибо так же могу ненавидеть, как прежде безмерно любил».
И сказал юноша: «О великий Гелиос, и ты, Афина, и тебя, Отец Зевс, призываю в свидетели, сотворите со мной то, что сами желаете!» Тогда вдруг вновь стал явен Гермес и сделал юношу отважнее, ибо он в том момент понял, что обрел проводника и на обратный путь, и на все свое земное странствие. «Знай, славный юноша, – сказала Афина, – ты наша отрасль – моя и этого бога, твоего благого Отца. Лучшие из пастухов недовольны наследником, ибо льстецы и негодяи сделали его своим рабом и послушным орудием. Он не любил должного, но совершал великие несправедливости под влиянием тех, кого считал любящими его. Будь осторожен, ибо когда вернешься, он поставит тебя скорее другом, чем льстецом. Услышь также и это второе поучение, дитя. Человек часто пребывает во сне и нередко бывает обманут, ты же трезвись и бодрствуй, и пусть лесть, сокрытая под личиной дружеской откровенности, не обманет тебя, как [не обманет тебя] и покрытый дымом и копотью кузнец, облачившийся в белые одежды и убеливший мазью лицо, чтобы убедить тебя отдать ему в жены одну из твоих дочерей. Третий мой совет таков. Ревностно блюди себя, страх же перед нами ставь превыше всего, как и почтение к людям, подобным нам, и ни к кому другому. Видишь, как чрезмерный стыд и излишняя робость испортили этого глупца?»
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































