Текст книги "Тишина"
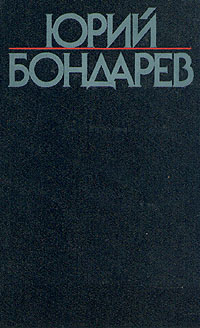
Автор книги: Юрий Бондарев
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 24 (всего у книги 28 страниц)
8
– Нас, пожалуйста, на Тверской бульвар.
Он не взглянул на пассажиров, машинально переключил скорость. Потом донесся молодой басок, разговор и смех за спиной, но Константин не слушал, не разбирал слов – как он ни пытался после выезда из парка вернуть прежнее спокойствие, это уже не удавалось ему. Было ощущение рассчитанной или не случайно поставленной ловушки; он еще не верил, что дверца захлопнется, но вдруг огляделся и увидел, что дверца позади задвигалась. И он еще понял, что полчаса назад ему терпеливо, вежливо и настойчиво предлагали выход. Но не понимал одного – почему, зачем и для чего это делали, если знали, что у него было оружие? Тогда с какой целью испытывали его?
«Так ли все это?»
– Ты не смейся! Ну, какое же это зло, Люба? – послышался громкий голос с заднего сиденья. – Это же скорее добро! Поверь. Она поймет, что я не отнимаю тебя у нее…
«Зло?.. – думал Константин, глядя на асфальт, мчавшийся под колеса островками блещущего под солнцем льда. – А что же – добро? „Добро“, – с неприязнью вспомнил он сморщенное, плачущее лицо человека, ночью топтавшего свою шляпу возле парикмахерской. – Именно… понятие из библии. Белого, непорочного цвета. Ангельской прозрачности. Голубиного взгляда. Божественно воздетого к небу. И венец над головой, черт его возьми! Прав был тот, топтавший шляпу? Да, именно! А добренькое добро наивно, доверчиво, как ребенок, чистенько, боится запачкать руки. Оно хочет, чтобы его любили. Оно очень хочет любви к себе. И я хотел любви к себе, улыбался всем, ни с кем не ссорился, дайте только пожить! Быков… настрочил донос. Очная ставка! И – поверили!.. Но почему он спросил о Быкове?.. Изучал анкету? Наводил справки? Как это понять: „После войны вы работали с Быковым“?
«Так что же? И с тобой так? Верить в чистенькое добро? И что же? И что же?»
Он очнулся оттого, что невольно глянул на пассажиров в зеркальце – в нем как бы издали дрожал пристальный взгляд девушки и донесся из-за спины убеждающий басок, особенно четко расслышанный Константином:
– Пойми, Люба, мама не будет возражать. Ты просто хочешь мне зла! Мы скажем ей все. У матери комната. Люба, ты должна жить у меня.
– Но я не могу, не могу! Я не хочу ссориться с твоей матерью. Мне кажется, она ревнует тебя ко мне.
– Люба…
В зеркальце возникла юношеская рука, поползла на воротник к подбородку девушки, и рыжая кроличья шапка парня надвинулась на зеркальце, загородила ее лицо, ее рот.
Константин сказал:
– Тверской бульвар.
Когда они сошли, он посмотрел им вслед. Они стояли на тротуаре, парень что-то быстро говорил ей, она молчала.
«А Ася… Ася! Как же Ася?»
Трое сели на Пушкинской площади – один грузный, головой ушедший в каракулевый воротник, щеки мясистые, лиловые от морозца, на коленях портфель с застежками на ремнях.
Отпыхиваясь, тучным своим телом создав на переднем сиденье тесноту, жирным баритоном сказал:
– Прошу нажать, уважаемый водитель!
– Нажму, если выйдет.
Грузный человек рассеянно покопался в портфеле, подал какую-то бумагу двоим на заднем сиденье, потом, мучаясь одышкой, начальственно заговорил:
– Ну и что же, что же, товарищ Ованесов? Вы считаете, что я волшебная палочка, что я вам из-под земли грейферные краны достану? Министр, только министр… Резолюция Василия Павловича – и пожалуйста! Выше Василия Павловича не прыгнешь – портки лопнут! Тр-ресь по швам – и по шее еще дадут!.. Ха, строители-мечтатели! Дети вы, дети! Расчеши вас муха!..
Молодой голос сказал сзади:
– Шахта будет пущена в эксплуатацию в этом году. Вы прекрасно знаете, что шахта союзного значения, с новейшим оборудованием. Шахта без грейферных кранов – чемодан без ручки, Михаил Михалыч! Как вы предлагаете – лес вручную разгружать? Рабочим носить бревна под мышками? Ошибаетесь, мы не дети! Мы и зубки можем показать, Михаил Михалыч! Мы будем драться, Михаил Михалыч.
В зеркальце – молодые вызывающие глаза с упрямством устремлены на грузного человека; тот захохотал, колыхнул животом портфель на коленях.
– Давай жми, Сизов, грабь, выколачивай, пиши письма! У меня пятнадцать новых шахт на шее, вот где! – Он похлопал себя сзади по каракулевой шапке. – Сроки! План! Проектная мощность! И все требуют, на горло наступают, дерут! Вы что ж думаете – я один решаю? Вам там в Туле хорошо, а мне, мне как?
Третий произнес:
– Вам лучше, как видно, Михаил Михалыч.
– Что, что? – осерженно пробормотал грузный. – Как это – лучше? Строители-мечтатели!.. Что? Как? Хотите в план анархию ввести?
– Вы, кажется, из Тульского бассейна? – неожиданно для себя спросил Константин. – Как я понял.
– А? – Грузный повел глазами в его сторону. – Что такое? Давай знай, такси, в угольное министерство! Нечего тут прислушиваться, понимаешь!
Не меняя выражения лица, Константин спросил:
– Вы не двоюродный ли брат коммерческого директора Петра Ивановича Быкова? Вы хозяйственник, не правда ли?
– Малахольный… Нас везет малахольный шофер! Вы трезвы, товарищ? – Грузный пыхнул хохотом, придерживая на коленях портфель. – Какой еще Быков, драгоценный мой?
Константин сказал:
– Мне показалось. Извините, если ошибся. Площадь Ногина. Прошу вас. Министерство угольной промышленности. По счетчику. И ни копейки больше.
Он остановил машину у подъезда, насмешливо взглянул на грузного, завозившегося с полой драпового пальто – доставал деньги.
Они вышли. Грузный, заплатив точно по счетчику, зашагал по хрустевшему стеклу застывших луж – к подъезду, у широкой двери сердито-удивленно оглянулся, двое тоже оглянулись – Константин с бесстрастным выражением смотрел на серое здание министерства.
На бульварах он обогнал «Победу» Сенечки Легостаева и притормозил машину, опустив стекло, – студеный воздух, металлически пахнущий ледком, мерзлой корой зимних бульваров, охолодил лицо. И тотчас Сенечка, заметив притершуюся рядом машину, нагловато ухмыляясь, убрал стекло, крикнул Константину:
– Как делишки? Живем?
– Пожалуй.
– Вечером, Костька, время найдешь? Хочу познакомить тебя! Прелестные девушки! – Легостаев сдвинул со лба шапку, моргнул на заднее сиденье. – Как, а? Первый класс!.. Глянь! Убиться можно!
– Знаешь что…
– Так как? А?
К стеклу из глубины сиденья наклонились, прислонясь щеками, два женских напудренных личика – одинаковые пуховые шапочки, кругло подведенные брови, чересчур алые губы выделялись вместе с расширенными вопросительными глазами. Одна из них, оценивающе сощурясь, равнодушно поманила пальчиком в черной кожаной перчатке. Константин усмехнулся, отрицательно покачал головой. И тогда другая, постарше, вздернув черные выщипанные брови, грубовато просунула кисть к щеке молоденькой, рывком отклонила ее от стекла и, засмеявшись Константину мужским смехом, поцеловала ее в губы.
– Как? Шик! Парижские девочки! – подмигнул Легостаев восхищенно. – И такие по земле ходят! Дурак ты женатый, Костька!
– Я бы тебе посоветовал бросать все это к чертовой матери! – сказал Константин. – Ты это понял?
– Чихать я хотел! К чему придерешься? – крикнул Легостаев. – Пусть план с меня требуют! Чего бояться-то? Я человек честный!
– А я бы тебе посоветовал бросать это к черту, – повторил Константин. – Ты понял, Сенька?
– Живи, Костька!
«Победа» Легостаева свернула в переулок, и Константин, нахмурясь, поднял стекло – машину продуло жестким холодом, выстудило тепло печки; он подумал почти с завистью: «Сенечка живет как хочет. Что ж, когда-то и я жил так, не задумываясь ни над чем. Но тогда не было Аси, тогда ничего не было. Было только ожидание. Что же это со мной? Страх за себя? За Асю? Страх? Может быть, опыт рождает страх? Привычка к опасности – вранье! Только в первом бою все пули летят мимо. Потом – рядом гибель других, и круг суживается…»
Он вывел машину на Манежную площадь и посмотрел на ресторан «Москва», испытывая щекочущий холодок в груди, затормозил в ряду машин у светофора возле метро, напротив входа в ресторан. Там, за колоннами, откуда от высоких дверей тогда ночью сбегали трое (он тогда увидел троих, как он помнил), сейчас никого не было. Только ниже ступеней толпа двигалась к метро, переходила на улицу Горького, выстраивались очереди на троллейбусных остановках – обычная зимняя будничная толпа. И, глядя на толпу, он почему-то успокоился немного.
«Но Михеев… Соловьев… – подумал опять Константин с прежним тошнотным ощущением. – Почему он спросил о Быкове? Почему он напомнил о Быкове?»
Красный свет в светофоре скакнул вниз, перешел в желтый, перескочил в зеленый.
Ряд машин тронулся.
Руки его, от волнения ставшие влажными, вжались в баранку, привычно гладкую, округлую поверхность ее; и в это время кто-то, запоздало выскочив из троллейбусной очереди, свистнул («Эй, эй, такси!), но он проехал через перекресток на улицу Горького с облегчением, что не посадил никого.
На площади Пушкина свернул к стоянке такси – в очереди он был пятый, – вышел из машины купить сигареты. Он сунул деньги в окошечко табачного ларька и, когда брал сигареты со сдачей, сбоку пьяно навалился, ерзая плечом, молодой парень в кепочке, осипло говоря:
«Мне, трудящему человеку, „Беломор“. И Константин, теряя мелочь, не увидел, не успел разобрать черты его лица, выругаться.
В десяти шагах от ларька, на углу, около телефонной будочки вполоборота стоял невысокого роста, с покатыми плечами борца мужчина в спортивном полупальто, стоял, развернув газету, невнимательно пробегал строчки и одновременно из-за газеты взглядывал на площадь, на близкую стоянку такси, – и Константин почувствовал оглушающие горячие прыжки крови в висках.
Не попадая пачкой сигарет в карман, Константин двинулся по тротуару, внезапно свинцовая тяжесть появилась в затылке, в спине, в ногах. Эта тяжесть тянула его книзу, назад, непреодолимо требовала обернуться туда, на угол, но он не обернулся. Он с правой стороны влез в машину, включил мотор и лишь тогда, преодолевая эту тяжесть в спине, в затылке, оглянулся назад. Человека с газетой на углу не было.
«Все!.. – подумал Константин. – Я не мог ошибиться!.. Что же это, что же? За мной следят? Может быть, я не замечал раньше? Не обращал внимания? Или это мания преследования?»
9
– Квартира тридцать семь – на третьем этаже?
– Кажется.
На площадке третьего этажа, пахнущей едкой кислотой, Константин отдышался, посмотрел в огромное окно, ощущая коленями накаленную паровую батарею. Машина стояла внизу у края тротуара, на другой стороне этой тихой и узенькой окраинной улицы; желтели окна в деревянных домах.
И мимо них, мимо фонарей и машины косо летел легкий снежок.
Константин подождал на площадке, успокаиваясь перед темными дверями незнакомых квартир с черными пуговками звонков, почтовыми ящиками; запыленная, в разбитом плафоне лампочка тлела под потолком, на стены сочился свет, как в мутной воде.
– Тридцать семь…
Он вполголоса откашлялся, подошел к двери с номером «37» – массивной, дубовой, какие бывают только в старых домах, и тут же сильным нажимом позвонил два раза.
Звонок заглушенно прозвучал где-то рядом, за дверью; показалось, смолк, будто в далеком пространстве, и Константин позвонил еще раз – долгим, непрерывным звонком.
Он ждал, притискивая пальцем кнопку; этот раздражающе-серый огонь лампочки на площадке слабо освещал массивную дверь, и железный почтовый ящик, и потускневшую на нем наклейку какой-то газеты.
– Кто там?
– Простите, Быков здесь живет?
– А в чем дело? Кто?
– Откройте, пожалуйста.
Загремели ключом, щеколдой, защелкали французским замком, потом дверь приоткрылась, возникла в проеме, задвигалась полосатая пижама, половина освещенного лица, ежик волос. И Константин, рывком оттолкнувшись от косяка, шагнул в переднюю и сейчас же, не поворачиваясь, захлопнул дверь за собой, услышав сзади звонкий стук замка.
– Здравствуйте, Петр Иванович! – проговорил он. – Сколько лет, сколько зим! Не разбудил вас? Не узнали?
– Кто? Кто?
Быков, заметно постаревший, дрогнув опавшим, даже худым, лицом с темными одутловатостями под глазами, отшатнулся к шкафу в передней, не узнавая, стал подымать и опускать руки, выговорил наконец:
– Костя?.. Константин?..
– Угадали? Что ж мы торчим в прихожей, Петр Иванович? – сказал Константин наигранно-радостно. – Проводите в апартаменты, не вижу гостеприимства! А где же Серафима Игнатьевна?
Быков, изумленно собрав бескровные губы трубочкой, попятился от шкафа в комнату, из которой розовым огнем светил висевший над столом абажур, и, не сумев выговорить ни слова, указал рукой.
– Благодарю, – сказал Константин.
В комнате, громоздко заставленной мебелью, кабинетными кожаными креслами, старинным зеркальным буфетом, отливающим на полочках стеклом посуды, ваз, рюмок, Константин, не сняв куртки, тотчас упал в кожаное кресло, бросил на комод шапку, выложил на плюшевую скатерть сигареты, спички, глянул на Быкова.
– Ну вот! – произнес он. – Теперь я вижу, как вы устроились. Кажется, неплохо. Адресный стол дал точный адрес. Прекрасный тройной товарообмен. Соседи не мешают?
– Рад я, Костя, рад… Пепельница… на буфете, Костя, – проговорил Быков и снова поднял и опустил руки. – Ах, Костя, Костя…
– Что же вы стоите, Петр Иванович?
В углу комнаты над диваном малиновым куполом светился торшер; на тумбочке стакан с водой, какой-то порошочек; вдавленная подушка лежала на диване, и Быков сел возле нее, подобрав ноги в тапочках, пижамные брюки натянулись на коленях; все его неузнаваемо осунувшееся лицо пыталось выразить нечто похожее на улыбку.
– Костя… Костя… Да, Костя, вот живу здесь… Коротаем преклонные годы… Далеко от центра, от метро. Сообщение автобусом. И… и магазинов мало, – заговорил Быков слабым, растроганным голосом. – Магазинов мало… Неудобно я обменял, Константин, неудобно… Скучаю по старой квартире. А Серафима Игнатьевна гостит в Ленинграде, у дочки… Верочка замуж вышла… А я вот третий месяц как из больницы вышел, операцию перенес, Костя. Вот как получилось.
Константин намеренно не смотрел на Быкова, смотрел на коробок, по которому чиркал спичкой с нарочитой неторопливостью; закурил, сказал:
– А я, признаться… – Константин проследил, как дым сигареты шел к абажуру, струей толкаясь в него. – Признаться, я не думал застать вас дома, Петр Иванович.
– То есть как? Почему же, Костя? – спросил и поперхнулся вроде Быков. – Кончаю в восемь часов. В театры, концерты не хожу. Стар. И болен я… Да и никогда не ходил. У меня семья… сам знаешь. Эх, Костя-Константин, вспоминал тебя, все время помнил я. Как же я рад, что заглянул ко мне, обрадовал старика. Вот спасибо. Лады. А то бирюками живем… знакомых никаких нет. Спасибо. А я слышу, звонок, думаю: «Ну кто бы это, ошибся кто?» Пить мне категорически нельзя, а может, ты рюмочку пропустишь? Ах, спасибо, что пришел! Жаль, Серафимы Игнатьевны нет, она тебя… вспоминала…
Константин заинтересованно прищурился на него.
– Признаться, я думал, Петр Иванович, – упорно договорил он, – что вы давно… – Он показал перекрещенные пальцы. – Оказывается, нет. Приятно удивлен. Просто не верится. Ну что ж, видимо, не все сразу.
– Шутишь все? Неужто не изменился совсем? – Быков качнулся вперед, неспокойно заелозил по полу тапочками. – Ах, не изменился ты, Константин. Вроде вон седина на висках, а не изменился. Весело проживешь жизнь.
– Не верится. Неужели это вы, Петр Иванович Быков? – проговорил Константин. – Не верится.
Быков сидел перед ним, весь седой, отечный, моргая красноватыми припухлыми веками, и Константин видел его какое-то опавшее желтое лицо, его странно костистый покатый лоб, открытую волосатую грудь и спущенные на сливочно-белых ногах шерстяные носки, теплые тапочки – эти признаки домашности и семьи; видел ковры на стене, диван, громоздкую, не без претензии на роскошь мебель, как будто стиснувшую со всех сторон его, – и медленно повторил:
– Неужели это вы, Петр Иванович Быков? И я у вас когда-то работал?
– Что? – приоткрыл веки Быков и уперся растопыренными пальцами в диван. – Ты, Костя, вроде не в духе никак? Ах, шут тебя возьми, всегда ты был парень с шуточкой. Давай-ка, – он устало поднялся, старчески зашаркал тапочками, направился к буфету, – пропусти малую за здоровье да вспомним старое, мы ведь с тобой, Константин…
Константин покусал усики.
– Что ж, не пропустим, но – вспомним! Вот это ваш письменный стол, уважаемый Петр Иванович? Вот этот ваш? Что здесь – бумаги, деньги?
Быков уже держал графинчик, вынутый из буфета, повернул голову, замер; дверца буфета, скрипя, закрываясь, уперлась в его плечо, собрав складкой пижаму.
– Ты что, Константин? – спросил он и понял. – Никак за деньгами приехал? Чудак, сразу бы и сказал. Найдем. Вчера как раз получку получил. Да много ли тебе надо? Бери. Ничего, сведем концы с концами! Бери.
С графинчиком он приблизился к широкому письменному столу, выдвинул ящик, затем отсчитал в нем несколько ассигнаций.
– На, двести пятьдесят тут, потом отдашь, будет если… Ну садись, выпей маленькую. Где работаешь-то?
– В уголовном розыске, – сквозь зубы сказал Константин и двинулся к столу, упрямо и зло глядя в глаза Быкова. – Меня интересуют не водка, не деньги, Петр Иванович! Меня интересуют доносы. Все копии ваших доносов! Вы меня поняли? И если вы сделаете шаг к двери… – выговорил он с угрожающим покоем в голосе. – Я не ручаюсь за себя! Руки чешутся, терпения нет! Ясно? Будете орать – придушу вот этой подушкой. Все поняли?
Быков, болезненно выкатив белки, не закончил наливать из графинчика, синие губы собрались трубочкой, пробормотал:
– Ты – как?.. Как?..
Он стукнул графинчиком о стол около недолитой рюмки; щеки его стали пепельно-серыми, кожа натянулась на скулах.
– Эх ты, Константна, Константин!.. За кого ж принимаешь меня?.. О чем говоришь? Неужели серьезно ты?
– Благодетель вы мой, запомните – я вас не идеализирую! – Константин, все покусывая усики, твердо глядел сверху вниз в лицо Быкова. – Ну, я жду основное: копии доносов. Первый – на Николая Григорьевича Вохминцева. Второй – на меня. Хочу познакомиться с содержанием – и только. Вы меня поняли?
Стало тихо. Было слышно, как жужжал электрический счетчик на кухне.
Быков отрывисто и горько засмеялся.
– Эх ты, герой, ерой. – Он задергал головой; капельки влаги выступили на покрасневших веках. – Я к тебе как к человеку, Константин, а ты – эх! Герой, а у ероя еморрой! Налетчик! Ты знаешь, что за это тебе будет?.. Знаешь, что бывает по закону за насилие? За решетку посадят! Жизнь на карту ставишь?
– Да, Петр Иванович! Пока вы строчите доносики – ставлю. Пока.
– Значит, что ж – убить меня, Константин, хочешь?
– Может быть. Где копни доносов?
– Какие доносы? Обезумел? – вскричал Быков. – С Канатчиковой сбежал?
– Вот что, Петр Иванович, – сказал Константин. – Вы сейчас сделаете то, что я вам скажу, иначе… Когда у вас была очная ставка с Николаем Григорьевичем? В сорок девятом году? В этом же году вы настрочили доносик на меня после истории с бостоном? Ну? Так? Иди иначе?
– Врешь!
– Садитесь к столу! – Константин резко пододвинул бумагу на середину стола. – А ну, берите ручку, пишите! Вы напишете то, что я вам скажу.
– Что-о?
– Вы напишете то, что я вам продиктую! И это будет правдой.
– Да ты что – с Канатчиковой сбежал? – выговорил Быков и отступил к дивану, широкие рукава пижамы болтались на запястье. – Чего я должен писать? С какой стати? Чего выдумал?..
– Вы это сделаете! – оборвал Константин. – Сейчас сделаете! Садитесь к столу! Что смотрите?
Константин с силой подтолкнул Быкова к столу, чувствуя рукой его дряблое, незащищающееся тело, но то, что он делал в этой комнате, пахнущей сладковатым лаком старой мебели, и то, что говорил, – все как будто делал и говорил не он, не Константин, а кто-то другой, незнакомый ему. И вдруг на секунду ему показалось – все, что делал он, слышал и видел сейчас, происходило как будто бы и существовало в отдалении: и странно малиновый купол торшера, и стол, и деньги на столе, и звук своего голоса, и ватный, ныряющий голос Быкова, и движения собственных рук, ощутивших дряблое тело. Где-то в неощутимом мире жили, работали, целовались, ждали, плакали, любили, гасили и зажигали свет в комнатах люди, где-то медленно шел снег, горели фонари и по-вечернему светились витрины магазинов, но ничего этого точно и осмысленно не существовало сейчас, словно земля, предметы ее потеряли свою реальную и необходимую сущность; и то, что он делал, не было жизнью, а было чем-то серым, отвратительным, водянистым, зажатым здесь, в этой комнате, как в целлофановом сосуде.
– Костя!.. Что же ты делаешь?
«Действительно, что я делаю с ним? – подумал Константин. – Так не должно быть. Я делаю противоестественное… Если все это можно делать, тогда страшно жить!»
Он посмотрел на Быкова.
Быков стоял перед столом в расстегнутой пижаме, пальцы корябали желтую грудь, покрытую седым волосом, зрачки застыли на руках Константина.
– Костенька, это что же, а? Зачем? По какому праву?
«А ему было страшно, когда писал доносы? – подумал почему-то Константин. – Мучила его совесть?»
– А по какому праву… – произнес Константин, и тут ему не хватило воздуха, – по какому праву вы, черт вас возьми, писали доносы, клеветали – по какому? Если у вас было право, оно есть и у меня! А ну садитесь и пишите: заявление в МГБ от Быкова Петра Ивановича. Что стоите? Поняли?
– Что ты говоришь? Костя! – крикнул Быков и заморгал одутловатыми веками. – Какое заявление?
– Все вспомните. И о доносе. И об очной ставке двадцать девятого января, где вы… вели себя как последняя б…! Двадцать девятого января! Вот это и напишите, что оклеветали невинного человека, честного коммуниста! Напоминаю: двадцать девятого января была очная ставка!
Константин сдавил локоть Быкова, подвел его к столу, и Быков, выставив короткие руки, словно бы слабо защищаясь, внезапно обессиленно повалился на стул и, сгорбясь, задергался, заплакал и засмеялся, выговаривая сдавленным шепотом:
– Что ж ты делаешь? Ты думаешь, вот… испугал меня? Да меня жизнь тысячу раз пугала… Эх, Константин, Константин. – Быков на миг замолчал, клоня дрожащую голову. – А если я тебе скажу, что много ошибался я. Если скажу… И на очной… вызвали, коридоры, тюрьма… не помню, что говорил! Ошибся!.. Только в одном не ошибся… Я ж знаю, что у меня за болезнь. Язву, говорят, вырезали! А я знаю…
– На меня тоже, старая шкура, перед смертью донос написал?
Быков вскинул свое желтое, в пятнах лицо, жалко отыскал глазами Константина, а слезы скатывались по трясущимся щекам, и он по-детски торопливо слизывал их с губ, повторяя:
– Не писал, не писал! На тебя не писал! Как к сыну к тебе относился. Спрашивали, плохого не говорил… А ты знаешь, сколько мне жить-то осталось? Знаешь? С такой болезнью…
– Хватит! – морщась, перебил Константин. – Хватит проливать слезы, Петр Иванович! Ей-богу, не жалко мне вас!
– Костя, Костя… Помру, вот рад будешь? А не хотел бы я… – вставая и покачиваясь, прошептал Быков и ладонью стал вытирать мокрое лицо. – Защищался я… А совесть у меня тоже есть. Что ж ты будешь делать со мной? Если я сам…
– В монастырь… Если бы можно было – в монастырь. К чертовой матери я отправил бы вас в монастырь, паскуда!
– Серафима Игнатьевна и дочь у меня…
Но когда Быков, обмякший, подавленный, тихонько постанывая, расслабленно опустился на диван, никак не мог раскупорить порошок на тумбочке, Константин не смотрел на него, сжав зубы от жгучего отвращения, от смешанного чувства жалости и вязкой нечистоты, и в это мгновение едва сдерживал себя, чтобы не выбежать из этой комнаты с одним желанием – глотнуть морозного воздуха, лишь ощутить освежающий и реальный холодок его.
Он не глядел на Быкова, испытывая ненависть к себе.
«Нет, нет, нет! – подумал он. – Жалость? К черту! К черту!»
Он круто выругался и выбежал из комнаты.
В машине он, как всегда, привычно очищал перчаткой стекло, смотрел мимо поскрипывающей стрелки «дворника» на полосы фар, но не видел ясно ни скольжения фар по мостовой, ни по-ночному пустых улиц, синеющих новым снежком, по-прежнему падавшим с темного неба.
Константин гнал машину, чувствуя горячие рывки сердца при перемене сигналов на светофорах, далеко простреливающих миганием безлюдные пролеты улиц, инстинктивно скашивал взгляд на регулировщиков – и не было момента осмыслить то, что сделал…
После того как загорелся за площадью всеми освещенными залами Павелецкий и белая полоса окон привокзального ресторана с летящим на эти теплые окна снегом выдвинулась навстречу, унеслась назад и машина, нырнула в сразу показавшийся туннелем переулок, Константин затормозил машину под стеной дома и долго сидел, прислонясь лбом к скрещенным на руле рукам.
В первой комнате света не было.
Зеленый огонь настольной лампы косым треугольником упал под ноги ему, на пол, из полуоткрытой спальни, куда он вошел, и там загремел отодвигаемый стул – Константин остановился.
В проеме двери, загородив огонь, проступала темная фигура Аси.
Она запахивала на талии халатик.
И испуганный, непонимающий голос ее:
– Костя?.. Ты уже вернулся?
Она шарила по стене выключатель; Константин успел увидеть ее напрягшиеся под халатиком голые ноги, и тотчас вспыхнул свет; после темноты он был неожиданно ярок, и Константин отчетливо увидел лицо Аси, бледное, залитое электричеством, яркой чернотой блестели глаза.
– Ты уже вернулся?
– Нет. Я заехал по дороге, – преодолевая хрипоту, сказал Константин. – Я хотел тебя увидеть.
Она со вздохом опустила плечи.
– Я не ожидала тебя. Ты вошел тихо-тихо, и я почему-то испугалась.
– У тебя было открыто, – сказал он. – Ася, вот что… Я сейчас был у Быкова.
– Что? Что?
– Я был у него, – ответил Константин.
Темные увеличенные глаза Аси перебегали по его лицу, по его кожаной куртке, а пальцы теребили поясок халатика, и брови, и глаза ее будто не соглашались с тем, что сказал он.
– Ты? Был? У Быкова? – отделяя слова, проговорила Ася и отошла от него, ладонями зажала уши. – Слушать не хочу! Ничего не говори мне!
– Ася! – сказал Константин. – Ася, милая, ничего не случилось, я хотел объяснить тебе…
И тронул ее локоть; Ася почти брезгливо отстранилась, сказала шепотом, с гадливым отвращением:
– Ты был? У Быкова? Зачем?
Он растерянно проговорил:
– Ася…
– Зачем ты это сделал?
– Прости, если я…
– Зачем? Что ты наделал, Костя?
«Как объяснить ей все? – подумал Константин. – Как?»
Ася, зажмурясь, откинула голову и молчала. Он виновато приблизился к ней, увидел ее длинную шею, слабую выемку ключиц – и ему страстно захотелось осторожно обнять ее, успокоить, сказать, что он сам до конца не знает, для чего он это сделал; и ему хотелось объяснить ей, что в последнее время он живет, точно ухватившись за надломленную ветку над трясиной, что ему не дает покоя, его мучает какая-то неуловимая, скользкая, надвигающаяся опасность, что он живет с ощущением следящего взгляда в спину – и не может преодолеть это, и боится за нее, за себя. Ему хотелось почувствовать успокаивающую тяжесть ее ладони на своих волосах и покаянно лицом прижаться к теплоте ее колен. Он все время ощущал в себе нервное и злое напряжение, готовый ко всему – к драке, к непоправимой беде, к словам, которые разрушали и еще более усугубляли что-то.
– Ася, – ответил он, стараясь говорить спокойно, но не сделал, как хотел, не обнял ее, услышал свой фальшиво прозвучавший голос: – Честное слово… ничего не случилось.
– Ничего не случилось? Неужели ты не понимаешь? Ты не понимаешь? Он ни перед чем не остановится. Ты подумал о нас? О чем ты с ним говорил?
– Теперь он ничего не сделает. Он уже сделал…
– Что? Что он сделал?
Она взяла его за борта кожаной куртки, спрашивая:
– Что он сделал?
– Ася, родная, мы еще поживем, не надо ни о чем думать, – сказал он, по-прежнему пытаясь говорить спокойно.
– Ты сказал «еще»? Почему – еще?
– Я говорю о Николае Григорьевиче.
– Прошу тебя, скажи яснее, Костя.
Но в эту минуту у него не хватало сил посмотреть ей в лицо, и, медля, Константин легонько снял ее теплые влажные пальцы с бортов куртки, прижал их к подбородку, глухо договорил:
– Может быть, я не должен был, Ася… Но я не мог. Прости меня. Я… поеду.
И тут его поразил неестественно оживленный голос Аси:
– Если ты разрешишь, я сейчас оденусь и поеду с тобой! Хоть один раз в жизни хочу увидеть твою работу. Ты хочешь?..
Константин почти испуганно взглянул на нее – Ася решительно развязывала поясок халатика, торопилась, и по лицу ее он видел: она готова была одеться сейчас.
Он остановил ее поспешно:
– Асенька, этого нельзя! Ася, это не разрешается, меня просто снимут с работы. Этого нельзя!
Тогда она заложила руки в карманы халатика и так села на стул, сказала тихо:
– Ну иди, Костя.
– Не надо, – Константин наклонился к ней и, едва прикоснувшись, поцеловал в волосы. – Не надо ни о чем плохом думать. Ложись спать, Ася. Со мной будет все в порядке. Я уверяю тебя, со мной будет все в порядке.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































