Текст книги "Иди полным ветром"
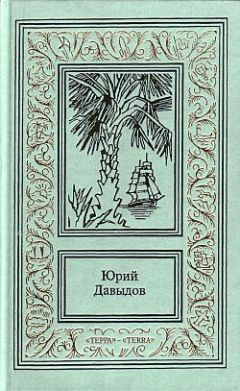
Автор книги: Юрий Давыдов
Жанр: Книги о Путешествиях, Приключения
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 11 страниц)
2
Давно уж осознал Федор, что произошло на Сенатской площади. И все-таки надеялся: государь не озаглавит царствование виселицами. С этой надеждой прошел Тихим, Индийским, Атлантическим. Не покидала она ни на Филиппинах, где «Кроткий» чинили, ни в штилевом безмолвии Зондского пролива, ни у базальтовых скал острова Святой Елены, последней обители Наполеона Бонапарта.
Правда, потом, говоря по совести, иное теснило сердце. Каждая миля приближала к Портсмуту. «Ксения, Ксения, Ксения… Должно быть, – думал он, – фрегат «Блоссом», тот, что заходил в Петропавловск, доставил уже в Англию не только англичан, подобранных близ Нукагивы, но и известие о гибели капитана Кокрена».
В Портсмуте, в домике из красного кирпича, что был рядом с отелем «Джордж», Федор нашел Кокрена-старшего.
– Миссис Кокрен? – переспросил старик, отирая слезящиеся глаза. – Она уехала.
– Куда? – вскрикнул Федор.
Старик вздрогнул.
– Куда? – тихо повторил Федор.
Старик понял: так не спрашивают из простого любопытства. «Вот этот, – подумал он, глядя на статного темноглазого лейтенанта, – этот будет счастлив». Старик процедил:
– В Кронштадт, к благодетелям. – И прибавил резко: – Прощайте!
А нынче – кронштадтский рейд, иссеченный сентябрьским дождем. Смутно виден Кронштадт – церковь Богоявления, дома, казармы. И среди тех домов – дом командира кронштадтского порта Петра Ивановича Рикорда…
– Эге-ге-гей! – кричит боцман.
– Дава-а-ай! – доносится из трюма.
Топот на палубе, началась разгрузка. «Кроткий» привез из Русской Америки, с острова Ситхи, шкурки морского котика.
Офицеры – и Врангель, и Лавров, и мичман Нольке – не раз уже ездили в Кронштадт. А Федор соберется – и стоп. Что-то мешает ему. Стыдно быть счастливым. Эх, Эразм, лучше бы ты повременил со своим рассказом…
Приняли чиновники заморские грузы, на судне паруса отвязали, реи спустили. И корабль утратил свой гордый облик. Портовые баркасы поволокли его в док. «Кроткий» брел покорно, как матрос-ветеран в божедомку.
При входе в гавань лейтенант Лавров скомандовал:
– Флаг долой!
Барабанщики ударили «поход». Матросы и офицеры обнажили головы. Флаг, прощально всплескивая, медленно полз вниз.
Дождь перестал, закатное солнце пробилось сквозь тучи, тишина воцарилась в Кронштадте.
Разбрызгивая грязь, прошла рота моряков 19-го экипажа. Рота шла хорошо, лицо у молоденького мичмана было самозабвенное. Прогремела коляска, какой-то обрюзглый бородач, развалясь на сиденье, клевал носом. И опять тишина. Только пощелкивают, срываясь с крыш, дождевые капли.
Федор пошел сперва быстро, но чем ближе был к цели, тем шаги его делались медленнее, неувереннее. «Послушай, – сердито приструнил он себя, – это уж ни к черту. Ну-ка, прибавь рыси!»
Но рыси не прибавилось. Куда там! Хоть беги без оглядки. Он даже подыскал оправдание: нельзя, мол, прямо с палубы – и «честь имею», и все такое прочее… И тут вдруг изумленный, радостный, негромкий оклик:
– Федор Федорович? Вы?.. – Закатное солнце светило ей в лицо. Она щурилась, растерянно улыбаясь, чуть склонив голову. – Вы? – повторила Ксения, защищаясь ладонью от солнца.
Он шагнул к ней, схватил руку, прильнул к перчатке. Они вошли в дом. В прихожей показалась Людмила Ивановна Рикорд.
– Вот так и отпускай тебя, душа моя, – певуче и добродушно сказала Людмила Ивановна, не глядя, однако, на Ксению, а всматриваясь в Матюшкина.
Федор представился.
– Погодите, погодите, – сказала она, вводя Федора в гостиную. – Нет, батюшка, не помню, не обессудьте старуху.
Федор вдруг заговорил бойко, сам на себя удивляясь и радуясь. Он говорил, что вспомнить Людмиле Ивановне, пожалуй, и невозможно, потому что виделись они недолго, да и то, почитай, вот уж лет десять назад тому, что он гостил у них вместе с офицерами «Камчатки», когда они пришли в Петропавловск… И Федор принялся описывать, как он, тогда волонтер, командовал перевозкой фортепьяно с корабля в дом Петра Ивановича.
– А! – Людмила Ивановна рассмеялась. – Вы, батюшка, совсем-совсем зелены были.
Матюшкин развел руками: дескать, был, а нынче – вот глядите – старикан.
– Ну-ну… – Людмила Ивановна погрозила ему пальцем. – В морях, говорят, молодеют. А вы что же, нынче только явились? Вы уж, сделайте милость, обождите Петра Ивановича. Он скоро пожалует и так вас умучит расспросами, что и дух перевести не даст… Извините, я пойду распоряжусь. Вы у нас ужинаете, надеюсь? – И она удалилась, шурша длинным платьем.
Федор онемел. Ксения сидела в кресле и серьезно, прямо, вопрошающе смотрела ему в лицо синими влажными глазами. На ней было черное платье, на левой руке желтело вдовье колечко.
Никогда потом Федор не мог понять, что с ним произошло в ту минуту, когда они сидели вот так, друг против друга, никогда он не мог понять, какая сила подняла его с места и перенесла к Оксиньке. Да, он подошел и произнес с отчаянной решимостью:
– Ксения Ивановна, я люблю вас.
3
Матюшкин зажил у лейтенанта Стогова по-холостяцки, по-приятельски. Каждый вечер тащил он Эразма в дом Петра Ивановича, уверяя, что Рикорд ему уж очень по душе пришелся. Стогов ухмылялся и послушно сопровождал Федора. А однажды вскользь заметил, что такая уж у него, видно, планида – быть шафером. Федор и рассердился, и обрадовался, и задумался. Ему и в самом деле пора бы уж сделать предложение. В согласии Ксении сомнений нет. Он беден? Это так. Но ведь с милым и в шалаше рай. Только где он, шалаш? Каюта корабельная – вот где. А разве мало в Кронштадте женатых моряков, над которыми он прежде столь глупо посмеивался? Не мало. Так за чем остановка?
Он и сам не знал, что его удерживает. Она подсказала, что нужно делать. «У вас матушка в Москве?» – «В Москве». – «Вы не видели ее…» – «Три года с лишним». – «И вам не совестно?» – «Совестно». И впрямь совестно. Но уехал он не только по этой причине. Уехал, чтобы решиться.
В Петербурге Матюшкин задержался дня на два в обычном своем петербургском пристанище – в гостинице Демута, на набережной Мойки, большой, старой, пропахшей нюхательным табаком и пылью.
Слуга нес его чемодан полутемным коридором. Из сумрака внезапно появился Пушкин: с резкими морщинами, заросший бакенбардами. У Федора дрогнул подбородок. Пушкин обнял Федора с коротким, похожим на всхлип выдохом и, не отпуская его руки, стремительно повлек к себе.
Комната Пушкина выходила окнами во двор. На дворе было мерзко, шел дождь, и в комнате тоже была холодная сиротливая полутьма.
Пушкин не спрашивал Федора, что он, как он. Пушкин прислонился спиной к голландской печке и сказал:
– Я видел Вилю.
Матюшкин знал, что Кюхельбекер после восстания на Сенатской площади бежал, скрывался, но вскоре был пойман. И вдруг: «Я видел Вилю». Федор сел, пристально вглядываясь в Александра. У Пушкина было желтое, как после тяжкой болезни, лицо.
– Когда? – едва слышно спросил Федор.
– Намедни. Я возвращался из деревни и дожидался лошадей в Залазах. Слышу бубенцы: тройки, фельдъегерь, арестанты. Я вышел взглянуть и… – Пушкин сложил руки крест-накрест, сунул ладони под мышки, словно его зазнобило. – И увидел Вилю. Он был во фризовой шинели, с черной бородою, исхудалый, бледный…– Пушкин откинул голову, прислонил затылок к изразцам и продолжал быстро, лихорадочно: – Мы бросились в объятия, жандармы нас растащили. Фельдъегерь взял меня за руку с угрозами и ругательствами. Виле сделалось дурно. Жандармы дали ему воды, посадили в тележку и ускакали…
Он зябко передернул плечами. Из глаз Федора потекли слезы. «Какая гиль, – подумал, злобясь на себя,– все эти мои заботы, колебания!..» Он обнял Пушкина, бережно усадил на диван, и они долго сидели рядом, прижавшись плечом друг к другу.
Что было делать в этой Северной Пальмире?
У Синего моста не шумел рылеевский «клоб». В доме Пущиных, на Мойке, не ждали больше милого Жанно. На Екатерингофском проспекте в казарме Гвардейского экипажа смолкли голоса вольнолюбцев. А на Галерной? Головнин отводил глаза, разговор у них с Федором не клеился.
Нечего ему было делать в этом Санкт-Петербурге…
4
Ямские лошадки звякали колокольцами на Московском тракте. Мокрые вороны каркали с голых деревьев.
Сосновые поленья трещали пороховым треском. Пахло шафраном. Портрет круглолицего, чуть курносого надворного советника, покойного батюшки. А рядом – маменькин. Сколько ей тут? Двадцать два, должно быть. Как ныне Ксении… Годы изживает в одиночестве. Много ль радости от сына? Навигатор, скиталец морей… Ну а какое ждет тебя море? В третий раз не угодишь в дальний вояж. Вот у Врангеля все по ранжиру: получил капитана первого ранга, женился в Ревеле на баронессе Россильон… Прехорошенькая, говорят… Отпросился на службу в Российско-Американскую компанию, укатил с молодой за океан, на остров Ситху. Отслужит пять годков да и воротится в любезную Эстляндию с немалой деньгой. А ты, братец, на лейтенантском коште еще насидишься. И добро бы при настоящем деле, а то ведь экипаж, фрунт, смотры. Тьфу, пропасть!..
Нет друзей. Обитал некогда у Чистых прудов Миша Яковлев – перебрался в Питер, повышаясь в чинах, согласно табели о рангах.
Поехать в собрание, на бал? Известно, Москва невестами красна. Кой черт в невестах?..
Неприметно, как в полудреме, текут недели. Кружат на дворе белые мухи, потрескивают дрова в печах. Напротив, в окнах Екатерининского института благородных девиц, мелькают быстрые тени. Эх, бедняжки затворницы!
Скука анафемская. Что же, однако, с тобой, Федор Федорович? Сидишь в вольтеровских креслах, книжка из рук валится, к бумаге и перу не тянет. Только и заботы, что табак переводить. Была Ксения… Смотри, брат, в Кронштадте-то вечера в Морском собрании с танцами, шарадами, шампанским. И какие туда альбатросы слетаются! Смотри, Федор, упустишь – не воротишь. Поцелуи – это тебе, брат, не воинская присяга. Уехать в Кронштадт? Жаль матушку. Как ехать? Сердце сыновнее есть иль нет? А впрочем, и в Кронштадт ехать не велика охота. Разбил тебя, Федор Федорович, душевный паралич…
А в канун пасхи пришло коротенькое, второпях писанное письмо Эразма Стогова. И в том письме – листок со стихами.
When man hath no freedom to fight for at home,
Let him combat for that of his neighbours;
Let him think of the glories of Greece and of Rom,
And got knocked on the head for his labours.
To do good to Mankind is the chivalrous plan,
And is always as nobly reguited;
Then battle for Freedom wherever you can,
And, if not shot or hanged, you'll get knighted[4]4
Что ж, если ты вступить не можешь в бой
За собственный очаг, – борись за дом соседа,
За Греции права, за Рима блеск былой…
Пусть ждет тебя иль смерть или победа.
Кто может за других живот свой положить,
Тот духом рыцарским бесспорно обладает.
Не все ль равно, за чью свободу кровь пролить,
За чью свободу лавр твое чело венчает?
Перевод с английского С. Ильина.
[Закрыть], —
прочел Матюшкин. И увидел под стихами: «Лорд Байрон».
На другой день Федор взял место в дилижансе и распрощался с матушкой.
5
Условным знаком был дымный столп над Петергофом, и сигнальщик закричал громко и испуганно, как всегда кричали сигнальщики перед царскими смотрами:
– На адмиральском к вантам становятся!
И командир брига лейтенант Матюшкин тоже закричал громко и испуганно:
– Мар-совые к вантам!
Матросский строй рассыпался. Все было как надо, но Федор почувствовал недовольство – недовольство собой за этот испуг.
Он навел трубу на петергофский берег. Пароход шел оттуда, раздувая белые водяные усы. Впереди и вокруг был малахит залива, над заливом было ясное небо.
Федор посмотрел на флагманский корабль. В линзе мелькнул флаг начальника отряда: красный прямоугольник и белый квадратик в правом верхнем углу, перечеркнутый синим крестиком. Матюшкин чуть опустил трубу и увидел палубу флагманского фрегата: там уже взбегали на ванты.
– Пошел по реям! – крикнул в рупор Матюшкин.
Пароход приближался, кренясь на левый борт, и влево же развертывалось, вздрагивая на ветру, большое полотнище царского штандарта – черный двуглавый орел на желтом поле.
На флагманском ударил салют. После третьего залпа к орудиям фрегата присоединились пушки всей эскадры. Тяжелый гул покатился над заливом.
На сухопутных парадах царь верхом объезжал полки, на морских парадах обходил фрегаты и бриги на пароходе. Поравнявшись с каждым, государь здоровался с экипажем, а в ответ громом: «Здравия желаем…»
Царский пароход подошел к бригу Матюшкина. Офицеры взяли под козырек. Матросы замерли. Пароход, застопорив ход, медленно и плавно протягивался вдоль борта брига. Николай стоял впереди свиты. Он показался Федору огромным. Глаза их на миг встретились. У Николая был взгляд цезаря: безотчетно суровый, цепенящий. И Федор почувствовал, как что-то в нем подло дрогнуло.
Матросы и офицеры на палубе семь раз прокричали «ура».
– Здорово, ребята! – громко, по-армейски молодцевато и хрипло сказал Николай.
– Здравия желаем, ваше императорское величество! – отрубили на бриге и опять закричали «ура».
Пароход пошел дальше. Матюшкин сделал знак вахтенному, тот скомандовал:
– С рей долой!
Несколько минут спустя над царским кораблем взвился цветной набор флагов, значение которого знали все, не заглядывая в сигнальную книгу: «Государь император изъявляет особенное монаршее благоволение за порядок и устройство флота, жалует команде по рублю, по чарке вина и фунту мяса». И тотчас на всех кораблях, у всех офицеров и рядовых один вздох, одна мысль: «Уф, гора с плеч! Слава те, господи, пронесло…»
Федор скрылся в каюте. На сердце у него было нехорошо. Он не мог простить себе той подлой дрожи, которая, как озноб, проникла в душу, когда он встретил взгляд Николая. Он лег на койку, закурил сигару, но табак показался кислым. Он бросил сигару и закрыл глаза.
Вошел вестовой:
– Капитанов требуют к адмиралу, ваше благородь!
На палубе флагманского корабля встретился Федору старший офицер лейтенант Стогов. Они поздоровались.
– Как думаешь, зачем? – на ходу спросил Эразм.
Матюшкин хмуро дернул плечом.
– А я думаю, за тем… – значительно улыбаясь, сказал Стогов, – за тем за самым!
Контр-адмирал Петр Иванович Рикорд кивком отвечал на поклоны капитанов. В отворенное кормовое окно тянул ветер, и седые редкие волосы на макушке и висках адмирала шевелились, придавая ему домашний, совсем не начальственный вид. Но вот он поднялся (и все капитаны поднялись тоже), вздел очки, голубые глаза его потемнели.
– Господа, – торжественно и строго произнес адмирал, – я призвал вас для того, чтобы объявить высочайшую волю.
За окном коротко и резко крикнула чайка…
Итак, свершилось. Эскадра отправлялась в Средиземное море, к берегам Греции.
Уже семь лет эллины бились за свободу. На знамени повстанцев была птица Феникс, символ жизни, возрождающейся из пепла, и символ самой Греции, поднявшейся на своего владыку – султанскую Турцию.
Семь лет. Годы громких побед и жестоких поражений. Годы лихих вылазок, стремительных набегов вооруженных пастухов и рыбаков, виноградарей и бродяг. После веков бесславия – годы славы.
О, сколько говорилось про Грецию в Петербурге и в Москве, сколько говорилось о ней в ту пору, когда Федор воротился из Сибири. Пущин и Кюхельбекер, Кондратий Рылеев и моряки Гвардейского экипажа, все, кто мечтал «о введении в России нового порядка вещей», видели в греках-повстанцах братьев по духу. Еще тогда, в Петербурге и в Москве, услышал Федор о героях греческой народной войны. Их подвиги походили на мифы. Одиссей Варуз, сходивший со своим отрядом на берег Коринфского залива. Троекратная защита Фермопил. Марко Боцарис – рыцарь и поэт. Не ведавший страха Канарис. И гречанки, суровые и величественные: Модена Маврокианос – предводительница повстанцев в Эвбее; Констанция Захариос – вождь повстанцев в Лаконии; Бобелина – командир трех кораблей и отряда, овладевшего Навплионом.
Из портов Англии и Франции отплывали в Элладу добровольцы. Джордж Байрон погиб в Греции. Его друг Джон Трелонэ был сподвижником Одиссея Варуза. В рядах французских волонтеров находился Сильвестр Броглио – воспитанник Царскосельского лицея… Для греков собирали деньги. Грекам тайком переправляли оружие. О восставших эллинах слагали стихи Гюго и Беранже, Пушкин и Рылеев.
Но правители Англии, Франции и России не спешили помочь восставшим. Слишком противоречивы были политические дворцовые интересы Зимнего, Сент-Джемского и Тюильри. Париж и Лондон побаивались влияния Петербурга в Средиземном море. Петербург не желал, чтобы там первенствовал Лондон или Париж. Лондон и Париж косились друг на друга.
Наконец Николай (ему важно было согнуть турецкого султана) объявил, что он решительно поддержит «несчастных единоверцев, попранных властью полумесяца». Лондон и Париж тотчас выказали пылкие христианские чувства. Все вдруг заторопились. Ни в Лондоне, ни в Париже не хотели, чтобы Петербург вырвался вперед, и тройка держав впряглась в союзническую колесницу.
В тот год, когда Федор Матюшкин заканчивал плавание на «Кротком», Средиземное море пенили эскадры британская, русская и французская. В октябре 1827 года турецкий флот был атакован и сожжен в Наваринской бухте. Однако война не закончилась, Константинополь не терял надежды на победу. К тому же султан знал, что среди союзников нет сердечного согласия. И война продолжалась. Корабли под флагом с полумесяцем рыскали в архипелаге, доставляя рабов на батистаны – невольничьи рынки. Горели греческие селения, в маленьких крепостях-пиргосах отбивались от турок изможденные повстанцы.
Греция сражалась за свободу. И когда Федор узнал от Стогова, что есть возможность отправиться в Средиземное море, он ринулся в Кронштадт. «Борись за свободу, где можешь…» – повторял он следом за Байроном.
Начальником эскадры был назначен Петр Иванович. Федор явился к нему и сказал, что если его, лейтенанта Матюшкина, не возьмут в Средиземное море, то… то… Рикорд поглядел на него своими добрыми, уже терявшими яркую голубизну глазами. «А Ксения?» – спросил он напрямик. «А Людмила Ивановна?» – не особенно почтительно ответил Федор. Старик вздохнул, покачал головой, сказал: «Хорошо».
Он сдержал слово. Больше того: лейтенант Матюшкин как опытный навигатор, дважды обогнувший под парусами земной шар, получил отличный четырнадцатипушечный бриг «Ахиллес».
И вот поутру эскадра снимается с якорей. Государь шлет корабли для державных притязаний на море, а Федору Матюшкину этот поход – искупление перед сибирскими изгнанниками. «Борись за свободу, где можешь…»
6
Недели две, как Федор и Ксения были помолвлены; в Кронштадте это знали, Федор совсем уж запросто бывал в доме Рикордов.
Известие о назначении Федора в боевой поход Ксения приняла без слез и обмороков, не в пример прочим кронштадтским невестам. Однако, оставаясь наедине с ним, говоря о чем-нибудь постороннем или наигрывая ему сонаты, она иной раз так бледнела, что жених звал на помощь Людмилу Ивановну.
Тревога Ксении печалила и радовала Федора. Черт возьми, впервые в жизни – а ему ведь как-никак скоро тридцать – объявилось на свете существо, для которого он значил столь много. Правда, матушка тоже вечно пребывала в страхе за своего Феденьку. Но матушкины тревоги – дело натуральное и привычное. А Ксенины… От Ксениных сладостно сжималось сердце.
Да, Федор подумывал, что может сгинуть в чужих краях: «Пули – дуры, и бури – дуры». И тогда он ловил себя на желании тотчас идти под венец. Однако дал слово – держись. А Федор дал слово Рикордам венчаться после греческой кампании. Людмила Ивановна и Петр Иванович, заменявшие Ксении родителей, не хотели видеть свою воспитанницу овдовевшей вторично. А ведь могло случиться: «Все, батюшка, под богом ходим».
Накануне отплытия был прощальный вечер. В дом контрадмирала сошлись офицеры с женами. За ужином тосты следовали один за другим. Сперва официальные – за государя, за победу русского оружия. Потом свои, кронштадтские: «Здоровье того, кто любит кого», «Здоровье глаз, пленивших нас». Сосед Федора, капитан-лейтенант Замыцкой, командир брига «Телемак», хмелея, дергал Матюшкина за рукав:
– А по-флотскому-то как? Борт о борт и вверх килем! – И, звякнув бокалом своим о бокал соседа, он опрокидывал склянку с истинно флотской питейной лихостью.
Рикорд со старомодной галантностью ухаживал за дамами, шутил и поглаживал седые свои пышные усы, но все замечали, как грустнел он, взглядывая на Людмилу Ивановну.
Эразм Стогов сидел напротив Федора и Ксении. По обыкновению, Эразм навалился на жаркое, с шутливым смущением говорил лакею:
– Ты, братец, знай накладывай.
Федор пил мало. Посреди застольного шума он совершенно отчетливо осознал то, что, казалось бы, вовсе не было для него новостью, но теперь только представилось так реально. Он осознал, что завтра – завтра! – не увидит ее. Не увидит этих глаз, этих волос, не увидит вот этой жилки, маленькой родинки, этого прямого, гибкого стана. Он слышал ее голос, пожалуй несколько низкий для такой прелестно-изящной женщины, и думал, что завтра она будет смеяться, разговаривать вот в этих комнатах, а он не сможет переступить порог. И он невпопад говорил что-то, забывал вовремя подхватить очередной тост, не слышал язвительно-дружеских замечаний Стогова.
Между тем стулья задвигались, все шумно встали из-за стола. В соседней зале заиграла музыка. Мужчины постарше начали составлять партии в вист.
Федор танцевал худо и норовил отсидеться в уголке. А Ксению приглашали то лейтенант Мятлев, то мичман Петруша Скрыдлов, такой же мальчишески розовый и бойкий, как и три года назад, то сам Петр Иванович Рикорд, танцевавший, несмотря на годы, легко и ловко.
В комнатах становилось душно, и, хотя окна были растворены, свежесть белесо-зеленой балтийской ночи не могла одолеть духоту.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































