Читать книгу "Собрание сочинений. Том I"
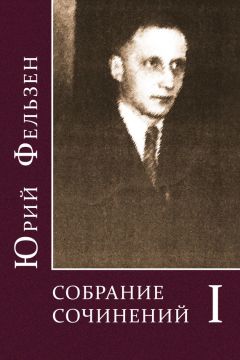
Автор книги: Юрий Фельзен
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
10 декабря.
Мое дело как будто закончилось: если бы я не был так подозрителен – из-за многих неудач, случившихся после уверенности, после явного достижения, приписанных дурной судьбе и потому особенно обидных, – я бы считал, что сомнений уже не осталось и что завтра утром надо только пойти за деньгами. Но сейчас, после всего опыта, мне кажется, будто цель еще не достигнута, будто дело мое затянулось и решится лишь завтра, в ту минуту, когда получу деньги, а пока надо снова отложить школьническую радость об удавшейся и конченной работе, о предстоящем отдыхе, другую радость, впервые беспримесную, беззаботную – о Леле – и надо как-нибудь провести этот еще на прежние похожий день.
Продолжаю себе отказывать в каждой мелочи, пью в кафе вместо ликера всё то же надоевшее пиво, хотя нет у меня более верного способа не замечать времени, чем быстрое оглушающее опьянение, и хотя знаю наперед, до чего легко и беспечно буду тратиться с завтрашнего утра. Правда, я никогда не делаюсь совершенно широк и нерасчетлив – у каждого из нас свои неписаные правила, свой растяжимый, от обстоятельств зависящий предел трат – у меня он как-то слишком благоразумно связан с продолжительностью результата: мне покажется естественным быть целый вечер в дорогом месте и не поехать домой в такси, потому что поездка произойдет мгновенно и уже в начале осязателен ее конец. Но и это не совсем точно: я боюсь и «полезных покупок», казалось бы, надолго выгодных – у меня страх «больших цифр», свойственный людям без равномерного и обеспеченного заработка, тем, кого «большие цифры» чересчур наглядно приближают к безденежью, к растерянному вопросу, им давно знакомому: как же быть дальше.
Но весь этот строгий «кодекс» (менее последовательный, чем здесь представлено) бывает отброшен и забыт, как только я не один: от чьих-нибудь случайных слов, от неожиданной жалобы у меня соблазн помочь, растрогать, на прощанье дать уверенность в опоре, притом не выдуманной, а доказанной – во мне за годы уединения вдоволь скопилось нерастраченной глухой нежности, и часто она направлена на людей, со мною схожих, но более моего беспомощных, и несравнимо чаще – на женщин, хоть немного нравящихся. С этим же, вероятно, связана и другая, близкая, причина неразумной моей расточительности: у меня несчастливое свойство чересчур зависеть от женщин – еще гимназистом на балу я не мог после танца «сплавить» приглашенную скучную барышню и ждал освобождения от нее самой, чтобы не только радоваться свободе, но и сладко себя, обиженного, жалеть (этим как бы предвосхищая любовное свое будущее) – и теперь, наконец, достигнув безразлично-взрослой неуязвимости, если нечаянно в кафе заговорю с накрашенной простенькой соседкой, не решусь подняться, уйти, внезапно ее разочаровать, и должен непременно по-наивному на нее тратиться.
Так было и сегодня: я почти против воли, полурассеянным жестом, пригласил к своему столику в дешевом оживленном кафе краснощекую девочку, бойко игравшую с подругами в карты, когда же она подошла, с трудом оторвался от воображаемого романа, обыкновенно заполняющего спокойные мои часы, кое-как стал поддерживать обязательный условный разговор, потом растрогался из-за одного выражения (мне показалось, достойно и мило произнесенного), захотел помочь, но сразу вспомнил, что невозможно, что отнимаю только рассчитанное нужное время, и всё это я с неловкостью объяснил.
Фраза, меня удивившая, в сущности была обычной (на вопрос о друге – «Non, je me defends toute seule»), и, быть может, самый тон превратил ее и в достойную и новую, но что-то есть недоступноизысканное в готовой парижской скороговорке, уравнивающей все круги (кроме разве «интеллектуального», как и большинству русских, мне неизвестного) и настолько их сближающей, что немногим отличается от недавней моей приятельницы тот веселенький, богатейшей семьи, старичок, от которого зависит мое дело и который при каждом упоминании о беженских наших несчастиях, о шоферах-гвардейцах, о титулованных манекеншах, негодующе-горестно восклицает: «ai, ai, ai’ quel cataclysme» – и возможность такого сопоставления (прирожденнобогатый барин и девочка с улицы) и чудо, что девочка с улицы в себя впитала эти ловкие обороты и безошибочный, никогда не сбивающийся тон, меня поневоле озадачивают и трогают.
Перечитываю сегодняшнюю страницу и поражаюсь – в который раз, – до чего написанное мной, от упорной погони за точностью, сильнее и резче подуманного, увиденного, как мало соответствует такая «точная» запись (хотя и добросовестно-верная, но сгущенная тяжестью слов и непонятным моим упрямством) первоначальному расплывчатому наблюдению. Правда, есть и совсем неотмеченное – и среди другого тот воображаемый роман, о котором впервые пишу, о котором мне странно думать привычными, что-то обозначающими словами – настолько весь он поверхностно-легкий, бессловесный, невоплощенный. Я придумал его в шестнадцать лет, когда только появились у меня нетерпеливые завистливые предчувствия и еще не прибавилось опыта, убивающего ставшее ненужным воображение, и с какой-то упрямой вялостью протащил через всю молодость, через приключения, как у каждого необыкновенные, лишь немногое от начала переменив по своим последующим желаниям и надеждам. Я годами себе рассказываю те же самые приятные подробности в редкие спокойные часы, отдыхающие от делового шума, от любовных забот и припоминаний: этот «роман» – мой отдых, всегда разряжение и бессознательность, и оттого не слышу, не замечаю слов, не улавливаю даже кончика фраз и, во что-то погруженный, блаженствую: ведь рассказываю о себе, каким хотел бы сделаться, каким незаметно становлюсь.
Эти гладкие знакомые подробности, полугрустное их спокойствие чередуются с волнением о Леле, неподдельность которого сразу распознаю и которое ко всему примешано, что бы за день у меня ни происходило: им обостренно задеваются и «роман», и денежная глупая лихорадка, и на улице рассеянное любопытство, и дома зачитанные стихи, сладко укачивающие или неожиданно ранящие – и каждое дневное ощущение так же естественно меня к Леле приводит, как трудно от него же оторваться для уточняющей и скучно-расчетливой записи, которая сегодня мне кажется (может быть, из-за Лелиного приближения) особенно мертвой и сухой.
11 декабря.
Деньги сегодня утром получил, и они, избавив меня от унизительной противной беготни, от необходимости себя по-нищенски ограничивать, от злой и жалкой, в случае неуспеха, горечи, от всего неприятного и скучно-отвлекающего – эти деньги как бы приоткрыли и показали мне Лелю. Я благодарный, даже намеренно благодарный человек – ведь лучше, достойнее, просто выгоднее долгими днями радоваться удаче, чем еле-еле, высокомерно, ее отмечать – и я нарочно себе не раз напоминаю, что вот по-спокойному хорошо (если изредка – хорошо), насколько могло быть хуже, какие обойдены препятствия, какие опасности случайно не помешали. Мне также хочется себе доказать, что эта радость – не облегченный вздох неврастеника после томительно-вялой и как-нибудь законченной, наполовину брошенной работы, а то справедливое удовлетворение, которое нам дается заслуженно-достигнутым успехом – и что если бы сейчас возникло внезапное новое препятствие, я был бы опять готов немедленно работать и бороться. Последнее даже верно, но готовность бороться и работать у меня волевая – против природного отвращения ко всякому труду или борьбе, а радость окончания, оглядки как раз неврастенически-ленивая, и всё добросовестное мое упорство – вероятно, лишь следствие самоуважения, кровной потребности что угодно (как будто напоказ) совершенствовать, унаследованной привычки лояльно и безропотно подчиняться любому долгу или порядку, хотя бы и навязанному извне.
Не заходя домой, я сейчас же отправился по всем нужным мне магазинам – раньше, до денег, чтобы себя понапрасну не дразнить, ни за что не останавливался у витрин, недоступных и чересчур соблазнительных, сегодня же, как только ушел из «бюро», где веселенький старичок ласково передал мне приготовленный конверт с чеком, я сразу стал высчитывать, сколько на что истрачу, приспособлять цифры, сменяя одно решение другим и себе лишний раз доказывая, что могу произвольно выбирать – я действительно составил полуигрушечную (но всерьез) смету, аккуратно ее придерживался и потом торопясь уносил бесчисленные свои пакеты с собою, чтобы всё вместе поскорее разложить. Дома каждая купленная вещь мне представилась чудом вкуса (как нам кажется необыкновенным всё то, на чем имеется след нашего выбора, случайного предпочтения, самых легких наших усилий и к чему мы немедленно теряем и чутье, и спокойное беспристрастие), и каждая такая, со вкусом выбранная, себе подаренная вещь неожиданно меня с Лелей сближала – я выбирал ради нее одной и вот во всем, даже в этом (а не только умственно или душевно) оказался ее достоин.
День прошел почти незаметно, с меньшим волнением, чем я готовился – между ним и завтрашним приездом была еще ночь, беспамятство, сон, от чего всякое событие мне кажется более удаленным, чем из-за трудной и скучной работы: в работе ожидающее сознание лишь отвлекается, во сне оно исчезает совершенно. Поэтому и к самой смерти я равнодушнее многих других: сколько до нее скучных усилий, ночных исчезновений, и умру я, не сегодняшний, дорожащий жизнью, определенный, а тот непонятно-новый, каким сделаюсь – может быть, нескоро – после всего тягостно-отвлекающего, что мне еще предстоит.
К вечеру принесли телеграмму – встречайте десять утра – от этого сейчас же вернулась прежняя нетерпеливая моя тревога и стала разрастаться, предвещая лихорадочную бессонницу – мне захотелось как-нибудь отвести ожидание, сделать легким его переход в сон, себя самого полуусыпить и тем искусственно приблизить утро, а для отчетности перед своим несносно-придирчивым и трезвым умом – «отпраздновать удачу», вернее, отпраздновать, что всё вышло так не по-моему гладко – без обычного откладывания и обязательных неожиданных препятствий.
Я в минуту собрался и вот вхожу в дымный и пьяный среднедорогой русский ресторан, где оглушенный быстрою музыкой, безостановочным мельканьем лакеев, множеством изящных женщин, вызывающе-любопытных, всей непривычностью стольких стремительно-острых впечатлений, перестаю ощущать и себя, и свои неловко передвигающиеся ноги, и размякшее свое тело, и с надеждой оглядываюсь, как бы удобнее сесть, чтобы видеть всех этих женщин сразу и не спеша среди них выбирать немногих особенно привлекательных – для переглядывания, для знакомства (конечно, едва ли вероятного), а главное для применения нежности, для воображаемых сердечных разговоров, которые с детских лет (правда, переменив тон – без прежнего жаркого доверия) постоянно и тайно веду.
Место выпало как раз неудачное – посередине зала – и я очутился спиной к нескольким молодым женщинам, лишь промелькнувшим и уже отмеченным, и они сейчас же для меня исчезли, еще больше выделив остальных, как исчезают для нас иные люди, возможные друзья или возлюбленные – на железнодорожной станции, на каком-нибудь уличном повороте – и другие, действительно близкие, если надолго попадут в чужой, нам недоступный город. Впрочем, так же и мы для них исчезаем, тем самым уступив место, как бы помогая другим, но это не должно нас утешить, а только лишний раз напоминает нам о несовершенстве человеческих отношений, об их зависимости от ничтожнейших мелочей, обидно превращающихся в судьбу.
Чтобы совсем избавиться от тяжести ожидания, уже ослабленной размягчающим ресторанным воздухом, я выпил подряд несколько «двойных» рюмок водки, рисуясь, что не опьянел, и по забывчивости сам себе удивляясь – я пьянею не сразу, зато становлюсь неузнаваем и противиться перемене не могу. И на этот раз перемена произошла удивительная, причем не было, кажется, перехода: я вдруг поддался веселому возбуждению, безвольному, словно навеянному со стороны, всё убыстряющемуся и тем неизбежнее втягивающему, что не могло за ним быть привычного после трезвости разочарования – и поверил громкой, как будто взбесившейся и от чего-то освобожденной музыке, стараясь не слышать, не думать, что она – подделка (даже под румынскую сладость или буйство), и торопясь догнать ее задыхающийся, на всё мое непохожий, любовно-счастливый бег. Впрочем, музыке мешал обед – от водки и, быть может, по неизбалованности пирожки и котлеты казались особенно вкусными, мне же часто еда не дает расчувствоваться, сковывает и внешне, что также иногда расхолаживает: с тем, как обнаженно мы едим, какими нескрываемо-хищными при этом должны казаться, не вяжутся благородные, саможертвенные решения (хотя бы вызванные ресторанной музыкой), и в случаях, подобных сегодняшнему, я торопливо доедаю любимое, вкусное (до самого последнего куска) и потом, с показной невнимательностью, как бы уже захваченный благородным или горьким своим чувством, отказываюсь от остального и прошу принести кофе – чашечка кофе придает какую-то (по моему представлению, светскую) законченность неотразимой для меня позе человека сдержанно-пьяного, всё более отравляющегося и к себе презрительно-беспощадного.
Но вот тарелки убраны, чашка кофе передо мной, и я могу душевно себя распустить, а внешне лишь капельку показать – оставшись спокойно-благовоспитанным – облагораживающее, ошеломительное действие музыки и от нее возникших воспоминаний, и этим намеком и своей (будто бы необыкновенной) выдержкой как-то задеть, приблизить блестяще-достойных женщин, которых выбрал вначале, когда вошел, за которыми не перестаю следить и которые тоже (с неотступным вниманием, но по-женски самолюбиво-скрытно) у разных столиков за мной наблюдают. Мое пьянство чаще всего самовлюбленное: обычная неуверенность исчезает, мнение о себе, о своем успехе повышается до слепоты, я становлюсь естественно-предприимчив, не вижу препятствий, не понимаю страха и был бы рад пожару, опасности, панике, чтобы щегольнуть перед всеми своим бесстрашием, когда же, после давно знакомой мелодии, припомню свое уже неподдельное прошлое, порою грустное, безвыходное, самоубийственное, то и такое ощущение прошлого, удесятерившись от всего выпитого, наполняет за себя той же требовательной, самовлюбленной гордостью, и, пожалуй, иным является только пьянство по отчаянью, редкое в эти скучные годы.
Я уже не считаю, как раньше (после первых своих наблюдений и поспешных задорных выводов), что пьяная одержимость особенно проницательна или может чему-нибудь вдохновенно-новому научить – явно слабеет ум, многое из памяти (всё сложное или шаткое) стирается, записанное сгоряча окажется потом незначительным и бессвязным – но есть в пьянстве подлинное, хотя бы и бессмысленное, нежаленье себя, легкость приключения, жертвы, какая-то сила, громкая и огрубляющая.
Я мешал ликеры, всё более от себя уходя, свое отдавая и этим как бы участвуя в общем согласном полете – музыки, чьих-то райских улыбок, обещающих преданность и доброту, и случайных безмерновыразительных романсовых слов: пела цыганка, немолодая, в низко вырезанном, модном, ее обезличивающем платье, и как будто пыталась насильственно влить в этих чуждых людей крепкие страстные свои звуки. До меня они доходили с какой-то пленяющей убедительностью: в них было передано, точно и коротко, случившееся именно со мной и еще украшено, обогащено пением – многое как бы навсегда врывалось в память, тревожило, трогало, заставляло с самим собой спорить и что-то о себе горячо и сладко пояснять. Те же слова после трезвого успокоения могут показаться наивными, вялыми, лишенными пьяного колдовства, но настолько это колдовство неотразимо, что они запомнились со всеми, не раз повторявшимися, возражениями и доводами. Вот цыганка настойчиво выкрикивает мое любимое – «каждый вспомнит свою дорогую», – и у меня одна за другой путанные быстрые мысли: то, что вспомнит непременно «каждый» – от всей огромности обобщения трогательная величественность, то, что вспомню также и я, конечно, для меня, главное, но относится это не к прошлому (хотя музыка и могла бы его легко пробудить), а к завтрашней Леле, вдруг приблизившейся, живой и почти осязаемо в меня влюбленной. Затем новый, как танец, укачивающий размер и новые, немного странные слова – «сердце лаской тратится» – в них прелесть покорной, не ропщущей, навсегда принятой жертвенности, но у меня упрямое несогласие: нет, сердце не «тратится», а богатеет – надо только приоткрыть сердечные богатства, и они потом неисчерпаемы. Мужской вкрадчиво-умоляющий голос мягко продолжал: «Я выйду от тебя, как прежде, горделиво, пусть люди думают, что ты еще моя». Невольно завидую: я ни разу не смел просить о такой услуге – те, забывчивые, кого выбирал, надо мной посмеялись бы и давно меня убедили, что по-иному, по-доброму, не бывает.
Напротив русская «danseuse» (ее приглашают танцевать за деньги) – похожая на всех, кого я выбирал, кто мучили меня или могли бы мучить – совсем оголенная, рыже-белая, с умным, неприятно-дерзким лицом. Мне кажется невозможным излюбленное неподвижное созерцание, которое обычно считаю пропитанным жизнью и единственно-творческим, мне хочется поскорее – из-за музыки, воспоминаний, из-за денежной доступности этой женщины – добраться до грубой, может быть, настоящей жизни и себе подарить безмятежно-щедрую ночь. Но какое-то взрослое благоразумие, никогда не забываемый опыт осторожно меня останавливают, трезвят, как бы советуют не портить Лелиного приезда смешными и стыдными мелочами – недовольной усталостью, глупой болезнью, хотя бы страхом заболеть. Без единого усилия, с радостью себя преодолеваю, потому что Лелин приезд стал уверенно-близким, и его ожидание – стремительное, легкое, суеверно-благоприятное.
12 декабря.
Я заказал комнату поблизости от себя, в отеле, дешевом и сравнительно чистом, и отправился на вокзал встречать десятичасовой берлинский поезд. Из дому вышел поздно, чтобы не долго ждать, в дороге завозился и уже с вокзала, узнав, что поезд опаздывает, неожиданно для себя сорвался и побежал на улицу за цветами. Выбрал темно-красные розы, мокрые, свежие, еще свернутые, на неестественно-прямых, поддержанных проволокой стеблях, и это было первое, что перенесло Лелю из воображаемой жизни в живую, первое, чем мое отношение к ней меня самого тронуло, какое-то обещание доброты, сразу обязавшее к доказательствам новым и непрерывным: точно так же и всякие наши трогательно-прочные к людям отношения – длительная верность, бескорыстная саможертвенная заботливость, просто милое внимание – нередко начинаются с какого-нибудь случайно-капризного поступка, и потом уже нами руководят различные полусознательные соображения (умиленность перед собой, привычка к чужой благодарности, боязнь разочаровать, иногда несносная и скучная обязанность), поддерживающие нашу доброту, но еле связанные с первоначальной причиной – вероятно, многие из нас не помнят, почему оставляют в кафе одному лакею вдвое больше, чем всем другим, и считают себя вынужденными своего предпочтения не менять. Такой первоначальной причиной, создавшей обязательность – раз и навсегда принятую – умиленного внимания к Леле, оказались эти утренние пахучие красные бутоны, которых, по незнакомству, я и не должен был подносить, и они же (как я сейчас писал) нечаянно оживили привычную рыцарственность моих о Леле давнишних взволнованных мыслей, закрепив ее добровольно-действенным земным поступком, после чего настоящее Лелино появление уже не могло стать новым, неожиданным, резко перебивающим прежнюю к ней доброжелательность, и вся странная подготовка, начатая Катериной Викторовной, продолженная вялым, полувысушенным воображением последних лет, подогретая пятидневным ожиданием и вчерашней удачей, привела к Леле вплотную – без неизбежно-опасного промежутка рассудочной пустоты, присматривания и расхолаживающих сравнений.
В медленно-неуклюжей толпе приезжих, среди первых, я узнал Лелю по горностаевой горжетке и синему пальто, о которых был предупрежден, и всё равно узнал бы – такой, именно, ее описывала Катерина Викторовна и я сам годами представлял: у нее необыкновенно бледное (словно перепудренное) лицо и глаза, похожие на кукольные – из-за сине-фарфорового оттенка и длинных, тяжело и плавно опускающихся ресниц – и неожиданно-милая, после всей этой как бы искусственной неподвижности, дрожащая прищуренная усмешка. Леля чуть ниже среднего роста и хрупкая, но вся до того прямая, с движеньями столь изящно-определенными, что должна казаться высокой и сильной. Я подошел к ней без смущения, ободренный, приподнятый отсутствием нового, своей продолжающейся готовностью служить. В такси мы говорили о Катерине Викторовне, и Лелины глаза добродушно, уверенно-спокойно и успокаивающе улыбались: я знаю о вас и вы обо мне – вот как хорошо, когда мы вместе. Вообще с первой минуты Леля оказалась увереннее со мной, чем я с нею, хотя мы и были друг к другу одинаково подготовлены – так иногда мальчик, впервые объясняющийся в любви, почему-то смущеннее, беспокойнее своей столь же неопытной сверстницы. Впрочем, в Леле сейчас же угадывался особый к людям и разговорам навык, свойственный многим самостоятельным женщинам, особое умение со всеми обращаться: она понимала с намека, переспрашивала, чтобы сразу распутать неясное, и без усилий делала те стыдные, обычно скрываемые и, в сущности, дружественные замечания, без которых человеческая близость всегда остается беспомощно-условной и тяжелой. Комната ей не понравилась:
– Простите, милый друг, вы услужливый и добрый – сколько тетушка мне об этом говорила, – но вам хочется тронуть, именно, своей заботливостью, и вы не думаете о том, как бы всё устроить разумно и правильно. Я просто напоминаю вам – не для себя, для следующего случая – и ни капельки не хочу упрекнуть. Напротив, я еще не сказала, до чего вами тронута.
Комнату все-таки не переменили:
– Мы, кажется, подружимся – зачем же забираться от вас далеко, а здешние, получше, вероятно, мне дороги. Скажите только честно, не мешаю ли я вам, не слишком ли вы пока деликатничаете.
Я довольно точно уловил любопытство и тревогу, смутное женское желание что-то значить и не иметь соперницы – при всей своей неуверенности сейчас же различаю малейшее, самое скрытое к себе расположение и, даже безответный, умиляюсь. Лелю сразу успокоил, и больше она не сомневается в крепкой моей дружбе, я же поверил благожелательной правильности всяких ее советов, даю за нас обоих решать, и незаметно устанавливается, что она как-то покровительственно во всем руководит. Иные ее суждения поражают своей проницательностью – той именно, от которой краснеешь, и не по-моему легкой – такая безошибочно угадывающая простота для меня убедительнее изысканных и неверных сложностей. Леля не только угадывает чужое, но и отыскивает свое, пускай нелестное, легко в нем сознается, и это у нее выходит естественно, даже весело, без жалких или грузных самообвинений. Зашел разговор, столь частый у людей моего с Лелей возраста (тридцатилетних и старше), оказавшихся в одиночестве, но еще надеющихся – о плохой молодости, о любовном времени, их навсегда потрясшем:
– Это единственное у меня с вами богатство, единственное, в чем мы друг другу любопытны и, если хотите, близки. Странный «капитал» для нашего «товарищества» – как будто не свой, украденный. Но смущаться, замалчивать не стоит – всё равно, другого у нас нет.
Потом заговорили о том, хорошо ли Катерине Викторовне живется. Я промолчал, что недавно ей помог. Леля об этой помощи знала:
– Ваша скрытность не так достойна, как вы думаете. Признайтесь, вам больше всего хочется быть разоблаченным – тогда вы еще выиграете и от молчания. То же самое, если не сразу объявляют о важной или приятной новости, чтобы потом удивить выдержкой – всё это от тщеславия, которое нелепо среди друзей. Я не ценю и не люблю такой чрезмерной выдержки – «peut-etre j’en suis trop eprouvee» (у Лели отличное французское произношение). Давайте уже друг о друге судить по существу.
Лелину манеру говорить можно по-странному (но без противоречия) назвать «сдержанной откровенностью»: откровенность – в смысле какой-то прямоты, безбоязненного признавания неудач, отсутствия прикрас, подготовок или ложной, напоказ, скромности, а сдержанность – в самой степени, в стыдливо-бедном прилагательном, в некоторой скупости описаний. Мне приятно, какой у Лели голос – он низкий, чуть-чуть однотонный, иногда теплый и убеждающе-певучий.
Мы были вместе почти весь день, и Леля много о себе рассказала. Меня слушает внимательно, терпеливо (от сосредоточенности по-смешному застывая), но после коротеньких, острых, сгущенных ее рассказов, после иных выразительных ответов мои слова как-то не звучат. Обыкновенно завидую счастливо-способным людям, которым не надо стараться, но Лелину во всем удачливость принимаю, точно свое, и еще сегодня утром любовался, с какой неколеблющейся изящной ловкостью своими милыми дельными руками она убрала комнату, потом для меня зашивала лопнувшую по шву новую перчатку, причем предложила она же и поморщилась от неумеренной моей благодарности. Под вечер я вспомнил (вернее, «вспомнил» для Лели, а сам уже решил с утра), что надо ей объяснить про вчерашний ресторан и насколько лучше было бы с ней – и только нагляднее это вообразил, как меня неудержимо туда потянуло. Леля согласилась легко и с улыбкой почти нежной:
– Принято, но больше не буду вас разорять, а мне кутить не по средствам. С завтрашнего дня «выходы» скромные и по-товарищески, и вы меня, пожалуйста, не уговаривайте и не сердите.
Скоро должен за Лелей зайти (она у себя переодевается), и впервые после долгого времени – никакой озабоченности, ни одного тяжелого или скучного предчувствия, никаких желаний, обжигающих своей неосуществимостью, и кажется достоверным, что и дальше будет по-сегодняшнему – занимательно, беззаботно, просто.
13 декабря.
Леля меня ждала, взволнованно-озабоченная перед зеркалом и внезапно похорошевшая, в вечернем платье, коротком, прозрачном, и мне впервые представилась только женщиной, по-женски ослепительной и сразу отчужденной и недоступной. Всё за день в ней обнаруженное и ее ко мне приблизившее – внимательный, насмешливо-добрый и понятный ум, намеренно дружеская прямота, какая-то скромность, не отпугивающая моей и меня к Леле приравнивающая – всё это, без поверки принятое (как хорошее настроение или неожиданно милая книга), вдруг забылось, потускнело, отошло, и Леля, ярко-нарядная, незнакомая, была уже не со мною, а в какой-то чужой жизни, праздничной, чванной, запретной, вызывающей во мне одну грустную беспомощность. Я смотрел на нее по-новому – как-то унизительно-бескорыстно восхищаясь, – и по-новому стали недосягаемы ее руки, еще недавно такие ловкие, домашние и спокойные, теперь оголенно-холодные, враждебные и оттого влекущие, ее нежные и сильные плечи, ее ноги – я прежде не разглядел их девической безукоризненной стройности. Еще открытие: Леля совсем не хрупкая, как я от первоначальной своей умиленности вообразил, но вся она тонкокостная, мягко изваянная, с узенькой щиколоткой и кистью, и, быть может, от этого – кажущаяся обманчивая хрупкость. Самое удивительное у нее кожа – такой нежной и мягкой белизны, от которой и тепло и замирающе-сладко.
Леля (мне кажется в первый раз, что правильнее «Елена Владимировна», как вынужден по-неловкому ее называть в лицо) заметила мой испуг и обрадовалась ею вызванному впечатлению, но сразу пожалела, постаралась исправить, ввести меня в круг хозяйственных разговоров, шутливой откровенности, уже ставший для нас своим и, по-видимому, убежищем в опасности:
– Боюсь, мое платье недостаточно модное – сейчас видно, что я провинциалка. Только вы не должны меня стесняться – если всё устроится по-хорошему, будем вместе ходить по моим туалетным делам.
Постепенно – из-за этого милого успокаивающего тона, из-за манто, прикрывшего голые ее плечи и руки, из-за темноты в такси – я вернулся к веселой и беспечной прежней доверчивости и только в ресторане, когда Лелю словно бы нечаянно около себя находил («находить» собеседника – частое свойство моей рассеянности) или замечал чье-нибудь нестесняющееся упорное рассматривание, как-то внутренно вздрагивал и на минуту терял найденное, принятое в Леле – постоянное равновесие и опору. Так, именно, без резкого болезненного волнения, спокойно и весело (совсем не по-вчерашнему) я слушал музыку, не умилялся над пьяными, искусственно относимыми к себе словами, пил в меру – и по отсутствию потребности, и оттого, что Леле мое пьянство могло бы не понравиться: в ней есть какое-то, мне передающееся душевное здоровье, притом не грубое, а разумное и одухотворенное. Леля, казалось, угадывала мои мысли и как будто хотела себе доказать, что меня не обманывает. После молчания, вне связи с предыдущим, неожиданно она сказала:
– Мне полагается быть благоразумной, небушующей и твердой, и чтобы всё у меня выходило легко. А бывало и по-иному – правда, если могла, я противилась своему невезению. Завтра соберусь с силами и многое вам расскажу.
Мне тоже захотелось показаться таким, как Леле всего приятнее – здоровым, действенным, сильным: я безо лжи собрал по мелочам, восстановил и эту – одну из многих – свою возможность, припомнил редкие случаи бесспорной своей действенности, опасные приключения, дела, женщин, ненадолго мне подчинявшихся, преувеличил, кое-что оттенил, и вышло так, будто не главное у меня – надежды, легкий от них отказ или усталое созерцание. Впрочем, Леля, одобрительно меня слушавшая (у нее умиляюще-добросовестная манера слушать), после одного спора – о новой музыке – неожиданно заметила:
– Все-таки вы любите Чайковского и Шопена – вы мечтатель.
Я был уязвлен, словно меня поймали в смешном и невзрослом поступке, но в ту минуту (как и всё время) шла в счет только наша дружба, такие разговоры позволившая, и новая уверенность – что, наконец, «приткнулся», занят, почти захвачен, что ничего другого уже не надо искать – меня тепло и благодарно заполняла и вытеснила всё остальное. Напротив сидела вчерашняя танцорша, с неопределенно-презрительной улыбкой, и была до неузнаваемости чужой, вне сегодняшнего моего уюта, и даже наружно – по сравнению с Лелиной сияющей мягкостью – казалась топорной и жесткой.
По дороге домой, как только мы очутились в такси, что-то снова во мне переменилось (позднее действие цыганской музыки и вина, вызванное невольным нашим уединением): я Лелю опять увидал, какою под вечер внезапно обнаружил – полуголой, ослепительной перед зеркалом, – и стал, ничего не объясняя, целовать ее руки (перед тем особенно влекущие и недоступные и ни на минуту не забываемые), причем целовал их не грубо, как бы хотел, а с той обычной лицемерной нежностью, которая удается каждому из нас, если мы подражаем своей влюбленности, и которая была нужна, чтобы Лелю не оттолкнуть и не обидеть. Правда, я знал, что неловок, но Леля казалась тронутой и по-доброму меня похвалила и выручила:









































