Текст книги "Собрание сочинений. Том I"
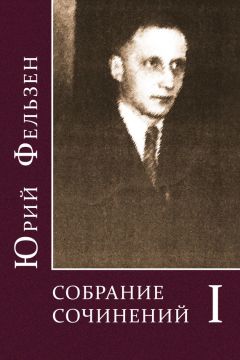
Автор книги: Юрий Фельзен
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 10 (всего у книги 33 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
– Вы знаете, на днях приезжает сюда Елена Владимировна.
– Я этого ждала. Вы больше не придете? (после утвердительного моего молчания) – не стоит ничего говорить. Попрощаемся – и конец.
– Вы, как всегда, правы.
Я был обрадован ее мужской лаконической стойкостью. Вообще, Ида Ивановна казалась менее растерянной, чем обыкновенно: может быть, это ее роль – принимать обиды, щелчки, издевательства от человека, с котором она связана. Еще вероятнее – она просто равнодушна ко мне, и я ей нужен (как и всякий другой) разве только для «отвода чувственности».
Еораздо более трудным представлялось объяснение с Зинкой, по-видимому, искренно влюбленной, но во мне вызывающей (как я мало ни избалован) лишь смесь раздраженности и жалости – когда ее не вижу и вспоминаю готовящееся к пренебрежительному отказу, опущенное, бледное ее лицо, то досадую на себя и на судьбу, почему именно Зинку, нетребовательную, беззащитную, при всех или наедине я обижаю и мучаю, когда же она появляется у меня и особенно – когда она долго, без конца, не уходит, я еле справляюсь с собой, чтобы скрыть свою нетерпеливость, чтобы не высказать правды, ей давно известной. Кажется, впервые за всё время знакомства (и как раз теперь – чтобы распрощаться) я обратился к ней по собственному почину и предложил встретиться в кафе. Я начал с того же, как с Идой Ивановной, с известия о Лелином приезде, хотя Зинка – из деликатности или самолюбия – никогда словами не называла того, что могла считать достоверным и на что отдаленно и путанно все-таки мне жаловалась. И сейчас она себе не изменила, лишь как-то мутно порозовела, и глаза ее негодующе блеснули:
– Вы не увидите Елены Владимировны. Меня сегодня просвечивали у доктора, я очень, очень больна и с папой уезжаю в Швейцарию. Вы обязаны поехать и быть со мной.
– Мне это сейчас невозможно – и совсем не из-за Елены Владимировны.
– Вы хотите сказать, дела, финансовый вопрос. Бросьте, это неправда. Если чего-нибудь хочется, всегда можно добиться.
У меня появилось нестерпимое, ненавидящее желание (из-за того, что покушаются на мою свободу) вскочить, уйти и никогда с Зинкой не встречаться, и это меня заставило – против обычной в таких случаях убедительной мягкой вежливости – запальчиво и грубо заявить:
– Я не поеду.
Зинка взглянула на меня с неожиданной нежностью, как бы переспрашивая, как бы давая мне время передумать и понять всю беспощадность моего отказа, но я молча – недоумевающим жестом руки и плеч – объяснил, что ничего переменить нельзя. Тогда она, со страстным упреком, напомнившим мне первое наше сближение и длительное мое потом раскаяние, торжественно, почти театрально произнесла:
– Вы совершаете убийство.
Я подумал – эффектная фраза, кривляется, – но попрощавшись, уйдя, оставив Зинку неподвижной, словно бы не верящей этой окончательной моей жестокости, я должен был перед собой оправдываться, себя разжигать логически-верными мыслями – что я не добивался Зинкиной любви, что если вначале она и могла думать о моей ответ-ности, то теперь никаких сомнений у нее уже нет (ведь я действительно ни разу первый ее не позвал и ни разу не захотел из себя выдавить любовных, обязывающих, хотя бы сочувственно-милых слов) – но если мои рассуждения и являлись последовательными, правильными, точными, я всё же оставался неспокоен и ощущал какую-то явную свою бесчестность и неправоту. Я шел по улице, наслаждаясь летним оживлением и теплом, освобожденный от всей тяжелой, себе поставленной задачи, испытывая особую сладость безопасности (ни за что не вернусь в кафе, не увижу Зинки, не поддамся ее упрекам, буду теперь беспрепятственно ждать Лелю), и продолжал себя подогревать давно усвоенными истинами – о непозволительности покушений на чужую свободу, о необходимости отстаивать свою, о том, что бесстыдны всякая навязчивость и не считание – правда, все эти легкие истины, которыми я теперь себя защищал, были мною усвоены по опыту как раз обратному, самоубийственному, безжалостному к себе, когда именно я стыдился своих навязчивых и никакой ответной благосклонностью не оправданных «покушений на чужую свободу» и часто их избегал. Но даже если я и оказывался перед Зинкою прав и сам в этих случаях старался поступать безукоризненно, в памяти оставалось ее приказание – «Вы не увидите Елены Владимировны» – такое решительное (она, вероятно, подумала – надо только уметь обращаться с людьми) и такое беспомощное, вся ее растерянность после моего ухода из кафе и торжественно-жалкий возглас «Вы убиваете». Мы нередко считаем ответственными перед собой тех, кого любим, и от подобной явно-нелепой нашей требовательности иногда просто не можем отделаться – помня это и зная (и потому именно, что я это помнил и знал), я не мог отделаться от противоположного, от чувства ответственности перед Зинкой, меня любящей, от сравнения ее слабости и моей силы, от прямого вывода, что я обязан как-то ее опекать. Мне даже показалось несправедливым совершенно забыть об Иде Ивановне – только оттого, что она молчала, оттого, что скромные всегда проигрывают, – но как раз это соперничество нелюбимых уравнивалось естественно и легко: я любил третью, им обеим постороннюю – Лелю, – и радость о ней немедленно вытеснила всё остальное. Победило спокойное благоразумие, жестокое к бедной Зинке, благородное в отношении Лели – я только жалею, что достигнутая с ней высота не удержится и будет нарушена предстоящей нашей поездкой, чрезмерными надеждами на эту поездку, которые осуществиться не должны. Это единственный провал сегодняшнего моего благоразумия – точно я выпустил на волю скованные прежде желания и с разбегу не мог их остановить.
Мне сделалось легче вести эти записи – больше приготовленных, что-то мое выражающих, слов, больший выбор сочетаний, появилась, выработалась привычка их вызывать, наблюдаемое не исчерпывается сразу, скорее даже цепляется одно об другое, позволяя вытягивать всё новое. Я даже боюсь этой неутомляющей легкости, нарочно задерживаюсь на чем-нибудь мне трудном и, с придирками, упорно ищу неуловимые словесные разрешения и кажущиеся единственно-верными и точными, но никакой искусственностью нельзя заменить внутренно-естественного напора, я нахожу необходимые слова и продолжаю торопливо записывать, точно в погоне за всем тем, что иначе потеряется и забудется: очевидно, прилежная дневниковая работа, как и всякая другая, станет ремеслом от напряжения и времени, и в ней уже не будет трудности или новизны, страсти утаивать и такой длящейся тайной записанное возвышать перед собою. Я перестаю думать о благожелательной любящей женщине, которая одна удостоится прочесть и понять, нет, предвижу читателя, равнодушного, беспристрастного, и, конечно, предвижу его презрительное недоумение: ведь стараясь добросовестно, без плутовства, что-то свое изобразить, я как бы это свое предаю – выискиваю в нем дурное, обычно людьми скрываемое (часто и от себя), и невольно стыжусь выигрышного.
19 сентября.
Вот я кое-что и угадал – о неблагоразумии, о ненужности поездки в Бланвиль, – и никакой у меня нет гордости из-за угаданного, никакой тщеславной внутренней позы. Мне просто не до того – и необыкновенным, неповторимым счастьем представляется время до Лелиного возвращения, пускай вялое, скучное и недостойное. У меня сейчас самое ненавистное из всех состояний – нескончаемый припадок ревности, – и мой соперник, неожиданный, непонятно-удачливый – Бобка, мне даже по-сопернически нелюбопытный. Я сам предложил Леле взять Бобку в Бланвиль, чтобы избежать разочарований (наша идиллия удасться не могла) и соблазнов – от смежных комнат, от поздних прогулок и разговоров: я предвидел Лелино сопротивление и хотел сохранить благоразумную, удобную ясность. Увы, я многого не рассчитал – не только Лелиного каприза, нелепого Бобкиного успеха – но и собственной сохранившейся подчиненности Бланвилевской природе, темной лесной аллее, «кафейному» скату у озера, всему, что я в них представлял и для чего нуждался в их помощи. Была ли в этой природе действительная скрытая отрава, которую я в одиночестве здесь недавно находил, или же приписанное, преувеличенное мной перекинулось и на моих спутников и по странной, сомнительной логике их, свежих и новых, объединило, а меня, этим уже обессиленного, выбросило – во всяком случае, я потерял навсегда возможность достойной с Лелею дружбы, желание добиваться и сохранять ее дружбу, довольствующееся этой дружбой равновесие. Я болен предпочтением мне другого, самолюбием, жестокой, грубой очевидностью, и единственное, что теперь могло бы меня излечить – мое торжество, очевидность моей победы, принятие диких условий – чтобы Леля навсегда поселилась со мной и Бобку не видела и не принимала. Всё это до смешного противоречит истинным нашим отношениям, и я без конца придумываю наивные детские планы (мстительные или утешающие) – как я устранюсь, оставлю Лелю с Бобкой вдвоем, как она, меня потеряв, опираясь на одного Бобку, ужаснется и неизбежно раскается.
Мы приехали к вечеру, и в пансионе нам сообщили о необычайной нашей удаче («quelle veine vous avez») – что как раз открытие казино. Я предложил Леле пройтись до обеда и посидеть на воздухе, в кафе, которое еще в Париже ей восхищенно и многословно описывал (выхваливая, точно свое), но Леля предпочла отдохнуть и себя привести в порядок. Бобка сразу исчез, кажется, ушел куда-то звонить отцу по телефону, и я отправился один по знакомой уже дороге. Было ветрено, прохладно, сыро – впереди меня рассудительный господин доказывал своей даме, что бессмысленно открывать казино к самому концу сезона. Они также направлялись в кафе, и я – из какого-то озорного любопытства – занял соседний с ними обоими столик. Любопытство вызывалось дамой, еще молодой – бледной, тонкой и высокой, как иные модные танцовщицы – и по акценту несомненно русской. Впрочем, говорила она немного, только отвечала – и то рассеянно, по-видимому, часто невпопад. Спутник ее, фиолетовый от аперитивов, плотный и лысый француз, с седеющими усами, с розеткой почетного легиона, старался ее втянуть в нелепый спор о России, нападая довольно безобразно и рисуясь вескими своими знаниями и доводами: «Un peuple merite le regime qu'il a, vous, les Russes – c’est Lenine ou bien Ivan le Terrible… voyez ceux qui entouraient ce pauvre tzar, its Font tous abandonne, c'etaient tous des laches, laches, laches». Возможно, он просто ее дразнил, и бледная дама, по примеру множества других эмигрантских женщин, была для иностранца «du meilleur monde» и, значит, «из царского окружения», и к ней непосредственно относились оскорбительные его слова – во всяком случае, она еле слушала, спорила вяло и нехотя и незаметно переглядывалась со мной, как-то слишком выразительно опуская бесцветно-голубые глаза и показывая выставленные вперед, чуть-чуть длинные верхние зубы. Мне захотелось вступить в их спор, ее поразить, что я русский и с нею как бы заодно, а его очаровать достойными, дельными и для меня выигрышными возражениями. Но времени почти не оставалось, меня тянуло поскорее к Леле, и не было сил преодолеть незнакомство и трудность первого смелого шага. Зато на обратном пути, начиненный неиспользованным зарядом, я романтически вообразил денежную зависимость бедной русской женщины (и, пожалуй, не ошибся), и что богатый француз «за свои деньги над нею куражится», и как я Леле передам это редкое, из настоящей жизни, задевающее, печальное наблюдение. Может быть, оно и не являлось таким удивительным и особенным (часто я преувеличиваю то, что именно для Лели готовлю – от огромности для меня ее же безмерно-вдохновляющего резонанса), или просто я не вовремя рассказал, но Леля, с вежливым, обидно-искусственным вниманием, меня выслушала, нетерпеливо (лишь бы не продолжать) кивнула головой и вернулась к прерванному с Бобкой разговору – о телефонных новостях, о здоровьи его сестры. Я был этим как-то несоразмерно-остро уязвлен, потому что заранее уверился во впечатлении и цель его и весь свой порыв считал переполненными доброжелательностью, дружественностью и благородством. Притом я себе казался – из-за неловкого своего вмешательства – чужим и лишним во взрослом Лелином и Бобкином разговоре, и это невыносимое ощущение продолжалось до самого утра и становилось всё более обоснованным.
Мне вдруг представилось, что я, как это бывало и раньше, придрался к мелочам и что ничего еще не изменилось – ради проверки я уговорил Лелю (и против желания, из вежливости, конечно, и Бобку) сразу после обеда пойти в ту самую лесную аллею, от которой я опять ожидал решающей союзнической помощи. Леля согласилась без оживления и только заботливо спросила:
– Боб, милый, а вам не будет холодно?
Всю дорогу, с необыкновенной для нее и ничуть не иронизирующей мягкостью, Леля переспрашивала об одном и том же, и я, терзаясь, гадал, почему она не заботится обо мне, одетом точь-в-точь как Бобка, но явно менее стойком и здоровом, и остановился на предположении, пожалуй, единственно утешительном – что Леля считает меня виновником легкомысленной прогулки и потому так вызывающе и так односторонне заботлива. Мы прошли мимо сияющего, белого, шумного казино, на уровне озера – от него струйками долетал резкий сырой холод, – и внезапно Леля обрадовалась:
– Боб, а все-таки я для вас кое-что и придумала.
Она ловко сбросила с себя плотную теплую кофточку и накинула левый ее рукав на левое Бобкино плечо, а правый на свое правое – им приходилось крепко придерживать кофточку (каждому с краю, крайней своей рукой) и друг к другу тесно прижиматься, – мы опять вступили в темную полосу, где оба они казались (Бобка, широкий и большой, Леля, меньше и уже, и облегавшая их кофточка, косо спускающаяся от Бобкиного плеча к Леле) уродливым четырехногим животным. Я шел справа от Лели, до нее не дотрагиваясь, обиженно подчеркивая свою отстраненность и чистоту – впрочем, если бы не было Бобки и странного Лелиного поведения, я бы сам к ней тесно прижался, и никакой бы не появилось презрительной холодности и чистоты. Мы наконец вошли в любимую мою аллею, черную, страшную, с каким-то воющим гулом невидимых сухих листьев, и я подумал, что в такой темноте, в таком зловещем, уединенном месте должна скрываться опасность (хотя бы внезапного нападения) и что нам, обоим мужчинам, следовало бы позабыть о соперничестве и согласно Лелю оборонять. Точно оправдывая подобные мои мысли, кто-то, совсем вблизи, направил на нас фонарик – я, как никогда, осмелел и уже приготовился наброситься первый, но перед нами оказался высокий господин в смокинге, по-видимому, мирно шедший в казино, и при свете его фонаря я неопровержимо-ясно увидал, что Бобка свободной рукой Лелю обнимает и гладит – с бессознательной мгновенной хитростью я догадался немного отстать (раньше, чем свет исчез) и столь же неопровержимо убедился, что и Леля Бобку обнимает.
У меня возникло желание язвительно ее спросить «ну, как же вы теперь, согрелись», уколоть, показать, что вижу и знаю, однако я побоялся неловкости, несвоевременности выступления и – в который раз – по-слабому промолчал. Боль еще не появилась, только предвиденье ее длительности, ее безмерной силы и неумолимости, какого-то соответствия ее тому, что сегодня происходит или может произойти, и с каждым новым ударом я всё удивленнее себя спрашивал, до чего же эта боль дойдет, сколько же я перенесу, а пока – до боли – лишь безрассудно-весело опьянялся, как опьяняются люди разрастающимся шумом оркестра, перекрикивающим осмысленную мелодию, или громкими, разрушительными событиями, или же собственной возможной гибелью – кому-то, неизвестному и во всем виновному, назло.
Мы повернули и пошли быстрей, чтобы попасть на «открытие» и согреться. Открытие вышло неудачным: рассудительный лысый француз, уже находившийся здесь со скучающей своей спутницей, разумеется, был прав, и публики собралось немного. Казино походило на другие второсортные подобные же заведения – обеденный зал, танцевальный, два или три игорных, веранда, в такую погоду лишняя – на всем ложный торопливый блеск и за этим что-то кое-как сколоченное, безвкусно покрашенное, напоминающее русские дачи. Устроителей и помощников их – музыкантов, лакеев, дансеров, – кажется, больше явилось, чем гостей, и они, как могли, изображали оживление, куда-то бегали, друг с другом танцевали и старательно дули в трубы, владелица казино, моложавая, рыжая, чрезмерно декольтированная дама, встречала гостей у веранды и нехотя, еле скрывая досаду, улыбалась тем, кого приходилось отпускать, кого отпугивали огромные, наполовину пустые залы.
Я пригласил Лелю на медленный фокстрот – это иногда выходило у нас неплохо, – но Леля раздраженно поморщилась:
– Неудобно выступать первыми, подождем следующего танца.
Однако на следующий танец ее пригласил Бобка, и она без возражений встала и с ним пошла – я уверен, Леля не заметила моего приглашения, забыла о нем и нарочно обидеть не хотела (как бы ни относилась сейчас к Бобке), но меня взорвала именно ее забывчивость, и я по-детски дал себе слово никогда, никогда с Лелей не танцевать.
Мне оставалось на них смотреть и вдруг нечаянно открыть, какие оба они сияющие, как им удобно и подходит вместе и сидеть и танцевать. Я сделал и другое наблюдение, более для себя жестокое: лишь только они удалялись, сейчас же их объятие становилось неприлично-грубым и откровенным, и щека припадала к щеке (я даже ощутил за Бобку сладостную, бархатную нежность Лелиной кожи), приближаясь же ко мне, они, точно сговорившись, точно став сообщниками (меня всегда оскорбляет это любовное против всех сообщничество), ненадолго отстранялись, но у Лели в глазах был давно знакомый, необманывающий, какой-то затуманенный блеск, теперь казавшийся противным и неумолимым. От этой опасной, самой враждебной и чужой мне Лели, наконец осуществлявшей то именно, чего я с первого дня смутно и слепо ждал – как зачарованное животное, с покорным плачем влекущееся в раскрытую им западню, – от Лелиного жадного вызова, обращаемого к другому, на меня налетел забытый с давнего времени, похожий на детские кошмары, непреодолимый страх беззащитности – что я вязну, что не к кому обратиться, что никто не придет помочь. Боль, настоящая телесная боль – смена озноба и дурноты – теперь уже до меня дошла и проникла повсюду (в голову, в грудь, в живот), и еще другая, непередаваемая, боль – от невозможности с Лелей дальше сидеть или же встать и уйти, умолять ее или разругаться, от одинаковой неверности, гибельности каждого шага, каждого мне представляющегося положения. Бобка и Леля продолжали танцевать, требуя аплодисментами, чтобы музыка возобновлялась, и не замечая, как всё меньше остается танцующих. В середине одного танца Леля, улыбаясь, Бобку оттолкнула (что-то угадывалось совершенно для меня нестерпимое) и быстро прошла на свое место. Они говорили, точно не видя меня, нежно и весело – всё более по-сообщнически, – и всё более обострялись во мне страх беззащитности, непрестанный озноб и боль. Я уже не мог правильно додумывать и решать – мелькающие, укороченные мысли искали нового, прежде незамеченного в обоих моих спутниках и так внезапно проявившегося, но этого нового не находили: Бобка мне казался, как всегда, глуповато ухмыляющимся и лишь более обыкновенного красным, Леля же была разгоряченной, благодарно-довольной и очаровательной за двоих. Правда, вся она оставалась как бы наглухо от меня закрытой (я для нее отсутствовал, и она ни разу ко мне не обратилась, не заметила, что я, оскорбленный, с ней не танцую, не поняла подавленного моего молчания), однако же такую Лелю, захваченную жадным, темным волнением, замкнувшуюся и от меня ушедшую, я – по отдельным, уже показывавшимся признакам – отлично помнил и только не знал жестокого, обидного их соединения. Мелькали и другие разрозненные, изуродованные мысли – почему здесь Бобка (или же вся эта мука – для меня закон, моя неизбежность, и не в Бобке причина того, что произошло) и почему ни Леля, ни всякие около нас люди не хотят понять, что мы дружелюбно пришли втроем, что они двое точно вдруг сговорились мучить меня, третьего, что так по-человечески нельзя. Я старался также раскрыть причину неожиданного предпочтения: как бы высоко я себя ни ставил, как бы ни умилялся над своей жизненной стойкостью, над своей вдохновенной и нужной работой, я всегда внутренно отмечаю чужой успех, чужую надо мной победу и не ограничиваюсь отговоркой, что я сам презрительно отказываюсь бороться или же что являюсь жертвой непонятливости и несправедливости (вечная мания побежденных), нет, я бессознательно-упорно ищу то, чем победитель взял, чего у меня не хватило, и вот, глядя на Бобку, задыхаясь от безвыходности и неразрешимости каждого кусочка времени, от незнания, как с собой поступить и куда себя девать – теперь, дома, завтра, – я все-таки натолкнулся на подобие объяснения, на нечаянный вопрос, вдруг многое подсказавший – почему Бобка и Леля оба сияющие, а мы с Зинкой тусклые, и почему из нас четырех я один словно бы не знаю своего (около Зинки) места. Но раз подобие объяснения нашлось – пускай в законе соответствия внешнего (а не душевного, как мне бы того хотелось и как было бы всего справедливее), – я невольно выскочил из тупика (хотя бы головой – продолжая сердцем горевать) и мог соблюсти какое-то печальное достоинство, не напоминать о своей уязвимости и не добиваться жалости: ведь всё равно «закона» не изменить. Впрочем соблазна с Лелей разговаривать у меня даже и не появилось – из-за глухой преграды, внезапно между нами возникшей и такой, именно, у нас понятной: в дружбе двоих людей, где один другому почему-либо бывает подчинен (сын – матери, школьник – учителю, служащий – начальнику, любящий – нелюбящей), есть опасная минута начинающегося проявления власти, перехода от дружбы к власти, минута для подчиненного оскорбительная, тяжелая, непрощаемая – мне эта грубая перемена, этот конец привычной дружеской теплоты, новый повелительный тон, навязывание нового отношения даются непомерно тяжело, возбуждают долгую злопамятность, особенно с женщинами, особенно в сочетании «любящий – нелюбящая», и такая, как у Лели, произвольная жестокая перемена меня всегда лишает и смелости, и надежды договориться. До самого конца я Лелю так и не упрекнул, весь вечер упорно промолчал и выказал некоторую безукоризненность – там, в аллее, по неловкости и ненаходчивости, здесь, в зале, от страха, от обиды, пожалуй, и от продуманной безнадежности – среди разнообразных причин, эту случайную безукоризненность вызвавших, были и слабость моя, и сила.
Хотя я и знал (из прежнего схожего опыта), что всякая попытка с себя стряхнуть долгую горестную неподвижность провалится и только приведет (когда будет подмена обнаружена) к действительности, еще ухудшенной доказанным неумением из нее вырваться, – всё же и сидеть на месте, выслушивать нежные Лелины слова (прежде обращаемые ко мне и тогда блаженно-осмысленные, теперь же звучавшие для меня нелепо – из-за повторности, из-за перенесения их на Бобку), видеть ежеминутное Лелино и совсем ей не свойственное внимание к сопернику непонятно-ничтожному я больше не мог и не хотел, и ждал повода встать и отойти – правдоподобного, не резкого и не вызывающего. Я давно уже присматривался (с той незаметной для себя и, однако же, пытливой сосредоточенностью, с какой люди, казалось бы, поглощенные своим горем, видят и запоминают навсегда каждую внешнюю мелочь, ему сопутствующую) к русской нашей соседке, бледной и невеселой, я всё время собирался с нею танцевать, у меня даже появилась сомнительная надежда Лелю этим уязвить, но была опасность отказа, а за ним и моего разоблачения и бесспорной, окончательной безнадежности. Правда, хуже стать не могло, притом русская дама ободряюще мне улыбалась, и вот я решился – с чувством смертельного риска (быть может, и немного позируя) – тотчас же к ней подойти. Уже поднимаясь, покраснев от запоздалого своего обращения, я нерасчитанно-громко и слишком развязно сказал:
– Леля, вы не обидитесь, если я приглашу кого-нибудь танцевать – ну хотя бы нашу соседку.
– Ради Бога.
Русская дама, не колеблясь, по-дружески протянула руку, еще ласковее, точно достойному, странному и напрасно стесняющемуся приятелю, мне улыбнулся француз, который был рад ее развлечь и, по-видимому, обо мне, о нас троих с нею переговаривался – среди танца моя партнерша неожиданно и наивно-сочувственно спросила:
– Почему вы сидите такой грустный, а ваши друзья веселятся?
Танцевала она прекрасно, незаметно вела, слитая с каждым моим шагом (я сам танцую неровно – всегда в зависимости от дамы), поддаваясь каждому ускорению и капризу. Она казалась бескостной (в одно время и послушно-легкой, и по-балетному как-то устойчивой), я скользил вслед за ней, восхищаясь ее непрерывно-подсказывающей гибкостью, и был готов перенести свое восхищение на что угодно у нее другое, даже противоставить вялый ее разговор Лелиному, особенно сегодняшнему, столь мне враждебному, но именно в ее разговоре угадывалось что-то давным-давно известное и рядом с Лелей непоправимо-серое – институт, провинция, поверхностный лоск от Парижа. Пожалуй, вышло бы занимательным ее расспросить о подслушанной беседе в кафе у озера, о возмущенных моих догадках – если бы только Леля тогда с обычным вниманием меня выслушала, – но сейчас я боялся растерять последнее внешнее достоинство и решил ни во что не вдаваться, что напоминало бы мне об оскорбительном Лелином отчуждении. Когда же я, слишком умиленно поблагодарив и русскую даму и ее покровителя, взволнованный, вернулся к Леле (смутно надеясь, что всё вдруг переменится), она сидела, как прежде, чужая, разгоряченная, затуманенная, и, кажется, не отметила ни отсутствия моего, ни умышленных, неумеренных похвал новой моей знакомой.
Я отправился бродить по светлым пустынным залам и был остановлен у единственного, где играли, карточного стола декольтированной рыжей хозяйкой – она уговаривала меня играть, причем оказалась неглупой, но чересчур простой и откровенно-алчной: почему-то я вспомнил рыжую танцоршу в ресторане, где был вместе с Лелей и накануне ее приезда, и, сравнивая обеих ярко-соблазнительных женщин с Лелей, лишний раз убедился в чудесной ее незаменимости, теперь для меня потерянной и лишь понапрасну растравляющей и обессиливающей – и совсем обессилел, опустел, когда невольно сравнил тот первый наш вечер, и как танцорша сразу перед Лелей поблекла, и как я этому обрадовался, считая достигнутой или обеспеченной Лелину – хотя бы дружескую – любовь, и сегодняшний вечер, поворотный, безнадежный, незабываемый. Разговаривая с хозяйкой, издали я увидал Лелю и Бобку опять танцующими, и меня потянуло поближе к залу – но не в самый зал и не на свое место, – чтоб за ними незаметно и безопасно следить, не пропускать ни одного движения, ни одной значительной улыбки, добиться какой-то – несомненно горькой – правды и затем себе приказать: я больше не с Лелей, пускай она этого и не знает, и пускай ей это даже и безразлично – у меня именно так выйдет достойнее и умнее, и только так я добьюсь спокойствия. В сущности, основания для разрыва (если можно считать разрывом тайное, наедине с собою, решение, до которого Леле нет никакого дела и в котором ей было бы смешно признаваться) – основания для разрыва имелись достаточные, но еще у меня оставалась безвольная надежда, что я ошибся, что просто Лелю чем-нибудь рассердил, что она капризничает и завтра сделается прежней, если же я и переставал подобной бессмыслице верить, то всё же хотел – сознавая свое безволие – придраться к чему-то бесспорно-непростительному, чтобы и впоследствии не жалеть об ошибке, а сейчас в негодующем мучении найти силы разрыв осуществить – это значило бы не встречаться или же уехать из Парижа. Я стоял в комнате, продолжавшей танцевальный зал, среди некоторой сутолоки у буфета, и видел Лелю и Бобку то прямо перед собой, то отраженными в разных зеркалах, и сам как будто бы равнодушно пил бенедиктин или кюрасо – они подходили иногда близко, почти надвигались на меня, усталые, молчаливые, нежно друг к другу прижавшись, и пока ничего не было ни утешающего, ни бесспорно-плохого.
Мы возвращались домой по осенним улицам, напоминавшим нашу русскую дачную заброшенность, Леля и Бобка под руку, я, обиженный, чуть-чуть впереди, двумя-тремя словами указывая им дорогу. Кроме сдавленно-беззвучных моих указаний, ничего не говорилось, и мне представилось, что особенно упорно молчит именно Леля – вероятно, она и теперь и раньше изредка со мной заговаривала, но это было так недостаточно, так обидно-непохоже на то раскаяние, на то страстное опровержение, которое весь вечер смутно меня обнадеживало, что я словно бы не заметил, не услыхал безразличных ее слов. Как и у других людей, слабых или же чем-нибудь ослабленных, горестное мое внимание сосредоточилось не на общем (что Леля предпочитает мне Бобку), а на последней, второстепенной, правда, показательной мелочи – почему Леля сейчас, рядом со мной, зная несомненную мою задетость, твердо опирается на Бобкину руку, а не на мою, или – по-товарищески – не на его и мою вместе. Я рассуждал, по-видимому, справедливо, но для себя откровенно-унизительно: всё кончилось, Леля ушла, изменила, невольно меня предает, я готов допустить и принять всякое неизбежное зло, но зачем же она причиняет лишние, легко избежимые мучения? Эти болезненные, самоупивающиеся мои мысли неожиданно прервал Бобка вопросом несвоевременным, диким среди ответственно-важного нашего молчания:
– Да, я забыл тебе сказать, папе предложили интересное дело, ну, прямо для Дерваля. Но там еще должны «экзаминировать билан».
Не знаю, угадал ли Бобка нараставшую мою неприязнь или действительно вспомнил о возможных со мною делах, во всяком случае, мне показалось, будто он, победитель, жалостливо втягивает меня в разговор, и я разобиделся – больше всего на Лелю (вот до чего она довела) – и вместе с тем злорадно подумал, что Бобка осрамился, не мог не осрамиться, что смешны и его невежественно-офранцуженные слова, и всё несуразное его выступление, что Леля отлично это поняла, что такое ничтожество нельзя полюбить и нельзя к нему ревновать, я успокоился и только вздрогнул, подойдя к сонному нашему пансиону – ведь предстояла долгая еще ночь (как-то вылетевшая у меня из памяти) и бесчисленные опасения, знакомо-жестокие, по многу раз забываемые и возобновляющиеся, точно приступы медленной, иногда утихающей, но неизлечимой и ненавистной болезни. Сразу мелькнули схожие одно с другим, невыносимые о Леле воспоминания – давняя ревность моя к мужу (теперь показавшаяся совершенно ребяческой), Лелина, временами зловещая, остро-чувственная и от меня уводящая замкнутость, ее ослепительный женский блеск – и весь мой страх, всё во мне неопределенно-ревнивое, вся беззащитность (неизменногрустные последствия нашей любви и нелюбимости) вдруг воплотились в Бобке, ухмыляющемся, неуклюжем, всесильном, в глупых пансионских комнатах, в этой невероятной ночи, которую надо пережить (после уже не страшно – я изменюсь, забуду, убегу), которой, как мышеловкой, я внезапно схвачен, накрыт, по-жуткому отделен от помощи, так что не вырваться никуда от неминуемых издевательств и мучений.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































