Текст книги "Собрание сочинений. Том I"
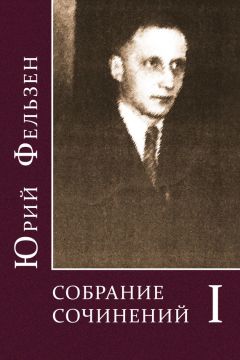
Автор книги: Юрий Фельзен
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 33 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
Я не мог встречу отложить, лишь только о ней подумал, и уже мчался в такси, удивляясь и своей нерасчетливости и неосновательности надежд, но в этом вздорном и поспешном моем поступке была, как сразу же оказалось, некоторая правота и осмысленность. Дерваль, скучающий среди работы, всегда готовый отвлечься, обрадованно мне улыбнулся – он любит посторонние со мной разговоры (о русской революции, о предполагаемых моих ухаживаниях), и вот, расспросив – словно бы понимая меня и для виду, для поколебленного моего достоинства – про какие-то очередные дела, вдруг, с тем же напряженным выражением лба и глаз, с каким спрашивал о делах, точно припомнив что-то, нам обоим необходимое, совсем естественно мне сказал: «Et votre amie, qu'est-ce qu’elle est devenue?».
По нескольким настойчивым вопросам он составил себе правильное представление и, как мне показалось, с полусопернической удовлетворенностью, понятной у старого, когда-то много нравившегося человека, мне по сочувствовал и стал утешать – что Леля «к нам» еще вернется и что теперь «мы» знаем, в чем дело, и уже ее не отпустим. Такая чрезмерная ответность предыдущим моим надеждам (поговорить о Леле, как бы выслушать оракула, как бы о ней погадать) меня даже несколько уязвила – лишнее доказательство того человеческого всеведения, той чужой проницательности, которая умаляет мою – по существу я был разговором утешен, и если по «джентльмэнской» привычке молчал, то улыбался достаточно понятливо. Пожалуй, Дерваль переиначил мое молчание, подумав, что зашел чересчур далеко в нарушении обязательной деликатности, и он упрямо застыл, как уже у него бывало после неосторожной, досадной болтовни.
Мое предчувствие о поездке к Дервалю, повторяю, было совсем не безрассудным: оживление прошлого, точность и сила припоминания зависят от какой-то его очаровательной нечаянности, представляются чудом, вдруг свалившимся и нам подаренным, и никакие искусственные наши усилия не могут так по-свежему прошлое восстановить, и даже повторное – всегда немного искусственное – освежение неизбежно слабее первоначального (сегодняшний пример: неожиданно полученная фотография, неожиданное письмо Катерины Викторовны, а не собственное Лелино – ее письма стали привычными и почти не волнуют), и если уже стараться найти, чем бы оживить прошлое или чем удержать ожившее, надо обращаться, как я обратился к Дервалю, к людям и случаям, еще не использованным.
В сущности, сегодняшнее чудо Лелиного как бы присутствия было поддержано и закреплено у Дерваля не обнадеживающими его словами, а одной удивительной мелочью, вначале едва не ускользнувшей и потом, весь день, связанной с Лелей и с чем-то для меня в ней успокоительно-милым и родным: у нее есть забавная способность улавливать чужие выражения, строй фразы, самые интонации, и так заражающе-внятно передавать, что они становятся доступным каждому образцом какого-то веселого подражания и с человеком, которому подражают, неразъединимы, и вот сегодня благодаря Дервалю я вспомнил, как Леля его высмеивала, и свое словно бы «подражание подражанию». Действительно, о моем «старичке» мы всегда говорили в шутливой манере, повторяя иные частые его фразы («топ cher, voila»), актерски-делеческий, отрывистый, повелительный тон перед всяким решающим объяснением (впрочем, эта повелительная торжественность никогда у него не удерживается) и странные, грудные, полулюбовные нотки, чтобы убедить в своей дружбе или в полезности какой-нибудь сделки человека особенно нужного. Дерваль своим голосом мне напомнил – в последовательности обратной и необычной – о Леле и о том, как она его высмеивала, напомнил с такой умилительной, вдруг по-старому счастливой свежестью, что ее хватило на целый день: мне стоило по-дервалевски наморщить лоб, победоносно взглянуть перед собой и оказать «топ cher, voila», чтобы сейчас же увидеть Лелю, играюще-серьезную, довольную моим смехом и уже со мной смеющуюся, благожелательную, как редко в последние месяцы, и, быть может, вопреки себе.
Вероятно желая всё это еще надежнее закрепить, я чуть не впервые неудержимо потянулся к музыке – музыкальные ощущения как-то особенно связаны с любовными и нам их немного заменяют, а прибавившись, смешавшись с ними, обостренно их усиливают: в музыке и в любви тот же облагораживающий отрыв от всего тщеславного и корыстного, та же бесстрашная жертвенная высота. Толчком к музыке оказалась случайно увиденная афиша о патетической симфонии Чайковского, и мне захотелось не откладывая услышать именно ее – оправдание давнишней Лелиной шутки. Я плохо в музыке разбираюсь, без чужих указаний совершенно беспомощен и все-таки – несамостоятельно, по чужой указке – ее люблю, только утомляюсь и быстро начинаю скучать. Шестую симфонию много раз уже слыхал, прочел всякие объяснения, поэтизирующие и вдохновляющие восприятие, и достиг некоторой его самостоятельности: для меня исчезли длинноты и новизна, всегда опасно расхолаживающие, и я могу непрерывно-знакомое звуковое течение как угодно к себе относить. Вторая и третья части симфонии мне кажутся законченными вещами, чуть-чуть легковесными и безделушечными, зато первая и последняя (возможно, с чужих слов, но внушение получилось прочное) меня поражают, как отзвук на что-то мое, пожалуй, самое близкое и страшное. Боясь усталости и скуки и вместе с тем потери сегодняшнего Лелиного появления, я решил не слушать ничего, кроме патетической симфонии, и действительно, она взволновала меня и подняла, как не всегда волновало Лелино присутствие, даже неожиданное, благожелательное и удачное. Я не переставал ясновидяще и углубленно знать, что Леля со мной или будет еще со мной, что нас должно сблизить, как я эту симфонию слушаю, как Леле когда-нибудь объясню и как она всю нашу кровную дружбу (через такую музыкальную связанность) поймет. Мне казалось, что в Лелиной помощи единственное спасение от того, каким я себе представляю – со страхом и безнадежностью – человеческое место и судьбу. У меня, как у каждого, свое, может быть, навязчивое и пустое, может быть, в чем-то достоверное видение: я вдруг представляю весь однородный, нам открывающийся свет – улицы, города, комнаты, ставших на задние лапы, поумневших зверей грустной и хищной породы, всё это устроивших и обреченных на исчезновение, но пытающихся уцепиться за что-нибудь постоянное и устойчивое и отогнать неизбежность смерти, придумавших сказки и теперь, когда эти сказки опровергнуты, безутешных – и для меня единственный способ защититься от страшной нашей судьбы – любовь, моя же любовь – Леля. Без любви мы впадаем в отупение или отчаяние, она прикрывает голую животную нашу сущность, с ужасом смерти, с напрасными попытками ухватиться за какую-то вечность, нам неведомую и нами же придуманную, даже остатки любви, даже такое музыкальное ее подобие нам придает видимость бесстрашия, достоинства и душевной смертельно-беспечной широты. Только любя, зная о любви, на любовь надеясь, мы вдохновенно и действенно заняты жизнью и можем прогнать самодовление мелких ежедневных забот или ожидание конца, и вот мой вывод, моя надежда – против всего недоверия, против опыта, против привычной, легко примиряющейся терпеливости: Леля должна полюбить – ради меня (я благодарно потеплел и, вздрогнув, впервые подумал – и ради себя), она не может меня бросить, ей передастся, как слабо воздействуют, как недостаточны и ускользают любовные мои остатки, как незаметно для нас обоих сделается слишком поздно. От огромного, тройного, напряжения – Лелиного весь день почти осязаемого присутствия, чьей-то предсмертной безысходной музыки и от собственной глупой горячки – я перестал сомневаться и начинаю обрадованно, облегченно считать, что Лелино вмешательство уже совершилось.
_______________________________
Глупая моя горячка еще продолжается: подталкиваемый навязчивыми ночными наблюдениями, я должен был вскочить с кровати, от торопливости записываю карандашом и, вероятно, завтра буду о записанном жалеть – оно наутро всегда оказывается и ложно-значительным и бесцельным, – но удержаться уже не могу. Первое такое наблюдение: я лег из-за жары поверх одеяла, нечаянно ощутил – одной об другую – разгоряченные свои ноги и вдруг вспомнил, как зимой у Лели раздевался в темноте, как стыдился оледеневших своих ног, долго их массируя и боясь Лели коснуться, и сейчас мне грустно сознавать, что вот пропадает сегодняшний вечер и вся эта напрасная, предназначенная Леле, живая моя теплота. Нечто смутно-похожее было у меня в детстве, когда на прогулке исчезла собака, любимая и опекаемая всей нашей семьей, и за каждым обедом я грустил – с оттенком такой же, как теперь, жадности к неиспользованному, – что зря пропадают лакомые косточки, нашей любимице предназначенные и уже никому не нужные.
Нет, мои наблюдения начались с другого: я вошел в комнату и увидел на столе в бумажке шоколад – обычно это уют, хозяйственность, «как у людей», надежда среди всей одинокости, сегодня же гораздо большее и до того стыдное, что лучше не писать. И правда, не буду писать: я нисколько с собой не кривляюсь и просто наперед уверен, что жирно перечеркну эти какие-то размягченные, недостойно-жалостные слова и что лишь испорчу страницы, Лелю воскрешающие и для перечитывания особенно привлекательные.
Часть третья15 сентября.
Поезд опоздал, и Леля, чуть коснувшись щекой моего подбородка (прикосновение было непередаваемо нежным и свежим), стала оживленно рассказывать, как перед самым вокзалом поезд остановили и заставили всех пассажиров показать бумаги (по-видимому, искали скрывшегося преступника), как весело и легко сошло путешествие, как ночью кто-то – ухаживая – ей уступил соседнее место, и она отдохнула и выспалась «лучше, удобнее, чем у себя дома»: почему-то люди, долго не видевшиеся, приготовившиеся слушать и говорить обо всем, поразительном, важном и новом, что у каждого из них произошло, неожиданно вовлекаются в разговор как раз о второстепенном и пустом, зато непосредственно предшествующем их встрече – может быть, это случайное и второстепенное просто живее в памяти, чем другое, давнее и важное, о котором так редко мы вспоминаем и в обычное, не разорванное долгой разлукой, однообразное и незаметное наше время, еще вероятнее – что мы бессознательно стараемся приноровиться к последнему состоянию вновь увиденного друга и столь же бессознательно приспособляем его к себе. И действительно, Леля (после первых незначащих фраз и совместных хлопот о багаже) вскоре, в такси, подъезжая к новому – более дорогому – своему отелю, словно бы только что меня найдя, вдруг убежденно и как-то растроганно сказала:
– Все-таки вы удивительно милый.
Сделалось сразу спокойнее: Леля со мной, и не надо пока бояться каждого ее слова, каждой улыбки, длительного молчания и всё это по-разному, как прежде, толковать – что, пожалуй, она раздражена и скрывает свое раздражение или же успокоилась, но лишь ненадолго мила. Кажется, наступил блаженнейший день награды, полагающейся попросту за какой-то срок дружбы, за мучения и радости какого-то промежутка времени, за то, что с Лелей уже бывало скверно и хорошо, что я месяцами преданно ее ждал, что случались у обоих и неверности, что имеется у нас достойная, разнородная, неподдельно своя «история». В этом непривычном и милом нашем товариществе многое для меня соединено: гордость за прошлое, за взаимное легкое понимание, за равенство в дружбе, и еще совсем другое – мой излюбленный неврастенический отдых после чего-то трудного и наконец достигнутого.
Когда устанавливается такое – требующее вдумчивости и спокойствия – и вправду, без придирок, невольно-спокойное соотношение, мы добрее и проще воспринимаем то самое, что при иных условиях нас уязвило бы и вызвало ссору: я еле отметил Лелино признание о деньгах, подаренных Сергеем Н. (он уехал на съемки в Америку), неуловимую в ней перемену от этой внезапной обеспеченности – планы на будущее, мысли о делах и о поездках, высказанные каким-то беспрекословным новым тоном, – я без малейшего осуждения принял, что Леля не раскаивается в помощи Сергея Н. и рада отсутствию забот, завтрашним дорогим платьям, полубарскому чистому отелю. Со странной непоследовательностью – может быть, от обычной смелой своей откровенности – Леля сообщила, обнадеживающе мне улыбнувшись, как было с Сергеем тяжело, когда окончательно выяснилось, что ладить они не могут, что им необходимо разойтись, и как Сергей – «после всего случившегося» – ее «конечно, не оставит в нужде». Я именно еле отметил – без настоящего искреннего порицания – не только Лелину какую-то беспечную неразборчивость, но и собственное при этом малодушие: ведь я как бы соглашался на чужие о Леле заботы, на мужскую, в сущности, любовную щедрость. Однако быстрое мое согласие не объяснялось какой-нибудь корыстной ленью (что я сам не должен о Леле заботиться – пишу совершенно честно, мне сейчас не надо ни позировать, ни оправдываться), я просто отказывался вдаваться во всё постороннее главной, понемногу раскрывавшейся и вдруг меня наполнившей очевидности: вот Леля со мною в одном городе и каждую минуту достижима – для живых ответов, для поцелуя руки или сладкого, будто бы нечаянного дотрагивания, для постоянного любования голосом, выбором слов, соучастием в душевной моей напряженности, всем жарко ощущаемым нашим соседством. В одном смысле я изменился – как-то мгновенно и безотчетно – в умении распоряжаться внутренней своей работой, направлять по своей воле разноценные дневные усилия: еще вчера я мог установить любое – самое ошеломительное – их чередование (откуда вся моя действенность, некоторый успех и непривычная скука), я без труда себя заставлял до такого-то часа воображать о Леле – всегдашний мой отдых и разряжение, – потом готовить деловой разговор или (что оказывалось всего тяжелее) придумывать вечернюю запись, вымучивать слова, находить нужный смысловой и ритмический их порядок, сегодня же я освежающе поглощен Лелиным упоительным присутствием, и нарочно его лишиться – ради чего угодно другого – было бы противоестественно и похоже на какое-то бесцельное самоистязание.
Я стараюсь иногда понять, в чем же существо такой, как у меня теперь, безоглядной всезабывающей поглощенности. Многие попытки ее объяснить (влечением, неизбежной борьбой, страхом потери) лишь говорят о первоначальном поводе, о том именно, что подобную нашу поглощенность может вызвать, поддержать, обострить, но ее существо, ее словно бы душа – в другом: женщина, которою мы так непомерно, так доверчиво заняты, становится невидимым, несознающим своей роли судьей наших поступков, разговоров и даже тайных, никому не выдаваемых решений, и мы вслепую берем ее взгляды (действительные или нами же приписанные), вернее, ее вкусы – то, что она с бессознательной уверенностью одобряет и хвалит, – по этим взглядам и вкусам меняем свои и настойчиво меняемся сами, причем одобрение нам нужно безоговорочное, ежеминутное, непрерывное, и мы, словно дикари своего божка, постоянно (и, конечно, мысленно) запрашиваем женщину, нехотя нас завоевавшую, о каждом – самом безразличном – пустяке, эта женщина незаметно делается какой-то полуотвлеченной нашей совестью, и вот, любовной, особенной, повышенно-уязвимой совестливостью, вызывающей в нас необыкновенную к себе самим требовательность, проникнута и оживлена (как в наивном сознании тело душой) любовная наша поглощенность, и нам необходимо, и тем даже необходимее быть одобренными, иметь чистую незапятнанную совесть, чем более силен и остер первоначальный повод, такую поглощенность вызвавший и ее раздувающий, всё равно какой – неизвестность, страх потери, борьба – один или несколько или все сразу. И теперь, добравшись до слов об этой удивительной любовной совести, превращающейся просто в совесть, я опять наталкиваюсь на предположение, для верующего человека произвольное и кощунственное, о возможности заменить что-то, потустороннее и будто бы незаменимое, здешней, всепроникающей человеческой любовью.
Вся эта необычно-высокая душевная моя настроенность, кажется, немного зависит от некоторой возвышенности отношений, теперь наметившихся у меня с Лелей – я ничего для себя не хочу, не расспрашиваю, не обвиняю (к чему так долго и злобно готовился), и мне странно-легко оставаться безучастным, нелюбопытным и терпеливым. Блаженная ясность первого дня была прервана совсем неожиданно.
Мы сидели вдвоем в кафе, откуда Леля, по чьему-то берлинскому поручению (как всегда добросовестная и аккуратная), собиралась звонить по телефону. Когда она поднялась, я шутливо-умоляюще на нее взглянул, точно прося мне позволить с нею вместе подойти к телефону и не остаться одному – прежде не допускались подобные «лишние вещи», но теперь, когда отношения стали необязывающими, неответственными, дружески-легкими, Лелины придирки ко всем таким – будто бы любовным – моим требованиям возникнуть уже не могли, и она, смеясь, одобрительно мне кивнула. Мы очутились – как бы взаперти – в крошечной темной будке, я вызвался Лелю соединить с нужным ей номером и этим скучно был занят, потом, добившись, освобожденный, вдруг увидал ее, нежно белеющую в темноте, совсем рядом с собой – почти вплотную и по-жуткому доступной, – и у меня появился тот загадочный горький страх, с которым в нас просыпается всё, когда-то любимое, затем подавленное или малодушно отложенное на бесконечный срок, и вот мною подавленное снова во мне ожило – сладость нашего с Лелей объятия, возможного нерасставания, верности, надежда крепко с нею договориться, какая-то выстраданная праведность смертельной моей любви. Мне представилось попросту нелепым Лелю не погладить, не тронуть рукой, не поцеловать, и низкопевучий ее голос разливался словно бы для меня одного и был глубже, значительнее тех безразлично-вежливых фраз, которые ей приходилось кому-то выкрикивать в телефон. Моей терпеливости пришел конец, Леля немедленно это угадала и, не сделав ни одного движения – среди продолжающегося телефонного разговора – растерянностью и недовольством – как-то обидно меня отрезвила. Тогда сразу вернулось мое полузабытое состояние отвергнутости, горечи, боли, и я лишь поразился точности совпадения – до чего близко совпали два столь разновременных моих состояния, два чувства обиды, прежнее, уже забываемое, и новое, острое – как будто меня освободили от душной хлороформенной маски и после нескольких минут сладкого свежего воздуха снова эту же маску надели. Подобной точности совпадения не бывает в словесной передаче, в прилежном намеренном припоминании, и это не раз уже меня озадачивало: я возвращаюсь всё к одному и тому же, около него кружусь и никак не могу выпутаться – почему искусственное восстановление прошлого (если только оно и настойчиво и добросовестно) часто бывает резче, сильнее того, что мы восстанавливаем, но остается всегда иным. Мы можем создать нечто еще не бывшее, приближающееся к бывшему и более, чем оно, лакомое для обостренного, избалованного нашего сознания, но этого бывшего не воссоздадим, а природа нам иногда прошлое возвращает во всей его очаровательной свежести и непрочности. Видя ошеломляющее различие – нечаянного, нам постороннего, воссоздавания и наших попыток такому воссоздаванию подражать, – я невольно задумался о каком-то, на нас идущем, потоке вечности, который от нас не пойдет, о том, что создаваемое нами неповторимо, единственно, исключительно и всё же не будет вечным – в этом и его острота, и его несвязанность с тусклой всесветной жизнью, и героическая его ненужность.
Мне пришлось основательно себя помучить, чтобы весь этот, вначале запутанный, ряд мыслей, возникших по столь второстепенному поводу – мимолетного испуга в телефонной будке, – но показавшихся мне довольно значительными, чтобы всё это до вечера отложить, затем, по дороге домой от Лели, припомнить, додумать упорядочить и поздно ночью – сейчас – записать, приучаясь (хотя бы в маленькой степени) к той душевной дисциплинированности, которая без Лели – от бедности, из-за отсутствия соблазнов и отвлечений – давалась легко, которая теперь почти невозможна, но без которой творчества нет. Во мне еще имеется какая-то сопротивляемость – остаток длительного равнодушия и тупой твердости, – и это выигрышно соответствует теперешней с Лелей сдержанности и нелюбопытству: вот почему я безболезненно-быстро поборол опасный наплыв надежд и еще более опасную горечь разочарования и отстраненности. Не считая этой минуты, день прошел довольно однородно – в умиляющей дружеской ясности – и как бы уничтожил возможность любовной нашей разделенности, к которой (тайно от себя и блаженно-уверенно) я больше всего готовился. Впрочем, такая возможность была целиком воображенной и достаточно неправдоподобной после всего дурного опыта с Лелей, лишний раз подтвердившего, что любви не навязать. Преувеличенные, бессмысленные эти надежды возникли, кажется, в Бланвиле, одном из тех целебных или дачных мест Нормандии, где строится казино, в будущем предполагается модный курорт, а пока дешево и немноголюдно, и где я провел в конце лета успокоительных две недели. После долгой привычки к городу, к вероятности ежеминутных развлечений (меня занимает всякая толпа, любая пара, любая молодая женщина в кафе, на улице, в метро), после необоснованного презрения к заграничной, будто бы безнадежно-чужой, природе, эти недели в Бланвиле оказались неожиданными и просто чарующими. Я приехал на авось, по чьей-то случайной указке, и, возбужденный, приподнятый первой же своей удачей – что устроился в приятном и удобно-выгодном пансионе, – сразу отправился бродить, по-неизбалованному, по-детски удивленно радуясь непривычной деревенской прогулке: в воздухе от недавнего дождя, от показавшегося, еще не назойливого солнца было какое-то играющее торжество блистательно-легких капелек (похожих на веселые слезы после неудержимого беззаботного смеха), торжество утомленности, освежения и чистоты – мне почему-то вспомнились жадные полные глотки остро-крепкой источниковой влаги. Я шел по дороге, невымощенной, грязной от дождя, весело наступая на голую, неподдельную землю (и только сожалея о туфлях, огрубевших, испачканных глиной), и вдруг смутно узнал что-то свое, далекое, давно оттесненное временем, разнородными чувствами и событиями. Мне захотелось побыть одному, не видеть людей, здешних, мешающих какому-то возврату моего прошлого, какому-то еще не определившемуся моему сосредоточенью – я торопливо миновал последнее у дороги здание, недостроенное пустое казино, с молчаливыми, неприязненными, в грязно-белых блузах, рабочими (казино было слева, справа – небольшое бледное озеро, откуда вода тонким слоем устремлялась через неровности, создавая неожиданные гремящие, трясущиеся, как студень, и мутно-скользкие водопадики), я уже никого не встречал и вскоре очутился в длинной темной аллее, из деревьев, расставленных в два прямых ряда, так близко расположенных, что получался высокий сплошной навес. У меня перед тем появилось ощущение, что вот сейчас войду в пещеру или в сарай, от всего отделенный и опасный – там действительно было, как в подземельи, одиноко, страшно и сыро, – но одиночество, бодрящий холодок, отсутствие людей, всегда осуждающих и препятствующих, помогали разрастаться какой-то приподнятости, начавшейся раньше и требовавшей немедленных действий, завоевательной яростной воли. Направо булькала, шумела, куда-то неслась водопадная желтая пена, слева от аллеи крутым подъемом возвышался лесок (на коротком пространстве, но такой дикий, заросший, густой, что, казалось, можно заблудиться) – я шел по гулкому твердому грунту (дождь, вероятно, из-за листьев сюда не проникал), по корням, напоминавшим гимнастические, для разбега и отталкивания, трамплины, и всё больше хотел с ловкостью, с силой оттолкнуться и куда-то понестись. Я стал взбираться на трудный крутой уступ, обрывая сучья и листья, сыпля песок, подбрасывая ногой – словно мячи – кусочки ссохшегося жесткого мха, и как-то весело, пьяно, страстно уверился, что ничего недостижимого нет. Подобно симфонии Чайковского, бескорыстное уединенное величие этого места меня перестраивало на свой лад, облагораживало, заставляло надеяться, что Леля поймет, не может не понять бескорыстности моего служения, готовности ее обогащать и не просить взамен, что лишь надо ей добраться до этого чудесного разоблачающего места и что я всем накопившимся здесь упорством сумею ее хотя бы насильно привести и окружу этой союзнической беспроигрышной обстановкой. Но вот, мысленно Лелю приведя, я забыл о бескорыстности своего служения и стал слишком для себя выгодно распоряжаться Лелиной судьбой: мне показалось легко осуществимым то самое чудо нерасставания, которое было для меня возможным лишь в браке – обычная наивность стареющего холостяка, – и я вообразил, нет, без колебаний счел обеспеченной нашу правильную и трогательную семейную жизнь – в добром товариществе по отдыху и работе, в согласных, не спорящих, как бы сливающихся разговорах, в достойной, редко высказываемой любви, с доверчивостью, с оправданной беззаботностью, с запиранием спальной на ключ (чтобы отгородиться от всего света), с нечастыми прогулками по этой лесной аллее, молитвенно обновляющими ясную нашу любовь. Быстрыми шагами (словно бы гнало меня разгоряченное, осчастливленное воображение) я вышел из аллеи и вернулся к озеру. Около него, на лужайке, вниз по скату, расположено было скромное загородное кафе – круглые столы на толстой деревянной ножке, складные стулья, посередине крошечный дом, где всё распределялось и готовилось – но, точно в заправском «tea-room’e», ловко бегали с подносами (правда, по траве) накрахмаленные девицы в чепцах и сидели люди, показавшиеся непривычно-нарядными после дикости и одиночества предыдущего моего часа – теперь я им обрадовался, как новым вдохновителям, как очевидцам надежд и недавно возникшей огромной радости, я уселся среди них, доброжелательно, почти по-дружески наблюдая, особенно сочувствуя тем, кого принимал за влюбленных молодых супругов, я с ними вместе наслаждался чарующим легким ветерком с озера, подставив лицо, закрыв глаза, деля свое наслаждение также и с Лелей, и вздрогнул, когда за поздним временем неожиданно пришлось рассчитываться: мне вдруг представилось, что я плачу за Лелю, забочусь о ней, что она рада такому дню, хвалит и мною горда. Вечером у себя в узенькой теплой комнате, с привезенными книгами, с целомудренной, немного жесткой кроватью, со стенами, пропускающими, передающими любой шум, я – от уверенности в долгой, давнишней, головокружительно-необходимой Лелиной близости – мог бы, кажется, распахнуть дверь и Лелю встретить, как после многих лет замужества, без требовательной страсти, точно надежного, никогда не обманывающего друга. Вот эту Бланвилевскую возможность любовной разделенности, верности, брака – самую дорогую и умилительную – я тайно от себя (прикрываясь тем, что знаю всю ее вымышленность) берег и разжигал, но с Лелиным приездом, с новой, присматривающейся, защитительной моей сдержанностью, эта возможность сразу отпала, слишком бесплотная, вышедшая не из действительности, а из каких-то призрачных, навеянных музыкой или природой, хотя бы и остро-возвышенных состояний и разрушившаяся от первого прикосновения настоящей жизни, от первых же мною услышанных живых Лелиных слов, и когда я пытался на поездке настаивать (сознание, как обыкновенно, немного запаздывало), то в моем уговаривании уже не было ни убедительности, ни тайной – для самого себя – правоты.
Сдержав свой первоначальный нерассуждающий пыл, я утерял героическую слепоту, иногда приводящую нас к последствиям совершенно непоправимым, и очутился в обычном состоянии осторожности, осмотрительности, боязливых расчетов – как быть с деньгами, как раздобуду на двоих, не лучше ли не мучиться и ничего не менять: я словно бы вынужденно отказался от всего, что уже считал своим – от разделенности, от крепкого долгого счастья, – если бы всё это и осуществилось, я бы немедленно стал терзаться страхом безденежья, ответственностью за Лелю, недостаточностью сделанного для нее, и столько жестоких опасений, постоянная жадная борьба превысили бы и вытеснили мою любовь. Мне и одному нередко представляется, будто я беспомощным и ненужным откуда-то выброшен на этот свет, и всякий успех, особенно денежный, мне кажется случайным и последним, и если деньги начинают уходить, я хотел бы сжаться до бедности, до самой позорной нищеты, пока непонятным, опять-таки последним чудом не появляются новые деньги – и вот жить столь шатко, думая еще и о Леле, о печальной ее зависимости от этой шаткой жизни, мне просто нестерпимо, у меня не хватает смелости и, пожалуй, не хватает бесстыдства. К тому же я знаю привычным, быстро смиряющимся чутьем, выработанным многими поражениями, что Леля, какая бы она ни была со мной ласковая и милая, уйдет, выскользнет от разделенности, что в степени, в полноте радости есть у меня предел – и это любовное благоразумие совпадает с благоразумием житейским.
Впрочем, некоторая осмотрительность проявилась у меня и в том, как я готовился Лелю встретить, и, точно жених или муж, освобождался перед ее приездом от «наскучивших холостых связей» – скорее даже неосмотрительность, а прямолинейное упрямство маниака, который добивается своего и, не видя наносимого зла, убирает очередные препятствия. Правда, «освобождение от холостых связей» – от Иды Ивановны и от недавно разболевшейся бедной Зинки – было для меня не только мелочью среди многих других, означавших и подготавливавших Лелин приезд, но и чем-то самостоятельно-приятным: я задолго до Лели грубо решил избавиться от обеих женщин, и мне лишь не хватало посторонней опоры для последних оскорбительных объяснений. Теперь такая опора – в Лелином приезде – найдена, и эти последние объяснения наконец произошли, причем оказались они жестокими, мне безразличными и как бы деловыми.
С Идой Ивановной развязаться было, конечно, проще: я знал и себя наперед настроил, что должен провести томительных десять минут, которые сразу забуду и после которых вернусь к приятным мыслям о Леле. На один миг явилось искушение – от какого-то расчетливого и, вероятно, глубокого моего корня – с Идой Ивановной не расходиться, избежать этих тягостных десяти минут. Леля не узнает о скрытом моем «романе», он же будет невольно передающимся противовесом, злорадной самозащитой, прежде недостававшей и столь необходимой при неравенстве отношений, при такой, как у меня, беспомощности перед Лелиной женской силой. Но часто головное во мне – от примеров, по которым я постепенно себя воспитал, от собственных достойных поступков и умиленной за них гордости – бывает благороднее действительной моей природы, и я именно головой назначил себе быть перед Лелей чистым и нерасчетливым, а с Идой Ивановной скучно объясниться и даже ей не посылать (что было бы всего удобнее) прощального письма, всегда пренебрежительного и как бы увольняющего в отставку. Головное мое благородство выражается также и в том, что я с обеими женщинами молчаливо (в пределах «джентльмэнства») откровенен и не оспариваю утверждений, будто влюблен я не в какую-нибудь из них, а в Лелю. Основываясь на таком, уже введенном и естественном тоне предельно допустимой откровенности, я решил Иде Ивановне просто объявить о скором Лелином приезде, заранее уверенный в степени впечатления, предоставляя ей самой высказать и сделать выводы. Я так и поступил и лишний раз убедился, до чего Ида Ивановна умеет быть незаметной, необременяющей, легкой и как не требует того же самого от меня.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































