Текст книги "Стихотворения"
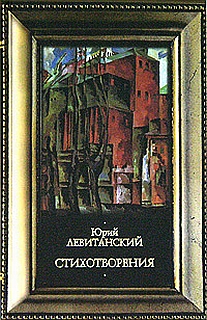
Автор книги: Юрий Левитанский
Жанр: Поэзия, Поэзия и Драматургия
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 5 страниц)
БЕРЕЗА
За стеною голоса
и звон посуды.
Доводящие до умопомраченья
разговоры за стеною,
пересуды
и дебаты философского значенья.
Видно, за полночь.
Разбужен поневоле,
я выскакиваю из-под одеяла.
Что мне снилось?
Мне приснилось чисто поле,
где-то во поле березонька стояла.
Я кричу за эту стену:
– Погодите!
Ветер во поле березу пригибает.
Одевайтесь, – говорю,-
и выходите,
где-то во поле береза погибает.
Пять минут, – кричу,-
достаточно на сборы.
Станем разом против ветра и мороза…-
Пересуды за стеною,
разговоры.
Замерзает где-то во поле береза.
Юрий Левитанский. Стороны света.
Москва: Советский писатель, 1959.
ПАМЯТИ РОВЕСНИКА
Мы не от старости умрем —
От старых ран умрем…
С. Гудзенко
Опоздало письмо.
Опоздало письмо.
Опоздало.
Ты его не получишь,
не вскроешь
и мне не напишешь.
Одеяло откинул.
К стене повернулся устало.
И упала рука.
И не видишь.
Не слышишь.
Не дышишь.
Вот и кончено все.
С той поры ты не стар и не молод,
и не будет ни весен,
ни лет,
ни дождя,
ни восхода.
Остается навеки
один нескончаемый холод —
продолженье
далекой зимы
сорок первого года.
Смерть летала над нами,
витала, почта ощутима.
Были вьюгою белой
оплаканы мы и отпеты.
Но война,
только пулей отметив,
тебя пощадила,
чтоб убить
через несколько лет
после нашей победы.
Вот еще один холмик
под этим большим небосклоном.
Обелиски, фанерные звездочки —
нет им предела.
Эта снежная полночь
стоит на земле
Пантеоном,
где без края могилы
погибших за правое дело.
Колоннадой тяжелой
застыли вдали водопады.
Млечный Путь перекинут над ними,
как вечная арка.
И рядами гранитных ступеней
уходят Карпаты
под торжественный купол,
где звезды мерцают неярко.
Сколько в мире холмов!
Как надгробные надписи скупы.
Это скорбные вехи
пути моего поколенья.
Я иду между ними.
До крови закушены губы.
Я на миг
у могилы твоей
становлюсь на колени.
И теряю тебя.
Бесполезны слова утешенья.
Что мне делать с печалью!
Мое поколенье на марше.
Но годам не подвластен
железный закон притяженья
к неостывшей земле,
где зарыты ровесники наши.
Юрий Левитанский. Стороны света.
Москва: Советский писатель, 1959.
Люблю осеннюю Москву...
Люблю осеннюю Москву
в ее убранстве светлом,
когда утрами жгут листву,
опавшую под ветром.
Огромный медленный костер
над облетевшим садом
похож на стрельчатый костел
с обугленным фасадом.
А старый клен совсем поник,
стоит, печально горбясь…
Мне кажется, своя у них,
своя у листьев гордость.
Ну что с того, ну что с того,
что смяты и побиты!
В них есть немое торжество
предчувствия победы.
Они полягут в чернозем,
собой его удобрят,
но через много лет и зим
потомки их одобрят,
Слезу ненужную утрут,
и в юном трепетанье
вся неоправданность утрат
получит оправданье…
Парит, парит гусиный клин,
за тучей гуси стонут.
Горит, горит осенний клен,
золою листья станут.
Ветрами старый сад продут,
он расстается с летом..
А листья новые придут,
придут за теми следом.
Юрий Левитанский. Стороны света.
Москва: Советский писатель, 1959.
В ОРУЖЕЙНОЙ ПАЛАТЕ
Не березы, не рябины
и не черная изба —
всё топазы, всё рубины,
всё узорная резьба.
В размышленья погруженный
средь музейного добра,
вдруг я замер,
отраженный
в личном зеркале Петра.
Это вправду поражало:
сколько лет ни утекло,
все исправно отражало
беспристрастное стекло —
серебро щитов и сабель,
и чугунное литье,
и моей рубахи штапель,
и обличие мое…
Шел я улицей ночною,
раздавался гул шагов,
и мерцало надо мною
небо тысячи веков,
И под этим вечным кровом
думал я, спеша домой,
не о зеркале Петровом —
об истории самой,
о путях ее негладких,
о суде ее крутом,
без опаски,
без оглядки
перед плахой и кнутом.
Это помнить не мешает,
сколько б лет ни утекло,-
все исправно отражает
неподкупное стекло!
Юрий Левитанский. Стороны света.
Москва: Советский писатель, 1959.
БЕЛЫЙ СНЕГ
В ожидании дел невиданных
из чужой страны
в сапогах, под Берлином выданных,
я пришел с войны.
Огляделся.
Над белым бережком
бегут облака.
Горожанки проносят бережно
куски молока.
И скользят,
на глаза на самые
натянув платок.
И скрежещут полозья санные,
и звенит ледок.
Очень белое все
и светлое —
ах, как снег слепит!
Начинаю житье оседлое —
позабытый быт.
Пыль очищена,
грязь соскоблена —
и конец войне.
Ничего у меня не скоплено,
все мое – на мне.
Я себя в этом мире пробую,
я вхожу в права —
то с ведерком стою над прорубью,
то колю дрова.
Растолку картофель отваренный —
и обед готов.
Скудно карточки отоварены
хлебом тех годов.
Но шинелка на мне починена,
нигде ни пятна.
Ребятишки глядят почтительно
на мои ордена.
И пока я гремлю,
орудуя
кочергой в печи,
все им чудится:
бьют орудия,
трубят трубачи.
Но снежинок ночных кружение,
заоконный свет —
словно полное отрешение
от прошедших лет.
Ходят ходики полусонные,
и стоят у стены
сапоги мои, привезенные
из чужой страны.
Юрий Левитанский. Стороны света.
Москва: Советский писатель, 1959.
БЕЛАЯ БАЛЛАДА
Снегом времени нас заносит – все больше белеем.
Многих и вовсе в этом снегу погребли.
Один за другим приближаемся к своим юбилеям,
белые, словно парусные корабли.
И не трубы, не марши, не речи, не почести пышные.
И не флаги расцвечиванья, не фейерверки вслед.
Пятидесяти орудий залпы неслышные.
Пятидесяти невидимых молний свет.
И три, навсегда растянувшиеся, минуты молчанья.
И вечным прощеньем пахнущая трава.
…Море Терпенья. Берег Забвенья. Бухта Отчаянья.
Последней Надежды туманные острова.
И снова подводные рифы и скалы опасные.
И снова к глазам подступает белая мгла.
Ну, что ж, наше дело такое – плывите, парусные!
Может, еще и вправду земля кругла.
И снова нас треплет качка осатанелая.
И оста и веста попеременна прыть.
…В белом снегу, как в белом тумане, флотилия белая.
Неведомо, сколько кому остается плыть.
Белые хлопья вьются над нами, чайки летают.
След за кормою, тоненькая полоса.
В белом снегу, как в белом тумане, медленно тают
попутного ветра не ждущие паруса.
Советская поэзия. В 2-х томах.
Библиотека всемирной литературы. Серия третья.
Редакторы А.Краковская, Ю.Розенблюм.
Москва: Художественная литература, 1977.
СОН О РОЯЛЕ
Я видел сон – как бы оканчивал
из ночи в утро перелет.
Мой легкий сон крылом покачивал,
как реактивный самолет.
Он путал карты, перемешивал,
но, их мешая вразнобой,
реальности не перевешивал,
а дополнял ее собой.
В конце концов, с чертами вымысла
смешав реальности черты,
передо мной внезапно выросло
мерцанье этой черноты.
Как бы чертеж земли, погубленной
какой-то страшною виной,
огромной крышкою обугленной
мерцал рояль передо мной.
Рояль был старый, фирмы Беккера,
и клавишей его гряда
казалась тонкой кромкой берега,
а дальше – черная вода.
А берег был забытым кладбищем,
как бы окраиной его,
и там была под каждым клавишем
могила звука одного.
Они давно уже не помнили,
что были плотью и душой
какой-то праздничной симфонии,
какой-то музыки большой.
Они лежали здесь, покойники,
отвоевавшие свое,
ее солдаты и полковники,
и даже маршалы ее.
И лишь иной, сожженный заживо,
еще с трудом припоминал
ее последнее адажио,
ее трагический финал.
Но вот, едва лишь тризну справивший,
еще не веря в свой закат,
опять рукой коснулся клавишей
ее безумный музыкант.
И поддаваясь искушению,
они построились в полки,
опять послушные движению
его играющей руки.
Забыв, что были уже трупами,
под сенью нотного листа
они за флейтами и трубами
привычно заняли места.
Была безоблачной прелюдия.
Сперва трубы гремела медь.
Потом пошли греметь орудия,
пошли орудия греметь.
Потом пошли шеренги ротные,
шеренги плотные взводов,
линейки взламывая нотные,
как проволоку в пять рядов.
Потом прорыв они расширили,
и пел торжественно металл.
Но кое-где уже фальшивили,
и кто-то в такт не попадал.
Уже все чаще они падали.
Уже на всю вторую часть
распространился запах падали,
из первой части просочась.
И сладко пахло шерстью жженною,
когда, тревогой охватив,
сквозь часть последнюю, мажорную,
пошел трагический мотив.
Мотив предчувствия, предвестия
того, что двигалось сюда,
как тема смерти и возмездия
и тема Страшного суда.
Кончалась музыка и корчилась,
в конце едва уже звеня.
И вскоре там, где она кончилась,
лежала черная земля.
И я не знал ее названия —
что за земля, что за страна.
То, может быть, была Германия,
а может быть, и не она.
Как бы чертеж земли, погубленной
какой-то страшною виной,
огромной крышкою обугленной
мерцал рояль передо мной.
И я, в отчаянье поверженный,
с тоской и ужасом следил
за тем, как музыкант помешанный
опять к роялю подходил.
Строфы века. Антология русской поэзии.
Сост. Е.Евтушенко.
Минск, Москва: Полифакт, 1995.
КИНЕМАТОГРАФ
Это город. Еще рано. Полусумрак, полусвет.
А потом на крышах солнце, а на стенах еще нет.
А потом в стене внезапно загорается окно.
Возникает звук рояля. Начинается кино.
И очнулся, и качнулся, завертелся шар земной.
Ах, механик, ради бога, что ты делаешь со мной!
Этот луч, прямой и резкий, эта света полоса
заставляет меня плакать и смеяться два часа,
быть участником событий, пить, любить, идти на дно…
Жизнь моя, кинематограф, черно-белое кино!
Кем написан был сценарий? Что за странный фантазер
этот равно гениальный и безумный режиссер?
Как свободно он монтирует различные куски
ликованья и отчаянья, веселья и тоски!
Он актеру не прощает плохо сыгранную роль —
будь то комик или трагик, будь то шут или король.
О, как трудно, как прекрасно действующим быть лицом
в этой драме, где всего-то меж началом и концом
два часа, а то и меньше, лишь мгновение одно…
Жизнь моя, кинематограф, черно-белое кино!
Я не сразу замечаю, как проигрываешь ты
от нехватки ярких красок, от невольной немоты.
Ты кричишь еще беззвучно. Ты берешь меня сперва
выразительностью жестов, заменяющих слова.
И спешат твои актеры, все бегут они, бегут —
по щекам их белым-белым слезы черные текут.
Я слезам их черным верю, плачу с ними заодно…
Жизнь моя, кинематограф, черно-белое кино!
Ты накапливаешь опыт и в теченье этих лет,
хоть и медленно, а все же обретаешь звук и цвет.
Звук твой резок в эти годы, слишком грубы голоса.
Слишком красные восходы. Слишком синие глаза.
Слишком черное от крови на руке твоей пятно…
Жизнь моя, начальный возраст, детство нашего кино!
А потом придут оттенки, а потом полутона,
то уменье, та свобода, что лишь зрелости дана.
А потом и эта зрелость тоже станет в некий час
детством, первыми шагами тех, что будут после нас
жить, участвовать в событьях, пить, любить, идти на дно…
Жизнь моя, мое цветное, панорамное кино!
Я люблю твой свет и сумрак – старый зритель, я готов
занимать любое место в тесноте твоих рядов.
Но в великой этой драме я со всеми наравне
тоже, в сущности, играю роль, доставшуюся мне.
Даже если где-то с краю перед камерой стою,
даже тем, что не играю, я играю роль свою.
И, участвуя в сюжете, я смотрю со стороны,
как текут мои мгновенья, мои годы, мои сны,
как сплетается с другими эта тоненькая нить,
где уже мне, к сожаленью, ничего не изменить,
потому что в этой драме, будь ты шут или король,
дважды роли не играют, только раз играют роль.
И над собственною ролью плачу я и хохочу.
То, что вижу, с тем, что видел, я в одно сложить хочу.
То, что видел, с тем, что знаю, помоги связать в одно,
жизнь моя, кинематограф, черно-белое кино!
Советская поэзия. В 2-х томах.
Библиотека всемирной литературы. Серия третья.
Редакторы А.Краковская, Ю.Розенблюм.
Москва: Художественная литература, 1977.
ЯЛТИНСКИЙ ДОМИК
Вежливый доктор в старинном пенсне и с бородкой,
вежливый доктор с улыбкой застенчиво-кроткой,
как мне ни странно и как ни печально, увы —
старый мой доктор, я старше сегодня, чем вы.
Годы проходят, и, как говорится, – сик транзит
глория мунди, – и все-таки это нас дразнит.
Годы куда-то уносятся, чайки летят.
Ружья на стенах висят, да стрелять не хотят.
Грустная желтая лампа в окне мезонина.
Чай на веранде, вечерних теней мешанина.
Белые бабочки вьются над желтым огнем.
Дом заколочен, и все позабыли о нем.
Дом заколочен, и нас в этом доме забыли.
Мы еще будем когда-то, но мы уже были.
Письма на полке пылятся – забыли прочесть.
Мы уже были когда-то, но мы еще есть.
Пахнет грозою, в погоде видна перемена.
Это ружье еще выстрелит – о, непременно!
Съедутся гости, покинутый дом оживет.
Маятник медный качнется, струна запоет…
Дышит в саду запустелом ночная прохлада.
Мы старомодны, как запах вишневого сада.
Нет ни гостей, ни хозяев, покинутый дом.
Мы уже были, но мы еще будем потом.
Старые ружья на выцветших старых обоях.
Двое идут по аллее – мне жаль их обоих.
Тихий, спросонья, гудок парохода в порту.
Зелень крыжовника, вкус кисловатый во рту.
1976
Юрий Левитанский. Когда-нибудь после меня.
Поэтическая библиотека.
Москва: Изд-во Х.Г.С., ГФ Полиграфресурсы, 1998.
ЧЕЛОВЕК, СТРОЯЩИЙ ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ
Он лежит на траве
под сосной
на поляне лесной
и, прищурив глаза,
неотрывно глядит в небеса —
не мешайте ему,
он занят,
он строит,
он строит воздушные замки.
Галереи и арки,
балконы и башни,
плафоны,
колонны,
пилоны,
пилястры,
рококо и барокко,
ампир
и черты современного стиля,
и при всем
совершенство пропорций,
изящество линий —
и какое богатство фантазии,
выдумки, вкуса!
На лугу,
на речном берегу,
при луне,
в тишине,
на душистой копне,
он лежит на спине
и, прищурив глаза,
неотрывно глядит в небеса —
не мешайте,
он занят,
он строит,
он строит воздушные замки,
он весь в небесах,
в облаках,
в синеве,
еще масса идей у него в голове,
конструктивных решений
и планов,
он уже целый город воздвигнуть готов,
даже сто городов —
заходите, когда захотите,
берите,
живите!
Он лежит на спине,
на дощатом своем топчане,
и во сне,
закрывая глаза,
все равно продолжает глядеть в небеса,
потому что не может не строить
своих фантастических зданий.
Жаль, конечно,
что жить в этих зданьях воздушных,
увы, невозможно,
ни мне и ни вам,
ни ему самому,
никому,
ну, а все же,
а все же,
я думаю,
нам не хватало бы в жизни чего-то
и было бы нам неуютней на свете,
если б не эти
невидимые сооруженья
из податливой глины
воображенья,
из железобетонных конструкций
энтузиазма,
из огнем обожженных кирпичиков
бескорыстья
и песка,
золотого песка простодушья,—
когда бы не он,
человек,
строящий воздушные замки.
1976
Юрий Левитанский. Когда-нибудь после меня.
Поэтическая библиотека.
Москва: Изд-во Х.Г.С., ГФ Полиграфресурсы, 1998.
Вдали полыхнула зарница...
Вдали полыхнула зарница.
Качнулась за окнами мгла.
Менялась погода —
смениться
погода никак не могла.
И все-таки что-то менялось.
Чем дальше, тем резче и злей
менялась погода,
менялось
строенье ночных тополей.
И листьев бездомные тени,
в квартиру проникнув извне,
в каком-то безумном смятенье
качались на белой стене.
На этом случайном квадрате,
мятежной влекомы трубой,
сходились несметные рати
на братоубийственный бой.
На этой квадратной арене,
где ветер безумья сквозил,
извечное длилось боренье
издревле враждующих сил.
Там бились, казнили, свергали,
и в яростном вихре погонь
короткие сабли сверкали
и вспыхивал белый огонь.
Там, памятью лета томима,
томима всей памятью лет,
последняя шла пантомима,
последний в сезоне балет.
И в самом финале балета,
его безымянный солист,
участник прошедшего лета,
последний солировал лист.
Последний бездомный скиталец
шел по полю, ветром гоним,
и с саблями бешеный танец
бежал задыхаясь за ним.
Скрипели деревья неслышно.
Качалась за окнами мгла.
И музыки не было слышно,
но музыка все же была.
И некто
с рукою, воздетой
к невидимым нам небесам,
был автором музыки этой,
и он дирижировал сам.
И тень его палочки жесткой,
с мелодией той в унисон,
по воле руки дирижерской
собой завершала сезон…
А дальше
из сумерек дома,
из комнатной тьмы выплывал
рисунок лица молодого,
лица молодого овал.
А дальше,
виднеясь нечетко
сквозь комнаты морок и дым,
темнела короткая челка
над спящим лицом молодым.
Темнела, как венчик терновый,
плыла, словно лист по волнам.
Но это был замысел новый,
покуда неведомый нам.
1976
Юрий Левитанский. Когда-нибудь после меня.
Поэтическая библиотека.
Москва: Изд-во Х.Г.С., ГФ Полиграфресурсы, 1998.
ГОДЫ
Годы двадцатые и тридцатые,
словно кольца пружины сжатые,
словно годичные кольца,
тихо теперь покоятся
где-то во мне,
в глубине.
Строгие годы сороковые,
годы,
воистину
роковые,
сороковые,
мной не забытые,
словно гвозди, в меня забитые,
тихо сегодня живут во мне,
в глубине.
Пятидесятые,
шестидесятые,
словно высоты, недавно взятые,
еще остывшие не вполне,
тихо сегодня живут во мне,
в глубине.
Семидесятые годы идущие,
годы прошедшие,
годы грядущие
больше покуда еще вовне,
но есть уже и во мне.
Дальше – словно в тумане судно,
восьмидесятые —
даль в снегу,
и девяностые —
хоть и смутно,
а все же представить еще могу,
Но годы двухтысячные
и дале —
не различимые мною дали —
произношу,
как названья планет,
где никого пока еще нет
и где со временем кто-то будет,
хотя меня уже там не будет.
Их мой век уже не захватывает —
произношу их едва дыша —
год две тысячи —
сердце падает
и замирает душа.
1976
Юрий Левитанский. Когда-нибудь после меня.
Поэтическая библиотека.
Москва: Изд-во Х.Г.С., ГФ Полиграфресурсы, 1998.
Примечание: Потому что эти произведения взяты из других источников, я не ручаюсь за их достоверность. Выверенные тексты находятся выше.
СКВОЗЬ ГОДЫ
Прохожу по рынку,
словно иду сквозь годы.
– Молодой человек, —
окликают меня
в цветочном ряду, – вот, пожалуйста, —
замечательные хризантемы!
– Мужчина, —
взывает ко мне продавщица фруктов, —
посмотрите, какие персики,
специально дня вас!
– Папаша, —
вопрошает меня
девица,
торгующая овощами, —
не желаете ли капустки
для свеженьких щец?
А паренек по соседству
кричит мне
чуть не в самое ухо:
– Дедуля,
укропчика не забудьте,
петрушечки
не забудьте купить!
И я малодушно,
едва ль не бегом,
возвращаюсь туда,
где продают ненужные мне
хризантемы,
в тайной надежде
снова услышать —
молодой человек,
молодой человек!
Источник: Клуб Холостяков
ИРИНЕ
Зачем послал тебя Господь
и в качестве кого?
Ведь ты не кровь моя, не плоть
и, более того,
ты даже не из этих лет —
ты из другого дня.
Зачем послал тебя Господь
испытывать меня
и сделал так, чтоб я и ты-
как выдох и как вдох —
сошлись у края, у черты,
на стыке двух эпох,
на том незримом рубеже,
как бы вневременном,
когда ты здесь, а я уже
во времени ином,
и сквозь завалы зим и лет,
лежащих впереди,
уже кричу тебе вослед —
постой, не уходи!
сквозь полусон и полубред —
не уходи, постой! —
еще вослед тебе кричу,
но ты меня не слышишь.
Источник: Клуб Холостяков
Остановилось время. Шли часы...
Остановилось время. Шли часы,
а между тем остановилось время,
и было странно слышать в это время,
как где-то еще тикают часы.
Они еще стучали, как вчера,
меж тем как время впрямь остановилось,
и временами страшно становилось
от мерного тиктаканья часов.
Еще скрипели где-то шестерни,
тяжелые постукивали стрелки,
как эхо арьергардной перестрелки
поспешно отступающих частей.
Еще какой-то колокол гудел,
но был уже едва ль не святотатством
в тумане над Вестминстерским аббатством
меланхолично плывший перезвон.
Стучали падуанские часы,
и педантично Страсбургcкие
били, и четко нас на четверти дробили
Милана мелодичные часы.
Но в хоре этих звучных голосов
был как-то по-особенному страшен
не этот звон, плывущий с древних башен
по черепицам кровель городских —
но старые настенные часы,
в которых вдруг оконце открывалось,
и из него так ясно раздавалось
лесное позабытое ку-ку.
Певунья механическая та
зрачками изумленными вращала
и, смыслу вопреки, не прекращала
смешного волхвованья своего.
Она вела свой счет моим годам,
и путала,
и начинала снова,
и этот звук пророчества лесного
всю душу мне на части разрывал.
И я спросил у Фауста:
– Зачем,
на целый мир воскликнув громогласно:
«Остановись, мгновенье, ты прекрасно!»,
забыли вы часы остановить?
И я спросил у Фауста:
– К чему,
легко остановив движенье суток,
как некий сумасбродный предрассудок,
вы этот звук оставили часам?
И Фауст мне ответил:
– О mein Herr,
живущие во времени стоящем
не смеют знать о миге предстоящем
и этих звуков слышать не должны.
К тому же все влюбленные, mein Freund,
каким-то высшим зреньем обладая,
умеют жить, часов не наблюдая.
А вы, mein Herz, видать, не влюблены?!
И что-то в этот миг произошло.
Тот старый плут, он знал, куда он метил.
И год прошел —
а я и не заметил.
И пробил час
– а я не услыхал.
Источник: Клуб Холостяков
Есть в музыке такая неземная...
Есть в музыке такая неземная,
как бы не здесь рожденная печаль,
которую ни скрипка, ни рояль
до основанья вычерпать не могут.
И арфы сладкозвучная струна
или органа трепетные трубы
для той печали слишком, что ли, грубы
для той безмерной скорби неземной.
Но вот они сошлись, соединясь
в могучее сообщество оркестра,
и палочка всесильного маэстро,
как перст судьбы, указывает ввысь.
Туда, туда, где звездные миры,
и нету им числа и нет предела.
О, этот дирижер – он знает дело.
Он их в такие выси вознесет!
Туда, туда, все выше, все быстрей,
где звездная неистовствует фуга…
Метет метель. Неистовствует вьюга.
Они уже дрожат. Как их трясет!
Как в шторм девятибальная волна,
в беспамятстве их кружит и мотает,
и капельки всего лишь не хватает,
чтоб сердце, наконец, разорвалось.
Но что-то остается там на дне,
и плещется в таинственном сосуде,
остаток, тот осадок самой сути,
ее безмерной скорби неземной.
И вот тогда, с подоблачных высот,
той капельки владетель и хранитель,
нисходит инопланетянин Моцарт
и нам бокал с улыбкой подает:
и можно до последнего глотка
испить ее, всю горечь той печали,
чтоб чуя уже холод за плечами,
вдруг удивиться – как она сладка!
Источник: Клуб Холостяков
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































