Текст книги "Ушли, чтобы остаться"
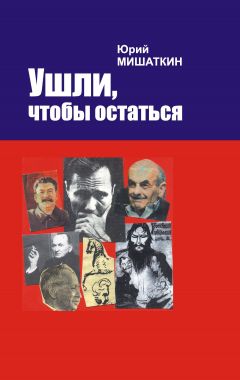
Автор книги: Юрий Мишаткин
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 52 страниц) [доступный отрывок для чтения: 17 страниц]
Не плачь, моя жалейка
1
Ранней весной, когда над полями, колыхая воздух, поднялся теплый пар, по проулкам Кураполья побежали мутные ручьи талого снега, вновь зажаловалась жалейка. Пение дудочки было настолько печальным, что даже самые улыбчивые стали хмурыми.
Конюх Иван Авилов поднял черный от дратвы палец, приложил ладонь к уху:
– Точно душу наизнанку выворачивает! Будто за упокой играет, еще немного – и слезами обольешься, сил нет такое слушать!
Жена Степанида перестала выбирать из бочонка квашеную капусту, а Иван продолжал:
– Всю зиму, слава богу, помалкивала, думал уж угомонилась, не услышу больше дудки, ан нет, снова точно по нервам саднит. Надо отнять жалейку.
– Дите ведь, чего с такой взять? – спросила Степанида. – К тому же судьбой обижена, материнской лаской обделена – сиротство не сахар.
– Какая же сирота при живой матери? – не согласился Иван. – Нет Лизке прощения, настоящая кукушка! Подбросила дитя матери-старухе, которая на ладан дышит, и грехам в городе предается! – он шагнул к плетню, крикнул через улицу: – Евдотья, уйми свою, прошу в последний раз! Настанет конец терпению – сломаю жалейку, а внучку отлуплю вожжами!
Степанида усмехнулась, зная характер мужа: тот бывал строг, но чтоб поднять руку на кого-нибудь, тем более на девчушку, пугал напрасно.
Предупреждение возымело действие – жалейка умолкла. Когда же Иван ушел на конюшню, а Степанида на ферму ворошить силос, из соседнего скособоченного дома, где грачи повыдергивали с крыши солому, вышла длинноногая девчонка в застиранном платьице, еле достающем до острых коленок, в разношенных взрослых галошах на босу ногу. Придышалась к пахнущему свежей сыростью воздуху, зажмурилась на еще холодное солнце, утерла рукавом нос и поднесла к губам камышовую трубочку, выдула щемящий душу звук, похожий на плач.
Собачонка, которая по щенячьему неразумию ошалело и бесцельно носилась по проулку, замерла, подняла голову и завыла, отчего завфермой Мокей чертыхнулся, дернул себя за неумело подстриженную бороденку, сплюнул под ноги.
Так происходило каждую весну. Стоило просинеть равнодушному небу, появиться над Курапольем стаям птиц, как внучка старой Евдотьи принималась дудеть в дудочку-жалейку, и по этой причине малолетку прозвали Жалейкой, забыв, что девочка награждена иным именем.
Кроме глуховатой бабки у Жалейки была мать, но о ней Евдотья с внучкой давно не имели вестей. Последний раз почтовый перевод на сто рублей поступил минувшей осенью, сама Лиза побывала в селе шесть с лишним лет назад, сразу же после случившегося на свинарнике пожара.
– Давненько не заявлялась, – не выказала радости появлению дочери Евдотья. – С чего бы вдруг объявилась?
Лиза повела плечом, притронулась вспотевшей ладонью к заметно округлившемуся животу:
– Разве не видно? По нашему бабьему делу. Тут разрожусь, где все знакомо: в родных краях и хлебушек с водицей слаще, и родить легче.
Евдотья ничего больше не спросила. К вечеру по Кураполью из дома в дом пронеслась весть, что Лизка, которую все знали пацаненкой, прибыла скрыть грех, неизвестно от кого понесла, вроде и самой это не ведомо. Одна давнишняя подружка захотела утолить понятное любопытство, задала Лизе вопрос про отца будущего ребенка – кто он, откуда, обещал ли жениться, признать будущее дитя, но ответов не получила и обиделась, надула губы.
Спустя месяц Лиза произвела на свет девочку, настолько тихую, что в роддоме врачи с медсестрами решили, что дитя не жилец на этом свете. Но минула неделя, другая, и персонал роддома перестал опасаться за жизнь новорожденной.
Вернувшись к матери, Лиза пристроила дочь в ясли, сама пошла работать на ферму, где прежде трудилась Евдотья и сама Лиза после окончания восьмилетки. Работа не заладилась: Лиза разругалась с директором совхоза, взяла расчет и укатила обратно в город. Некоторое время Евдотья по-прежнему относила внучку в ясли, затем посчитала, что это не по карману и стала кормить да растить сама.
В первый год жизни Жалейки из города поступали денежные переводы, в письмах Лиза интересовалась дочкой, позже сельский почтальон стал обходить стороной дом под растрепанной ветрами, дождями, пролетными птицами крышей.
Изредка Евдотья зазывала к себе кого-либо из грамотных, усаживала за стол, доставала со дна сундука короткие письма дочери, просила почитать. Внимательно слушала, шамкала беззубым ртом, точно что-то пережевывала, ждала, что Лиза сообщит, когда заберет малышку. Но вместо этого который раз гость читал жалобы на осточертевшее житье в фабричном общежитии, денежные затруднения.
– Как-нибудь уж, – говорила не гостю, а себе Евдотья, прятала письма в сундук под стопку белья, которое приготовила на случай смерти.
По старости Евдотья ушла с фермы, жила на скромную пенсию, радуясь, когда назначалась прибавка, удавалось подработать, наторговать лечебными травами, собираемыми по лугам, в лесу. Их старушка сушила, относила по праздникам на рынок. Подспорьем были и веники, которые наполняли тесный домишко терпким запахом – веники шли лучше трав. Вырученные деньги уходили на приобретение обновок для внучки, и старушка не переставала удивляться, как Жалейка быстро вырастает из одежды, еще не сношенной. Частенько односельчане звали копать картошку, за работу платили не деньгами, а мешком клубней.
В дни пенсии в скособоченном доме наступал праздник. Бабка с внучкой готовили ватрушки, варили не пустой суп, лакомились колбасой и на сладкое лимонадом, который в сельмаг привозили из города.
– Коль ты бабка-одиночка, сама ребенка растишь, то положено пособие, – посоветовал однажды Иван Авилов. – Иди к начальству совхоза, пусть даст указание, чтоб выписали сотню-другую.
Евдотья поблагодарила за совет, но никуда не пошла, помня, с каким скандалом увольнялась Лизка – у дочери померло трое телят, да и какая она одиночка, ежели растит на радость родную кровинушку?
Свою очередную, шестую зиму девочка вновь просидела в четырех стенах – ботинки поизносились, стали протекать, новую обувку решено было приобрести ближе к лету.
В первый после морозов, метелей, снежных заносов теплый денек девочка вышла за калитку, собралась пройти к клубу, но на пути встали мальчишки.
– Тю, чистый скелет! – сказал один, другой добавил:
– Не видел такую худобу! А веснушек столько, что не сосчитать!
– Без мамки живет и еще без папки! – заявил третий, и трое хором задразнились:
– Безмамкина, беспапкина!
Злые слова больно ударили девочку, точно отхлестали по щекам. Жалейка затравленно отступила, прижалась к изгороди и долго бы так стояла, словно зверек, глядя на гогочущих мальчишек, но появился Иван Авилов.
– Цыц, байструки! Ишь обрадовались – все на одну! – конюх схватил первого подвернувшегося мальчишку. – Еще раз услышу паскудство, отлуплю как сидорову козу, век станете помнить, как малую обижать. Чешите подальше, пока уши не открутил!
Мальчишки припустились сломя голову.
Авилов собрался подбодрить Жалейку, сказать что-то ласковое, но не отыскал нужных слов и двинулся к конторе, косолапо передвигая ноги в разношенных сапогах.
С того дня стоило Жалейке увидеть детвору, сразу пряталась, обходила стороной. Тогда-то и смастерила жалейку из камышового стебля, тогда и услышали в Кураполье плач дудочки, а внучку Евдотьи стали звать Жалейкой.
2
Узкая, чуть виляющая тропа вела от Кураполья к озеру Мшава, где берега покрыл камыш, вода была тинистой.
Стоило ветру зарябить озеро, заблудиться в камышах, как стебли клонились, точно били поклоны, по озеру разносился легкий гул.
Жалейка частенько приходила к озеру, прислушивалась к ворчанию камыша и выбирала стебель, который пел лучше других. Дома мастерила новую дудочку, уходила за село, в безлюдье и там дудела, сколько желала душа. На просторе, особенно на луговине у молодой поросли леса, у тихой воды, дудочка звучала по-иному, нежели под крышей, на воде жалейка точно набирала силу и пела в полный голос, была напевно-ласковой. Долгой зимой Жалейка дула в дудочку только дома, и тогда казалось, что в четырех стенах поселился новый жилец с камышовым голоском.
– Как-нибудь уж, – повторяла глуховатая Евдотья, точно советуясь со святыми на иконах, которые в стародавние времена прадед приобрел у богомаза.
Для одних время в Кураполье тянулось не спеша, со скрипом, будто несмазанная подвода с ленивой конягой, для других бежало без оглядки, как резвый рысак. В круговерти будней в поселке проглядели, как пошла в рост внучка Евдотьи, перестала быть сопливым несмышленышем.
Первым на это обратил внимание директор восьмилетней школы. Готовя к очередному учебному году справку о всеобуче, он узнал, что Антонине Емельяновой уже исполнилось семь лет, не поленился прийти к Евдотье:
– Почему не записываете внучку в школу? Не желаю получать выговор в районо, скажут, плохо привлекаю детей к учебе. Извольте первого сентября привести к нам девочку.
– Не в чем идти, – виновато сказала Евдотья. – В галошках иль валенках, чай, не пустите, а другой обувки нет.
И на тетрадки с учебниками грошей нет – до пенсии лишь десятка осталась…
Директор переговорил в поселковом Совете, и Евдотье выделили «на предмет покупки для внучки-первоклассницы» 850 рублей. На свалившиеся как снег на голову деньги бабка приобрела добротные мальчиковые ботинки на толстой подошве и резиновые сапожки, которые приглянулись в магазине.
– В распутицу станешь ходить в резине, иначе кожаная обувка развалится. Носи и береги, чтоб долго прослужила, – мудро наставила Евдотья, и первого сентября Жалейка пришла в школу при полном параде – в новых ботинках, в перешитом из бабкиного гардероба платьице с рюшечками. На уроках сидела не шелохнувшись, не сводила взгляда с учительницы, еще не веря, что попала в новый мир. На большой перемене столкнулась с мальчишками из третьего класса:
– Тю, шкилет приперся!
– Безмамкина, беспапкина!
Жалейка втянула голову в плечи и, как бычок, готовый боднуть каждого вставшего на пути, ринулась на обидчиков. Мальчишки не ожидали такой прыти от первоклашки и дали стрекача.
С того дня к прополке, поливу огорода, стирке, мытью посуды девочке прибавилось выполнение домашних заданий, дел навалилось так много, что засыпала как убитая.
3
В конце сентября, когда в предзимние дни Кураполье окутало серебро паутины, возле дома Евдотьи с визгом тормозов остановился грузовик. Хлопнула дверца кабины, затем пропели петли калитки, проскрипели под шагами доски крыльца.
На стук Жалейка откинула с двери крючок и увидела на пороге женщину в пушистой кофте, узкой, обтянувшей крутые бедра юбке, цветастой косынке на высоко взбитых волосах. Некоторое время женщина всматривалась в девочку, затем выронила хозяйственную сумку, и к ногам Жалейки выкатилось нечто ярко-желтое, круглое, похожее на мячик.
– Тонечка, родненькая, кровинушка моя! Вытянулась-то как, повстречала бы где, не признала за свою!
Жалейка не успела и глазом моргнуть, как оказалась обхваченной сильными руками, прижатой к груди, обсыпанной поцелуями. Незнакомка пахла чем-то далеким, но удивительно близким. Попыталась вырваться, однако женщина держала крепко и цепко, щекоча невиданными в Кураполье черными (в поселке все были белоголовы), как воронье крыло, волосами.
– Где мать, то есть бабка? Снова у чужих спину гнет на огороде? Ей давно за семьдесят, поберечься надо. Не предупредила о приезде, чтобы удивить и обрадовать, свалиться как снег на голову. С мучениями отпуск выбила: по плану положено зимой отдыхать… – женщина как заведенная сыпала словами, затем подобрала с крыльца апельсины и вошла в дом.
– Чего молчишь, иль язык проглотила? Не признала родную мамку? А твоя карточка над кроватью у меня висит – как засыпаю, завсегда тебе доброй ночи желаю…
Из кухни вышла Евдотья, и гостья осеклась.
– С приездом, – прошамкала беззубым ртом старушка, уставилась на апельсины. – Зачем тратилась, чай, дорого стоят. Яблоки нынче уродились, а груша сильно терпкая, рот вяжет. А это одно баловство, перевод денег: пробовала, когда Тонька из школы с елки принесла… – Евдотья говорила и подслеповато смотрела на дочь, точно желала определить, осталось ли чего от девушки, которая росла в радость. Пожевала пустым ртом, добавила: – Отписала бы, что едешь, заказали привезти пиленый сахар, не то с песком чай не чай, а кусковой слаще и выгоднее – тает не быстро…
– Мам… – прошептала Лиза, притронулась рукой с перламутровыми ногтями к плечу Евдотьи.
– А у Касьянихи червь всю картошку съел, – продолжала Евдотья. – Видать, зараза на огород напала иль кто сглазил, порчу напустил. Нас-то Бог миловал, уродилась как на подбор крупная. Соседи ну порошками грядки посыпать. Теперь кротов опасаются – они страсть какие прожорливые. – Старушка говорила устало, немного безразлично, и дочь не выдержала:
– Мам, отчего ничего не спрашиваешь? Ведь почти пять годков не виделись.
– А про что пытать? – удивилась старуха. – Приехала, и ладно. Коль есть что поведать, сама без расспросов скажешь, в душу лезть не буду.
Тяжело переступая, она пошла к печи, по пути покосилась на притихшую внучку.
Ужинали привезенными сосисками, колбасой, треской в томате, чай пили с невиданной заваркой в пакетиках. Когда все съели и выпили (на сладкое открыли банку ананасов), Лиза сладко потянулась.
– Ложись уж, – предложила мать.
Спать гостью уложили на кровать с шарами, дали накрыться давно не проветриваемым одеялом, выделили две лучшие подушки, но Лиза от одной отказалась:
– Не привыкла высоко голову держать, в общежитии одну подушку имею, не перьевую, как тут, а ватную.
Лиза разделась, покачалась на панцирной сетке и позвала Жалейку.
– Не, я у себя, – отозвалась девочка, но Лиза повторила приказным тоном, и девочка робко прилегла рядом с матерью на самый краешек кровати.
– Рассказывай, как без меня жили, – Лиза поправила на дочери одеяло. – Наверное, в школу уж ходишь?
Мягкой рукой обняла Жалейку, прижала к себе, и девочка уткнулась в теплую материнскую подмышку.
– Скучала? А я почитай каждый день про тебя думаю, посмотрю на фотку и вспоминаю, как молоко сцеживала, когда на ферму затемно уходила на дойку, а новорожденную оставляла дома.
– А у нас учительница при всем классе Мишку Голуба сильно ругала за то, что принес в школу живого мыша, – впервые за вечер заговорила девочка.
– Мышь – это хулиганство, – оценила шалость Лиза.
– А бабка прошлой зимой приболела, спина не разгибалась, в боку стреляло и сердце прихватило. Сказала, что это все от старости, а от нее лекарств не бывает… – видя материнское внимание, Жалейка заговорила быстро, точно могли перебить, запретить открывать рот. – Я отваром трав лечила и на жалейке играла, чтоб про боли меньше думала. Моя жалейка самая лучшая в Кураполье, ни у кого такой певучей нет… – девочка вылезла из-под одеяла, ступила на холодные половицы и вернулась с дудочкой. – Гляди какая.
Лиза не ответила: отвернувшись к стене с бумажным ковриком, спокойно дышала, чуть подсвистывала сквозь пухлые губы…
Проснулась Лиза поздно. Некоторое время лежала, глядя в бревенчатый потолок, затем обвела взглядом комнату, вспоминая, где провела ночь. Спешить было некуда. Понежившись, откинула одеяло, но что-то уперлось в бок, этим что-то была камышовая дудочка. Лиза повертела в руке находку и бросила за кровать.
4
На этот раз из школы Жалейка возвращалась бегом, нигде не задерживаясь. Ворвалась в домишко и замерла, увидев, что мать не одна, за одним с ней столом сидели продавщица сельмага Степанида и соседка Аглая. Женщины осоловело смотрели перед собой, тянули песню про степь и замерзающего в ней ямщика. В нестройном хоре солировала Аглая, с непонятной безысходностью выкрикивала:
В той да степи глухой, Замерзал ой да ямщик!
Лучше всего получалось «ой да», отчего песня становилась залихватской. Закончив, запели про девочек, которые напрасно любят женатых парней.
– Нет, Лизка, что ни говори, а я не уважаю портвейн, – с трудом ворочая языком, тыкая вилкой в кружочки колбасы, признавалась Степанида. – Портвейн, хоть и сладок, но больше смахивает на газировку. То ли дело водочка родная, выпьешь грамм двести, и сразу голова светлеет, всякие мысли появляются, все беды пропадают, легкой становишься и еще счастливой, будто вновь под венец встала. Портвейн – чистая муть, один перевод денег, надо чуть ли не литр выдуть, чтоб пробрало. Одно хорошо – пахнет приятно…
– Точно, – согласилась Аглая.
Лиза заспорила:
– Водка, верно, лучше, но хорошо пьется и бренди.
– Что за бренди? – не поняла Аглая.
– Это… – Лиза не сумела объяснить и приложилась к рюмке, отпила глоток.
– Завидую тебе, – призналась продавщица. – Обличие чисто городское – сумела к культурной жизни приткнуться. Не то что мы, дуры, прозябаем вдали даже от райцентра, нет ни одного непьющего мужика, кто бы мог стать мужем, так в девках и помрем. Я тоже могла в городе жить, да жизнь другим концом обернулась – не передом ко мне встала, а задом. Это в городе замуж выйти раз плюнуть, а у нас, как парень отслужит в армии положенный срок, сразу на Север вербуется к газовикам или нефтяникам…
– Точно, – вновь согласилась Аглая.
Степанида взорвалась:
– Помолчала бы, не тебе говорить! Ты-то нашла кому голову на плечо склонить! – обернулась к Лизе и объяснила: – Про школьного завхоза толкую. Майор, двадцать лет прослужил, а как вышел в отставку, жена стала хвостом крутить. Ну, развелся с шалавой, оставил квартиру и к нам перебрался, за ремонтом здания следит. Многие бабы на него зарились, а она, – Степанида кивнула на умолкнувшую Аглаю, – вмиг к рукам прибрала, точнее, заграбастала, не знаю, чем привлекла. А мой который уж год на лесоразработках в Коми, ни слуху ни духу не подает: и не вдова, и не бобылка, а невесть кто, одна в холодной постели сплю!
– Да я, да ты, да он… – заспешила Аглая, но Лиза вовремя погасила вспыхнувший было спор:
– Не ссорьтесь, девочки, лучше выпьем, – и наполнила рюмки.
Степанида послушно взяла рюмку, но не спешила ее осушить:
– Чего все про нашу житуху говорим? Расскажи про себя, как в городе, какие имеешь планы.
Лиза повела плечом:
– Живу, не жалуюсь. Работа сменная: неделя днем, неделя – ночью. Зарплата твердая, плюс премиальные за перевыполнение плана. Зимой сдала на высший разряд, начальник обещал поставить бригадиром, тогда ставка вырастет. Жду, чтоб жилье выделили как передовице, чтоб проститься с общежитием.
– Чего замуж не выходишь? В городе это раз плюнуть.
– Не говори, ухажеров много: и на свиданьице позовут, и в кафешку иль кино сводят, и всякие шуточки на ушко нашепчут, а как дело доходит до того, чтобы расписаться, сразу шмыг в кусты, поминай женишков как звали.
– Почем кофту брала? – перебила Степанида и пощупала у Лизы рукав.
– Чуть больше тысячи, импортный товар, то ли итальянский, то ли французский, чистый мохер.
Гости хотели еще о чем-то спросить, открыли рты, но осеклись: Лиза достала пачку невиданных в Кураполье черных сигарет, зажигалку, прикурила, затянулась дымком.
– Чего глаза вылупили? – удивилась приезжая.
– Дай и мне! – расхрабрилась Степанида. – Была не была, где наша не пропадала! – неумело прикурила, закашлялась, не сразу отдышалась.
– Не знаю, как вы, девочки, а я своей жизнью довольна, – продолжала Лиза. – Одно плохо – своей квартиры не заимела, по этой причине не забираю дочь, – отыскала взглядом девочку, протянула конфету.
– А как насчет личной жизни? – с опозданием поинтересовалась продавщица.
– Есть один мужик, не скажу, что писаный красавец, но и не урод, обходительный. Одно плохо – женат, вторую половину терпит из-за детишек, ждет, чтоб подросли, встали на ноги и тогда ко мне насовсем переедет.
– В общежитие?
– Снимем квартирку, поднакопим деньжат и свою купим.
– А как у него с… – Аглая собралась закончить фразу, но увидела Жалейку и осеклась.
– Шла бы гулять! – приказала Евдотья. – Негоже ртом мух ловить, взрослые разговоры слушать.
Жалейка выскользнула из дома, присела на подгнившую ступеньку крыльца, стала слушать доносящийся смех, звон рюмок.
Застолье завершилось поздно вечером. Гости долго прощались. Аглая извинилась, что пора встречать с выпасов стадо, проводить вечернюю дойку, не то бы еще поговорила с товаркой по душам. Степанида помалкивала. От гостей остались пустые бутылки, нарезанная колбаса и винное пятно на скатерти.
Готовить домашние задания было поздно, да и не хотелось: Жалейка из угла не сводила взгляда с матери, которая размазывала по лицу слезы, отчего на щеках появились похожие на чернильные пятна потеки туши, и жаловалась Евдотье:
– Отчего я такая невезучая, точно проклятая? У всех все как у людей, у одной у меня наперекосяк жизнь идет! Который год бьюсь словно рыба об лед, ищу свое счастье, а оно все стороной обходит!
– Будет реветь-то, – постаралась успокоить Евдотья, и как когда Лиза была маленькой, прижала к груди, погладила вздрагивающей ладонью растрепавшуюся прическу. – Иди на боковую, поздно уж.
Лиза подняла опухшие от слез глаза:
– Никому не понять, как осточертело общежитие, тянуть от аванса до получки! В городе деньги сквозь пальцы точно вода текут, не успеешь оглянуться и ты в долгах, как в шелках. В городе житуха не чета вашей – соблазны на каждом шагу. Прежде пыталась замуж выскочить за состоятельного, пусть в летах, лишь бы имел квартиру и не был жмот, потом потеряла надежду, нынче ни девка, ни разведенка.
Евдотья с трудом приподняла дочь со стула, довести до кровати не хватил сил, пришлось звать на помощь внучку. Плачущую Лизу раздели, уложили. Она продолжала обвинять весь белыйс в е т, в т о м ч и с л е м а т ь, ч т о н и к т о н е у д о – сужился заглянуть ей в душу, понять.
Дождавшись, чтобы дочь угомонилась, уснула, старуха подобрала с пола кофту, юбку. Жалейка взяла материнские туфли и только сейчас заметила под кроватью камышовую дудочку. Обрадовалась, что дорогая вещичка не пропала, подняла и увидела, что дудочка сломана.
«Не беда, – успокоила себя девочка. – Отыщу на Мшаве нужный камыш и сделаю певучей прежней».
Когда Евдотьяп о г а с и л а с в е т, Ж а л е й к а у ю т н о у с т р о и – лась в своем углу под одеялом и вспомнила, как непохоже ни на что пахли апельсины, что парочку сохранила про запас, чтоб угостить подружек – пусть позавидуют, полакомятся… Веки стали набухать, становиться тяжелыми. Жалейка проваливалась в пустоту, откуда выплыли озеро, учительница со странным отчеством Африкановна, мать с красивыми ногтями, теплой подмышкой, в дорогой кофте… Неожиданно все заслонили задиристые мальчишки с противными, похожими на скрип мела по доске голосами. Жалейка сжала кулачки, чтоб ринуться в бой, дать отпор, но все заволокло серым, затем черным туманом.
5
Спустя два дня Лиза вернулась в город, и в ту же ночь на Кураполье свалился первый, еще мягкий, недолгий, растаявший к полудню снег. Дворовые собаки попрятались в конуры, не желая мокнуть, в курятниках затихли куры.
– Это еще не зима, а предзимье, зиму надо ждать к ноябрю. Природа показывает норов, предупреждает, что лету конец, осени жить последние денечки, впереди холода, метели с вьюгами. Пока с неба сопли сыплются, – глубокомысленно изрек Авилов.
– И Мшава замерзнет? – спросила Жалейка.
– Год на год не приходится, то в октябре льдом покроется, то позже. Коль надумала поплавать, так не советую – стылая Мшава, простуду схватишь иль что посерьезнее, в больницу отвезут.
Девочка не призналась, что желает успеть нарезать про запас камышовые стебли для новых дудочек.
Следом за первым снежком ночью ударил мороз, заковал до звона глинозем, засеребрил крыши.
Нарядившись в чиненый-перечиненый полушубок, Евдотья вышла к колодцу и столкнулась с почтальоном.
– Распишись, тетка Евдотья, в получении.
– Неужто деньги от Лизки?
– Не угадала: повестка из района. Вызывает военком, ждет с утра и до вечера кроме воскресенья.
Листок имел печати – черную почтовую и фиолетовую. Не дожидаясь возвращения из школы внучки, Евдотья обулась в подшитые резиной валенки и заспешила к околице, где дождалась машины в райцентр. В благодарность призналась водителю, по какой надобности бросила все дела по дому.
– Зачем понадобилась военкому? – удивился водитель. – Неужто попала под мобилизацию? Так возраст давно не призывной!
Пока старушка тряслась в кабине, а машина разбивала на ухабистой дороге в лужах ледок, водитель рассказал, как в свое время уходил на два года служить, убегал из части на свиданье с бойкой медсестрой, за что получил пару нарядов вне очереди… За элеватором машина замерла, точно вкопанная.
– Дальше, извини, пойдешь на своих двоих: тебе, бабка, в райцентр, а мне в заготконтору.
Шагать на осатаневшем ветру было трудно – ветер норовил свалить с ног. В центре поселка у первого встречного спросила, где военкомат – он оказался почти в двух шагах. В здании первым делом поклонилась девушке у пишущей машинки, стучавшей по клавишам не шибко быстро – мешали длинные ногти.
– Мне бы, милая…
– Начальник вышел! – не дала договорить девушка и так сильно ударила по клавишам, что машинка жалобно звякнула. Старушка присела на краешек стула, решила, что такая, как у девушки, работа требует сильно грамотных. Что-либо еще подумать не успела: входная дверь распахнулась, пропустив статного военного.
– Все женихов ждешь? – весело спросил вошедший у секретарши, но увидел старушку и посерьезнел: – Вы ко мне?
Евдотья без слов протянула повестку.
Военный взглянул на листок, резко обернулся к девушке:
– Твои делишки? Как могла вместо приглашения отправить повестку? Отчего не организовала транспорт в Кураполье, заставила человека в годах самой к нам добираться? – военком взял Евдотью под руку, помог пройти в кабинет, где усадил в кресло.
– Прошу прощения за сотрудника, допустившего халатность. У меня, уважаемая… – он взглянул в повестку, – Евдотья Митрофановна, почетная миссия. Как вдова участника Отечественной войны, гвардии старшего сержанта Емельянова Афанасия Михайловича…
Стоило Евдотье услышать полные имя-отчество мужа, как сдавило дыхание, сердце забилось сильнее и чаще, словно желало выскочить из груди. Для Евдотьи муж был и навсегда остался Афоней, как окликала его, когда был рядом, звала в своих думах. Единственный раз назвала Афанасием при выписке из больницы с новорожденной дочерью: «Держи, Афанасий, свою кровиночку», – и протянула сверток с ребеночком. Афоня, не скрывая боязни, взял ребеночка, прижал к груди, привыкшие к работе руки напряглись, дрогнули… Спустя год мужа вместе с курапольскими парнями призвали в армию. Евдотья пустила слезу и с другими женами долго провожала взглядом ушедших, не ведая, что с войны назад вернется лишь один, и тот без ноги…
Военком перечислил неведомые Евдотье города, какие освобождал Емельянов А. М., когда назвал Берлин, старушка встрепенулась: «До главного у врагов города дошел».
– Поздравляю! Передаю как ближайшей родственнице для хранения в семье.
– Что это? – Евдотья приняла красную коробочку, услышала:
– Орден, его орден. Извините, что вручаю с опозданием, но в архиве лишь недавно нашли наградной лист на вашего мужа.
– А могилку Афони отыскали?
– В дни штурма немецкой столицы погибших хоронили вместе, в братских захоронениях, – словно извиняясь, военком добавил: – Предавали земле с воинскими почестями, позже установили монумент.
6
Назад в Кураполье Евдотью отвезли на легковой машине. За пару километров до села старушка попросила водителя остановиться:
– Дальше на своих двоих дойду, уже близехонько, да и можете завязнуть на распутье – там яма на яме…
Не призналась, что желает побыть одна, поразмыслить о прожитом, незабываемом. Поблагодарила, ступила на дорогу, затем свернула на тропу, где не было луж-ледянок – и до Кураполья было ближе. Шла и не замечала, что платок сполз на плечи, голова намокла от снежинок.
Казалось, что идет не одна, а вместе с Афоней, словно все возвернулось и, как много лет тому назад, муж провожает с посиделок или гулянья, которое сельская молодежь устраивала за селом: парни чадили самокрутками, девушки лузгали семечки, играл баянист. Танцевали до полуночи, затем разбивались на парочки. Афоня стеснялся взять за руку, не то чтобы приобнять, лишь у Кураполья набрался храбрости и положил руку на плечо, отчего вся сжалась, не зная, как поступить – то ли рассердиться, смахнуть руку, то ли прижаться к парню. Возле дома Афоня окончательно осмелел, попытался обнять, но она вырвалась: «Нечего руки распускать! Трактор свой обнимай! Он бессловесный, все стерпит и промолчит!» Припустилась бежать, и когда оказалась за калиткой родного дома, вспомнила советы умудренных жизнью подружек: «Держи Афоню, не выпускай, не то другая к рукам приберет. Сохнет он по тебе». Евдотья чуть не заплакала от обиды за парня, который досрочно полез обниматься, еще за собственную гордыню, которая оттолкнула парня. «Ну обнял бы, даже поцеловал – от этого у меня ничего не убыло! Коль обиделся, может к другой, более сговорчивой, пристать, та мигом обкрутит. Дура я!»
Но настал новый праздничный день, а с ним танцы на полянке, и Афоня оказался рядом, приглашал на все танцы, к концу напросился снова в провожатые, и Евдотья, не в силах произнести даже слово, кивнула. По пути в Кураполье парень не притронулся, даже не взял за руку, отчего Евдотья чуть не заплакала. Плакать пришлось спустя полгода, летом 1941 года, когда провожала мужа на фронт. Как в молодые годы, глаза повлажнели, но слезы были не радостными, а печальными.
«Напрасно думала, будто все Афоню позабыли, лишь одна я его вспоминаю, а порой является во сне. Надо Лизке непременно отписать про орден, пусть порадуется за отца. Жаль, внучка мала и не сумеет письмо составить, придется грамотного звать, можно Авилова: две газеты выписывает…» Старушка не обращала внимания, что неяркое солнце скрылось за облаками, которые переросли в низкие тучи, что поднялся ветер. Воспоминания грели. Перед помутневшим взором муж стоял как живой, Евдотья слышала его глуховатый от табака голос, но не успела разобрать, что говорит, как перебил плач жалейки.
Евдотья приложила ладонь к уху, вслушалась: жалейка плакала где-то рядом. Оглянувшись по сторонам, старушка приметила внучку, которая догоняла, продолжая дудеть в жалейку. Когда старая и малая Емельяновы встретились, Евдотья первым делом взглянула на ноги внучки и успокоилась: Жалейка была не в предназначенных для хождения в школу ботинках, а в старой обувке, тем не менее строго спросила:
– Чего в распогодицу вздумала гулять? Про уроки, чай, забыла. Куда ходила?
– На Мшаву, – призналась девочка. – Надо было камышинок срезать про запас. А то, что заветрило, так это к лучшему, при ветре камыш поет, легче выбрать голосистый, какой подходит к жалейке.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































