Текст книги "Ушли, чтобы остаться"
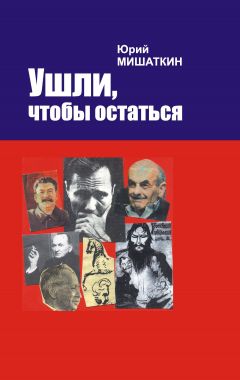
Автор книги: Юрий Мишаткин
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 14 (всего у книги 52 страниц) [доступный отрывок для чтения: 17 страниц]
Гроза проходит стороной
На сетку телеграфных проводов кто-то умудрился накинуть порожнюю жестяную банку на веревке. Ветер раскачивал провода, и банка тоскливо гудела. Под столбом копошился выводок кур с выдерганными хвостами, отчего птицы выглядели жалко.
«И мне крылья подрезали, а имел бы хвост – и его бы не оставили в целости», – невесело подумал Федор и зашел в райотдел милиции. Предъявил справку об освобождении, терпеливо выслушал советы майора завязать со старым, забыть о прежних замашках, взяться за ум, вступить на трудовую дорожку… Когда нравоучения надоели, перебил:
– Что было, то быльем поросло. За почти четыре года многое передумал, теперь стану держать в узде нервишки, не решать ссоры дракой, хлопот со мной не будет. Свое честно оттрубил, вот и вышел досрочно.
Майор пообещал в недельный срок оформить паспорт и отпустил с миром.
Вспомнив о гостинцах родным, Федор заглянул в продуктовый, приобрел два килограмма конфет, в универмаге – женскую кофту, косынку, шерстяные чулки и не завернул на автовокзал, а двинулся к развилке дорог.
До Хохоленка можно было дойти по грейдеру, затем лесом, где известна каждая тропа, поляна, тем самым сократить путь, но шла тихая осень: в березняке мокро, склизко, и Федор Рубцов стал ждать попутный транспорт. Выкурил пару сигарет, вспомнил, как этой дорогой уходил в армию, спустя три года возвращался домой, тем же летом под конвоем, в наручниках увозили к следователю.
На развилке присел на мшистый валун, вскоре появилась полуторка, которая шла не в Хохоленок, а в лесхоз. Федор перелез через борт, придавил узкую доску за кабиной, где возле водителя сидела пухлая, с сонными глазами девица.
Полчаса тряской поездки – и машина затормозила у семейки вязов. Не выключая мотора, водитель заглянул в кузов:
– Дальше на двоих добирайся, никуда не сворачивай и упрешься в Хохоленок.
– Я родом отсюда, – признался Федор и спрыгнул на колдобистую дорогу.
Водитель погрустнел:
– Коль тутошний, оставляй десятку при себе, со своих калым не беру.
Федор проводил взглядом машину, обошел яму с дождевой водой, свернул к мохнатым кочкам, где розовела клюква. Где-то неподалеку жаловалась пеночка. С деревьев устало тек лист. Стоило налететь холодному ветру-листобою, деревья заскрипели, лес наполнился шорохами.
Парень шагал, топил ноги в бочажинах, дышал с удовольствием чистым, точно процеженным сквозь сито воздухом, в котором были запахи вялых листьев, древесной коры. На околице деревни замер. Появляться засветло не стоило – одни знакомые начали бы сочувствовать, даже жалеть, засыпать вопросами, другие молча здороваться, обстреливать из-за заборов любопытными взглядами, за спиной говорить невесть что, вспоминать, как Рубцов чуть не отправил Петра на тот свет из-за жгучей ревности.
Федор поискал более-менее сухую кочку, присел, всмотрелся в бездонное небо, и не будь ветра, пригрелся бы на солнце, задремал, но провалиться в сон не позволила девочка с перемазанными ягодами губами, в заштопанных на коленях чулках.
– За лешего приняла? – спросил Федор. – Ошиблась: рожек не имею, хвоста тоже, копытами не обзавелся.
– Копыта могли спрятать в ботинки, – заметила девочка, – хвост – в карман, он у леших короткий, как у козы.
– Неужели встречала лешего?
– Не.
– Чья будешь?
– Коновых.
– Уж не Андрюхи ли Конова? – Федор удивился быстротечности времени: когда арестовали, дочь ровесника Андрея делала первые шаги.
– Знаете папку?
– Мало сказать, в один класс ходили, на переменах синяки друг другу ставили, вместе служить уходили, – Федор встал, отряхнул брюки. – Пошли, не то папка с мамкой заждались.
– Они в район уехали, лишь завтра вернутся, меня на соседей оставили, а у них ребеночек меньше меня, надо пеленать, купать да кормить.
Двое двинулись к Хохоленку. Ветер гнал под ногами листья, путался в стволах, гудел в вершинах берез. С опозданием девочка угостила Федора тронутыми первым морозцем ягодами. За годы несвободы Рубцов позабыл, какая клюква на вкус, взял из лукошка горсть – и рот, десны, язык стянуло, так бывало в детстве, когда наедался ягодами от пуза, домой приносил полный кузовок, мать наполняла банки, ставила в холод, чтоб найденное в лесу сохранилось до сочельника.
Спускались сумерки. Под ноги легли тени.
– Беги дальше одна, – подтолкнул девочку Федор, когда впереди встали первые дома.
– Мы проживаем возле колодца, по соседству с тетей Груней, дядей Петей и Тусей.
Федор чуть не задохнулся: девочка назвала людей, по чьей вине и собственной глупости Федор получил срок. Груня была той, кто обещала ждать, кого приревновал, затеял драку с соперником, проломил тому голову. В колонии довольно часто думал, как Груня живет-может, отчего прислала одно-единственное короткое письмецо и умолкла, почему о девушке ничего не пишут мать с сестрой?
Миновав первые на окраине дома, круто свернул в проулок и оказался у пятистенка, где за забором торчали высохшие будыли подсолнуха, стоял шест с трухлявым скворечником, который Федор соорудил до ухода на армейскую службу.
– Федя, ты?
Рубцов не успел обернуться, как на спине повисла и по-бабьи заголосила сестра.
– Ой, мамоньки! Мы же к зиме иль позже ждали! Вот маманя-то обрадуется!
– Хватить слезы лить, вернулся я, а ты… – голос у Федора дрогнул. – Досрочно отпустили, за примерное поведение. Мать дома?
– В коровнике на дойке. Твою карточку над кроватью повесила, перед сном долго смотрит, во сне порой с тобой разговаривает…
Федор поставил сестру на землю, вытер ей ладонью набухшие глаза, отметил, что Наташка-егоза заметно подросла – от былого подростка, пигалицы ничего не осталось.
«Ишь ты: глаза подводит, и веки с губами красит – чисто невеста!..»
В тесном предбаннике духовито и дурманяще пахло распаренными березовыми листьями, и некоторое время Федор блаженно жмурился, не в силах надышаться.
– Не спали баньку, – попросила сестра. Натаскав из колодца воды, она с порога лукавилась на брата.
– Как жили без меня? – Федор снял сорочку, стянул майку.
– Так писали ведь, – сестра перекинула за спину тугую косу.
– В письмах много не напишешь.
– Ужо расскажем. Ты парься, а станешь угорать – кликни, чтоб спасла, – Наташка отступила, закрыла дверь, и сразу потолок точно опустился, стены сдвинулись.
– Лампу принеси, – попросил Федор.
– Обойдешься без света! – ответила со двора сестра. – Небось шишку на лбу не набьешь!
Федор шагнул к печи, где в подтопе весело стреляли сухие поленья. Взял ковш, черпнул из бочонка, плеснул в жарник на кирпичи. В бане зашипело, забулькало, к потолку потянулся пар. Стало душно, по телу муравьями поползли струйки пота, в груди словно заполыхал костер. Захотелось отступить в предбанник, отдышаться. Но, крякнув, еще раз окатил водой раскаленный жарник, влез на полок. Намочил в кадке веник, хлестнул себя по бокам, животу и, изловчившись, по спине. Вспомнил, как бил веником покойный отец: Федор взмаливался, просил дать передохнуть, в ответ отец смеялся, продолжал нахлестывать, говорил, что от березового духа крепчает человеческий. Капли попали в лицо, пришлось слизнуть с губ. Когда тело от битья стало бесчувственным, всего разморило, свалился, точно раненый, на полок…
О домашней баньке мечтал все годы неволи: свою нельзя было сравнить со скучным душем. Мальчишкой, и позже в юности, Федор с отцом по субботам охаживали друг друга вениками в баньке, соревновались в выдержке, поддавали парок. Никто не хотел сдаваться, показать слабинку. Однажды Федор сумел пересидеть отца в густом тяжелом воздухе на верхней ступеньке полка, когда уже нечем было дышать, от жара, казалось, мог подняться потолок. Тогда-то услышал – и запомнил навсегда уважительное: «Мой у тебя характер, рубцовской закваски, не подвел фамилию…» Федор зажмурился и рядом почудился отец, хлещущий веником мосластое тело, кряхтящий от удовольствия, вспоминающий всех святых…
Когда вволю напарился, тело обмякло, заленилось, стало ватным, Федор улегся, постарался забыть хотя бы на время все, что осталось за порогом баньки, Хохоленка, райцентра, что пришлось пережить за, казалось, бесконечные годы за высоким забором, вышками с неусыпными охранниками. Еще не думать о Груне и особенно Петре, с кем некогда дружил, в один день призывался на службу, кого так огрел оглоблей, что одногодок надолго угодил на больничную койку, а он, Рубцов, под конвоем на север…
– He угорел? Долго прикажешь ждать? – спросила за дверью сестра.
Федор окатился с головой кадушкой холодной воды, вытерся, оделся и стоило выйти, как увидел мать. Она сидела на приступке, видимо, не держали ноги, натруженные руки доярки вздрагивали на коленях.
Федор подбежал, крепко обнял, прижал к груди и не отпускал до тех пор, пока мать не перестала всхлипывать.
Чаевничали с привезенными конфетами, Федор больше спрашивал, нежели отвечал на вопросы. Мать не притрагивалась к лакомству, слюдяными глазами не отрываясь смотрела на сына, радовалась, что дождалась, Федя-Федюня не снится…
– Напрасно не отписал, что едешь. Порося бы закололи, сродственников собрали, отметить возвращение положено, – говорила мать, не сводя с сына влажных глаз.
– Шибко спешил, – Федор взял бутылку, обернулся к сестре: – Налить пару капель или мать не позволит?
Мать встрепенулась, стала строже:
– Как же, спросит! Без позволения все делает! Шибко самостоятельная, совсем от рук отбилась, возомнила взрослой. С танцев возвращается под утро. А был случай, самогонкой, как от мужика, несло: ни стыда ни совести!
Сестра обиделась:
– В рот не брала, от других запах перешел.
– А кто в прошлом месяце еле до постели добрел?
– Так праздник был у Анисимовых, ежели бы не пригубила, затаили обиду, посчитали, что гнушаюсь.
– Ты, Федя, вбей в ее коровью голову, что негоже девке на выданье спиртное употреблять, до зорьки гулевать, обязана блюсти себя.
Ссора могла разгореться, пришлось Федору мирить: пододвинул матери вазочку с конфетами.
– На прежнюю работу вернешься? – поинтересовалась сестра. – Слесари и электрики нужны, еще трактористы.
Мать поддержала дочь, опасаясь, что сын укатит в район, а то в город, где всякой работы завались, платят не чета сельским:
– Вначале, понятно, отдохни, потом выбирай дело по душе.
Федор повертел в руке рюмку.
– Осмотреться надо, работу выбрать не с бухты-барахты, – отвел взгляд на стену, где среди семейных фотографий и его снимки в солдатской форме, и, точно между прочим, спросил: – Слышал, Груню можно поздравить с дочкой?
Сестра поперхнулась чаем. Мать тихо охнула, закрыла ладонью рот, словно без позволения могли вылететь слова, которые сыну больно услышать. И сестра, и мать со страхом ожидали повтора вопроса или новых о той, из-за кого их Федя получил срок, но Рубцов ничего больше не спросил, сделал вид, будто не видит смятения, догрыз конфету, натянуто улыбнулся:
– Дома и вода вкуснее, и хлеб слаще.
Ушел в свою комнату, разделся, утопил тело в перину, от которой отвык за годы заключения. Понежился и сказал в незатворенную дверь:
– Денег привез, не слишком много, но хватит дров с углем прикупить, подправить крышу, зимнюю одежку справить. Нам за работу платили – без дела не сидели, вычитали за питание, при освобождении произвели расчет.
– Деньги не главное, главное, что вернулся, – сказала мать, подошла к двери, долго смотрела на сына, вспоминая, каким тот был маленьким, как укладывала его: – За сеном надо бы съездить, не то сопреет и Буренка есть не станет. – Съезжу, – обещал Федор.
Назло ранней осени с ее дождями, заморозками, которые нагоняли тоску, утро выдалось солнечным, но через час на Хохоленок опустилось по-вдовьи грустное, задумчивое предзимье.
Стоило Рубцову прийти в поссовет, как секретарь предложил присесть.
– Насиделся, – усмехнулся Рубцов.
Бессменный секретарь, полковник в отставке, знавший Федора чуть ли не с пеленок, по крайней мере не менее десяти лет, попросил:
– Не придирайся к словам, в ногах правды нет.
– А в сидении есть?
Ответ не понравился – отставной полковник скривился.
– Насовсем вернулся? Это я к тому, что прописывать постоянно или временно. Молодец, что не погнался за длинным рублем, не завербовался на шахту или нефтепромысел – там все чужое.
– Мне предписано в Хохоленке жить.
– А без предписания бросил бы родину с матерью?
– У матери дочь имеется, одна не останется.
– Дочери имеют привычку выскакивать замуж, бросать родительский дом, норовят на новом месте гнездо вить, а мужик – опора матери, кормилец. Наташка, как говорится, отрезанный ломоть, а без тебя дом в запустенье придет, мать раньше срока от тоски богу душу отдаст, – секретарь кашлянул, постучал карандашом по столу и уже нестрого, без нравоучения спросил: – Обиду, надеюсь, не держишь на Петра? Что было, то быльем поросло.
– Давай, дядя Макар, покороче, – перебил Федор. – Сильно уважаю, не то не стал бы слушать, послал подальше. Прописывай и ставь к делу.
Секретарь обернулся к бухгалтерше, дал ей знак и, когда мужчины остались одни, подошел к Рубцову.
– Теперь без утайки поговорим, без недомолвок.
Рядом с Рубцовым секретарь выглядел карликом, отчего Федор подумал: «Как с таким ростом до полковника дослужился? Полковнику положено быть статным, высоким, или с годами в землю врос?»
– Брось лезть в бутылку, – строго, по-отцовски продолжал секретарь. – Берись за ум, им тебя бог не обидел. Коль станешь снова волю кулакам давать, дракой отношения выяснять, без помощи участкового лично сдам под арест. Никто, окромя тебя, не виноват, что схлопотал срок. Не смей Груню тревожить, отношения с Петром выяснять, не забывай, что у них семья, сам им гербовую бумагу составил, печать пришлепал. Еще у них малое дитя, рожденное в законном браке…
Разговор все больше не нравился Федору, и, чтобы прекратить его, он сказал, что забот с ним не будет, отдохнет с недельку и придет просить поставить к делу, согласен на любую, даже тяжелую работу, лишь бы была на пользу людям.
День перевалил на вторую половину. С Марфина луга возвращались груженные сеном подводы, Хохоленок наполнили повизгивание колес, окрики возчиков, терпкий запах разнотравья.
Федор курил у калитки и, не признаваясь себе, высматривал Груню, не в первый раз вспоминал, как девушка хватала его за рукав, пыталась вырвать оглоблю, уговаривала успокоиться: «Не было ничего, он ни в чем не виноват! Лишь на танец пригласил!». Рубцов не желал ничего слушать. Неведомая сила вперемешку со злостью толкала к Петру, требовала как следует спросить за все. Когда ревность переполнила, оттолкнул Груню, пошел с оглоблей на Петра. Что случилось потом, помнил смутно. Очнулся со скованными за спиной руками в милицейской машине. В раймилиции чуть пришел в себя, вспомнил, как осушил бутылку портвейна, быстро опьянел, пальцы сами сжались в кулаки, появилось желание рассчитаться за обиду. Дежурный райотдела растолковал, что задержанный так сильно огрел Петра, что тот потерял сознание, отвезен в больницу, над раненым колдуют врачи, готовясь к сложной операции. Знакомый милиционер посочувствовал Рубцову: «Погорел ты крупно по всем статьям, светят суд и срок за злостное хулиганство, покушение на чужую жизнь. Сдалась тебе эта Груня, бросил бы ее к такой матери и дело с концом, закрутил бы любовь с другой – в вашем Хохоленке все девки ядреные, как на подбор, одна краше другой». После суда уже в колонии Рубцов получил письмо от Груни. Девушка просила не держать на нее обиду, понять и простить. «Это меня, а не ее надо прощать», – подумал Рубцов. Спустя год Федор не выдержал и поинтересовался у сестры с матерью судьбой девушки, те коротко ответили: Гpуня вышла за Петра, разродилаcь девочкой…
Федор курил, провожал взглядом проезжающие мимо подводы, здоровался с возчиками, принимал поздравления с возвращением, а сам искал взглядом Груню. «Второй день дома, а ни разу не встретил. Неужто прячется, боится со мной столкнуться?..»
Груню увидел, когда этого не ожидал. Она вела за руку малышку, которая просилась на руки матери. Рядом вышагивал Петр, косясь с улыбкой на жену с дочерью. За минувшие годы Груня заметно пополнела, заимела мягкую походку, волосы укладывала на затылке узлом. Девочка как две капли была похожа на мать.
Федор отступил за дом, сдержал дыхание, точно оно могло выдать. «А Петр как был бугаем, так им и остался, не поверить, что полгода провалялся в больнице…»
Груня с мужем, дочерью скрылись за семейкой старых тополей. Один из тополей в грозу расколола молния, словно осколком снаряда подпалила ветви, несколько лет тополь не листвился, его собрались спилить, но к удивлению всего Хохоленка весной снова выбросил узелки почек…
В не по-осеннему ясный, теплый день Рубцов решил привезти с луга копешки сена. Одолжил у соседей подводу с конем и поехал на Марфину пустошь.
У речки Нерейки дорога раздвоилась, конь привычно шагнул к мостку, а не к оврагу, за которым стеной стоял лес. Чуть илистая речушка под мостом была неподвижной, лишь у берега кружил косяк мальков. На уснувшей воде плавали листья, и поэтому казалось, Нерейка зацвела.
Подъезжая к лугу, Рубцов услышал над головой журчание – летела стая уток. Птицы скрылись в сгоняемых ветром в кучу облаках, некоторые были зловеще темны, и Федор поторопил коня. У комлистой березы остановил подводу, слез и чуть не наступил на женскую кофту, которую повесили на ветку, но ветер смахнул на землю.
Небо хмурилось, подернулось пленкой, опускалось на луг. Вокруг разлилась настороженная предгрозовая тишине. Федор пожалел, что не захватил плащ, еще лучше фуфайку, и стал грузить сено. Быстро справился с парой копешек и почувствовал на спине острый взгляд. Обернулся и увидел Груню, которая обнимала себя за плечи, желая тем самым согреться под налетевшим ветром.
Словно не было нескольких лет разлуки, точно расстались минувшим вечером, Рубцов спросил:
– По грибы пришла? Вряд ли найдешь – ушло грибное времечко, одна калина зреет.
Груня продолжала не мигая, испуганно смотреть на Федора, точно увидела призрак.
– А калина нынче рано созрела, – словно не замечая смятения землячки, добавил Рубцов и еще что-то сказал, и снова не дождался ответа. Двое не заметили, как посыпал вначале мелкий, затем крупный дождь, по лицам стали стекать струйки – в волосах Груни капли серебрились. С опозданием Рубцов осознал, что девушка промокнет до нитки, следует ее прикрыть, сделал шаг, но Груня отступила и, не будь за спиной дерева, убежала бы.
Дождь быстро измочил поле, лишь вокруг березы остался сухой островок.
«Говорю невесть что, а она в рот воды набрала, – нахмурился Федор. – Будто незнакомы, чужие, не мы ходили по одной улице, в один клуб и школу, не из-за нее схлопотал срок». Следовало перейти к главному, что Федор с трудом сделал:
– Дите с Петром оставила или на свекровь? Отчего мужа за сеном не послала? – обернулся на подводу с мерином – До дождя следовало с делом управиться, жаль, сено подмокло…
Груня закивала, дескать, согласна, но вновь не произнесла ни слова.
– За огород надо приняться, неухожен, сорняков много. Матери не управиться, сестре наплевать на хозяйство.
А сено придется сушить, не то сопреет.
– Верно, – согласилась Груня. – Все некогда было на Марфин съездить… Наших лишь три копешки осталось.
Сговорилась, что машину пригонят, жду, а ее нет да нет…
Давно на луг не приходила, почитай, как на сносях была… – Груня поняла, что проговорилась, для Феди больно такое слышать, прикрыла ладонью рот, словно желала остановить другие слова, перекрыть им путь. Но Рубцов сделал вид, будто прослушал про беременность.
Мелкий, точно процеженный сквозь сито, дождь не прекращался.
Федор мотнул головой и заговорил о главном, что беспокоило в заключении, лишало сна:
– Как получил от тебя письмишко, где писала, что простила, не держишь зла, а потом замолчала – ни ответа, ни привета, места не находил, не знал, что и подумать. Надо на смену шагать, а ноги не идут. Старший в отряде ругается, а я ни с места. План не выполнял, начал грубить начальству, за это трое суток просидел в изоляторе.
– Приболел? – заботливо спросила Груня.
Федор невесело усмехнулся:
– Там изолятором другое зовется. Сидел на табурете – койку на день запирали. чтобы злость не переполняла, про тебя думал, вспоминал, как провожал с танцев, рассказывал про службу. Потом убедил себя, что на тебе свет клином не сошелся, имеешь право не ждать. Чуть оттаял, но нет-нет являлась во сне. Про то, что ребеночком обзавелась, лишь тут узнал: мать с сестрой берегли, писали только про замужество, а про дочь и за кого пошла – ни строчки…
Груня наконец собралась с силами и жалобно попросила:
– Не держи на меня обиду, что поделать, коль жизнь так повернулась… Кабы не арестовали, были бы сейчас вместе.
Мать дни и ночи талдычила, что лучшие мои годы проходят, останусь в девках, стану весь свой век одна вековать.
Сил не стало подобное слушать, проявила слабинку, а тут еще Петр упорно звал замуж. Не сразу дала согласие, коль знала, что возвернешься ранее намеченного судом срока, отказала бы. Жизнь опротивела, будто затмение нашло…
«Зачем оправдываться? – удивился Федор. – Что было, то быльем поросло. И я виноват, что старое помянул, нечего его ворошить…»
Груня забыла про дождь и что промокла. Отступила от березы.
– По ночам сна ни в одном глазу. Лежу и про все передумываю, про тебя больше – как ты там. Знаю, что мужики не любят жалости, но жалела…
Видеть и слышать унижение было больно, и Рубцов перебил:
– Дочь Полей нарекли?
Груня обрадовалась, что разговор свернул на другую колею:
– Ага, но больше Пусей зовем.
– В честь кого назвали Полиной?
– Бабку Петра так звали, – Груня набралась сил и выговорила: – Простил тебя давно Петр. Понимает, что не в себе был, когда в драку полез…
Федор сдерживал желание вылить все, что накипело в душе на Петра, посмевшего встать на пути, отбившего девушку, которую все в Хохоленке считали невестой Рубцова.
3а стеной леса вспыхнули и погасли всполохи, но гром не донесся – гроза прошла стороной, лишь одним крылом коснулась Марфина луга.
Груня поняла, что Федор ей с Петром не собирается сделать зла, осмелела, в голосе пропали страх с дрожью. Горячей рукой притронулась к плечу Рубцова:
– Сними с души камень. Коль кто и виноват перед тобой, так лишь я – не дождалась, никто силком не тащил под венец, сама согласилась. Лишь с меня требуй спрос за то, что твоя жизнь пошла наперекосяк. Подружки и соседи не уставая нашептывали, пугали, что ни мне, ни Петру теперь не будет спокойствия, но я лучше других знаю тебя, верю, что наговаривали напраслину, ты не злопамятный, добрый…
«И она туда же! – подумал Федор. – Вначале мать с сестрой ждали со страхом, что рассчитаюсь с Петром за проведенные в заключении годы, спрошу с Груни за неверность, потом сельсоветчик туда же гнул, теперь Груня…»
Груня заговорила скороговоркой, словно опасалась, что Федор перебьет, не позволит высказаться:
– Казнюсь, что стала причиной ареста, за вину что хочешь требуй, на все согласна, прежде блюла девичью честь, а ныне… – Груня захлебывалась словами, чувствовалось, что каждая фраза дается ей с трудом, заглядывала Федору в лицо.
Рубцов выдавил из себя:
– Извини, ехать надо.
Груня уронила руку с плеча Рубцова, покосилась на остающиеся копны.
– Пусть пообсохнут, нечего мокрыми везти, – объяснил Федор и, не прощаясь, пошел к подводе. Взял вожжи, прикрикнул на коня, и мерин сделал первые шаги.
Дождевая туча поплыла в сторону райцентра. Умытая дорога серебрилась лужами. Федор не понукал коня, который без окрика, тем более кнута, знал дорогу домой.
Подвода миновала мосток, когда в небе пророкотало. Конь повел головой и прибавил ход.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































