Текст книги "Ушли, чтобы остаться"
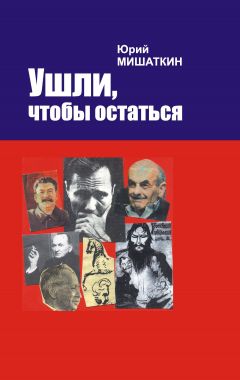
Автор книги: Юрий Мишаткин
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 16 (всего у книги 52 страниц) [доступный отрывок для чтения: 17 страниц]
Антон преспокойно продолжает вытирать, ставить сушить посуду, которой нет конца.
Тетка не сразу приходит в себя от неслыханной прежде дерзости племянницы, продолжает ругать, Антон делает вид, будто оглохла или все сказанное ее не касается, каждое слово, точно мячик, отлетает.
После окончания рабочего дня девочка спешит домой, стараясь опередить тетку. Умывается под рукомойником, быстро переодевается и проскальзывает мимо дремлющего с газетой в руках у телевизора дядьки. Возле зеркала задерживается, смотрит на угловатого подростка с выпирающими ключицами, облупленным носом, неровно подстриженной челкой, ссадинами на коленях. Проводит ладонью по груди, радуется, что недалек день, когда надо будет покупать доказывающий наступление взрослости лифчик. Прежде не рассматривала себя – взглянет мельком в зеркало, чтоб причесаться, и все, а тут глядит, точно видит незнакомого человека, не сразу замечает приход тетки, которая снова накидывается на мужа:
– Не хозяин ты, а настоящий иждивенец! Другие мужики все по дому делают, а тебе лишь футбол с хоккеем смотреть и газетой шуршать! На мне весь дом держится, я одна за вас двоих вкалываю! Сколько раз говорила: залазь на крышу, проверь, не потечет ли, когда зачастят дожди, а тебе хоть бы хны, как с гуся вода! И Антон тоже от домашних дел отлынивает!..
Чтобы не попасть на глаза к тетке, Антон вылезает из окна во двор: «Вот будет крику, что сбежала и что ее косынку унесла!».
Небо над поселком тускнеет, мутные облака касаются вершин деревьев.
Антон бежит к санаторию и у поворота на шоссе сталкивается с Данькой Чижовым.
– Погоди чуток, – просит мальчишка.
– Некогда – спешу, – отвечает на ходу Антон, но Данька обгоняет, встает на пути.
– Коль хочешь за вишнями звать, то ступайте без меня, – говорит девочка.
– Не о вишнях, о другом хочу предупредить, – Данька мнется, собирается с силами, набирается смелости: – Вольдемар, что с матерью приехали, треплется. Вначале хвалился, будто отец конструирует ракеты, запросто с космонавтами якшается, катался на лыжах в Швейцарии…
Чтоб наших задобрить, перетянуть на свою сторону, ласты одалживает, угощает иностранными сигаретами и жвачками, пепси-колу всем покупает.
– Знать, мать деньги дает без отчета, – перебивает Антон.
– Сегодня о тебе заговорил, – дойдя до главного, Данька замолкает, отводит от девочки глаза. – Хвастал, будто стоит свистнуть и ты с ним куда угодно пойдешь, что перед ним ни одна девчонка не устоит. Наши, понятно, не верят, а он предложил идти на спор.
– И на что спор?
– Если он выиграет, мы его станем на себе катать, а проиграем – отдает ласты.
Антон не сразу находит, что ответить, – услышанное оглушило. Разглаживает на юбке складку, прислушивается к чуткой, стерегущей вечер тишине и приказывает:
– Бери ноги в руки! Пошли к этому Вольдемару.
– Его найти надо.
– Знаю, где встретим. Потопали!
Девочка бежит к мостку через искусственный пруд, за которым начинается территория санатория, к облокотившемуся на перила Вольдемару, который тренируется в плевках.
– Приветик! – еще издали здоровается Антон.
Вольдемар с улыбкой протягивает билет:
– Держи. Танцы сразу после окончания ужина, успеешь переодеться. Я буду ждать у входа.
Антон насупившись смотрит на молодого курортника, словно желает высмотреть что-то скрытое, и зовет:
– Данька, вылазь!
Из-за кустов выходит Данька.
Антон забирает у Вольдемара билет, отдает его опешившему Даньке:
– Раньше на танцы в санатории в щель смотрел, теперь сможешь законно пройти и танцевать до упаду.
– Ты… – начинает Вольдемар. – Ты же… я же…
– Нужны мне танцы! – дергает плечом девочка. – Лучше лишний раз искупнусь.
Сдергивает с головы косынку. На ходу снимает платье, оставляет его на фатке и с разбега бросается в волны.
Когда выныривает, видит вокруг на воде блики закатного солнца, похожие на мандариновую кожуру. Подплывает к «кожуре», бьет по ней ладонью, пятнышки пропадают, чтобы появиться вновь. Антон бьет снова, но не попадает, видимо, мешает попавшая в глаза соленая вода, а может, виноваты слезы.
Месяц падающих листьев
Бывают истории, которые промелькнут и исчезнут, как птицы, но навсегда остаются в памяти людей, ставших невольными их свидетелями.
К. Паустовский
Старый печник
Эти ласковые дни бабьего лета я живу в селе Ахтубинской поймы, в скрипучем при каждом шаге по рассохшимися половицами пятистенке. Фамилии и отчества хозяина не знаю: спросил, а в ответ услышал невнятное бурчание, по этой причине зову звучным и редким именем Прокоп. В свои семьдесят с гаком лет Прокоп кряжист, не лишен силенок, памяти, в округе его знает каждый – слава об умелом, прекрасно знающем свое дело печнике гуляет далеко за пределами района. От городка Краснослободска до затерявшегося в дельте хуторка Грачи не сыскать дома, где бы не радовала зимой печь, сложенная искусными руками Прокопа.
День в Дятинах начинается густым, похожим на разбавленный молочный кисель туманом. Он приходит с озер и из ольхового леса, где обнимает деревья, стелется к земле и не спеша двигается на Дятины, проступает каплями холодного пота на окнах и тает к выходу скота на пастбище.
По утрам Прокоп выходит на крыльцо, смотрит из-под руки на крутояр, где стоят школа, медпункт, продуктовый магазин, и говорит:
– Дремлют Дятины, точно от спячки никак не отойдут, когда как осенью дел невпроворот. В мокропогодицу село вида не имеет, то ли дело поздней осенью или зимой, тогда из каждой трубы дымок поднимается, в печах дровишки постреливают, в домах калачами и топленым молоком вкусно пахнет. Без печи не жизнь, а сплошная мука.
Я слушаю словоохотливого хозяина, а туман тем временем уползает к реке, озерам, стелется над ними подсиненным дымком.
– В Англии, слышал, ставят не печи, как у нас, а камины, – продолжает Прокоп. – Оно, конечно, с газом иль паром жить скучно – тихое это отопление. Иное дело русская печь, в ней дровишки постреливают, натуральный огонь виден. Я так скажу: далеко всяким каминам, «голландкам» до нашей печки. Топишь тот камин, а весь жар норовит в трубу шугануть, одна видимость тепла. То ли дело наша, хочешь – искупнешься в ней, хочешь – хлеб испечешь, спать на ней завалишься. Без нашей русской в доме полнейшая скука…
Прокоп щурит подслеповатые глаза, поправляет на носу очки, подвязанные к одному уху шнурком.
– По всему выходит, что печник для людей главней главного. Что есть почетнее, как не людям тепло дарить? И тем, кто всего достиг в жизни и кто без счастья кукует, надо обогреться, чтоб душа оттаяла…
Печник пребывает в добром расположении и рассказывает, как мастерство кладки печей перенял от отца, а тот по наследству от своего, был бы сын Роман с головой, понимал важность профессии печника, не пошел бы в шофера-дальнорейсовики, не колесил бы по стране, а тоже радовал людей теплом.
Мы завтракаем разваренной картошкой, щедро политой сметаной, посыпанной луком, запиваем топленым молоком. За окнами над поймой не спеша поднимается солнце, последние облачка тумана редеют среди устлавших берега озер одолень-травы, острой осоки. Начинается новый день, похожий на вчерашний, и в то же время по-своему неповторимый, ведь даже две зорьки не бывают одинаковыми, не говоря про дожди – то затяжные, то лениво моросящие с безразличного неба, то с глухими грозами.
Стоило выйти из дома, как с дороги вспорхивает стайка полевых воробьев. Их спугнули девушки – одна с тяжелой русой косой на груди, вторая с гладко зачесанными на пробор волосами. Девушки спешат на ферму кормить утиное хозяйство.
Птичницы поздоровались, одна что-то шепнула подружке, и та, зардевшись, смутилась. На дорогу снова слетаются прожорливые воробьи, начинают задираться из-за хлебной корки.
Из-за моря, моря теплого
Птица прилетела,
На мое крыльцо, на девичье
Отдохнуть присела… —
запевает одна из девушек.
Ты скажи мне, птица дальняя, —
Я ее спросила, —
Где любовь моя все бродит
Или позабыла?..
Я невольно заглядываюсь на птичниц, шагающий рядом Прокоп говорит:
– Та, что выше ростом, – Алька Фомина, по ней завклубом сохнет, она его на расстоянии держит, точно хочет углядеть, что он за человек, можно ли совместную жизнь строить…
Я знаю о неразделенной любви моего ровесника, жалею, что не успел как следует рассмотреть ту, из-за которой «погибает» Степан Жилин, но Алька с подругой пропадают в балке.
В воздухе кружится паутина, она садится на лицо, пролезает за воротник – стряхнуть невидимую невозможно.
На развилке прощаюсь с Прокопом, ухожу на озеро Убегайка, прозванное так за неустойчивый характер: весной широко разливается, затопляет луга изумрудно-зеленой неколышимой волной, к середине лета убегает (вот, оказывается, причина названия!) в балку, оставляет после себя поникшие кувшинки и топь.
В озере водятся линь и красноперка, но, как и приютившая их Убегайка, рыба непостоянна, иногда спешит налезть на крючок, чаще не прикасается к наживке. Не будучи заядлым рыболовом, прощаю рыбе шалости, не сержусь, когда в хутор возвращаюсь с пустым ведерком.
Встречаю завклубом – кряжистого, раздавшегося в плечах, недавно вернувшегося со службы в армии. Внешне Степан совсем не подходит для руководства небольшим клубом – такому бы в кузне молотом махать. Парень сидит на валуне, читает справочник киномеханика, зубрит правила противопожарной безопасности при демонстрации фильмов. Степан мечтает сдать экзамен и перейти на работу в районный кинотеатр, хотя знает, что при наличии в каждом доме телевизора зрителей будут единицы.
Я не хочу отрывать Степана от дела, но он поднимает голову с чубом на крутом лбу.
– Завтра лекция, а после, чтоб народ собрался, танцы. Под магнитофон танцевать не желают, подавай живых музыкантов, а где их взять? Пригласить, так изволь платить, а денег нет даже на побелку и починку дверей.
Отвечала птица дальняя:
«Не скорби, не сетуй.
Коль весной любовь не явится,
Значит, будет к лету…»
Завклубом замолкает, становится грустным, видимо, вспомнил, что на счету клуба считанные рубли. Мне жаль Степана, но чем могу помочь?
– Сдам на киномеханика и в райцентр перееду, – признается парень.
Я догадываюсь, отчего желает бросить Дятины – причина в неразделенной любви, но верю, что Алька обратит внимание на завклубом, сделает его счастливым, и Степан останется в родном хуторе…
Ветер гонит по заросшему ромашками лугу белые волны, словно это маленькое море, до краев заполненное лепестками. Ромашки похожи на девчат-подростков, принарядившихся к празднику в платья невест, цветы стелются под ветром к земле, но тут же выгибаются.
Над Убегайкой и лесом висит янтарное осеннее солнце. Молчаливый лес кажется мудрым, не желающим понапрасну тратить дорогие для него шорохи.
Я сижу под деревом, как на палубе гриновской бригантины. Красно-оранжевые клены, точно алые паруса, готовы надуться и унести в голубые дали, к ненанесенным на карты островам: дожидаясь попутного ветра, лес стоит на приколе в приозерной гавани…
Назад в хутор выбираю путь подлиннее – по-над озером, через массив помидоров, мимо скошенной травы по луговине.
В доме втыкаю в горлышко пустой бутылки бронзовую дубовую ветку, и в горенке становится светлее, праздничнее.
– Всю осень в дом не принесешь, – замечает Прокоп и зовет стряпать обед.
Не успевает в котелке вскипеть вода, как за окнами слышится журчание. Это в заморскую страну летит стая нырковых уток, но у нас птицы делают круг, опускаются на озеро. До утра изморенные трудным перелетом утки пробудут на Убегайке, когда же просветлеет кромка горизонта, снова поднимутся в синь неба.
От удовольствия чмокая, Прокоп ест грибной суп, говорит:
– Как ни считай, а лету конец. Не скажу, как для других, а для меня приход холода в радость – со всего района приходят звать печь чинить, трубу чистить, новый очаг сложить… Нет чтобы загодя, весной аль летом о печи побеспокоиться, так ждут, когда осень в дверь стукнется.
С каждой минутой во дворе все длиннее делаются тени. На свет в доме в окна бьется мошкара.
Я достаю полевой дневник – прошнурованную тетрадь отряда лесоустроителей. Сделать новую запись нельзя – ничего не сделано по причине отсутствия членов экспедиции. Что их задержало в Волгограде? Утрясают смету, готовят снаряжение, подыскивают рабочих? Прибыл в пойму первым и скучаю от безделья. Наш отряд таксаторов проводит на природе по пять месяцев, чтобы осенью, зимой оформлять документацию. Пока не льет с неба, не сыплет снег, проводим почвенные, лесотопологические, геоботанические исследования, иной раз приходим в места, где раньше не ступала нога человека, и на карте одним белым пятном становится меньше.
В дом заглядывает хуторянин и уводит Прокопа в чайную, где за стаканом сливянки станет рядиться с печником о работе. Прокоп узнает, что надо делать, назначит цену.
Вернется поздно, долго будет выискивать на дверях щеколду, топтаться: «Провалиться ему в тар-тарары! Любого обманет. Знаю про это, а больше идти некуда…»
Прокоп имеет в виду буфетчика – человека с увертливыми глазами. Однажды буфетчик бессовестным образом обсчитал печника, мало того, налил разбавленного пивка.
Прокоп не стал при всем народе скандалить, выводить буфетчика на чистую воду, затаил обиду. Вскоре представился случай отомстить: в чайной стала дымить широкая, занимающая полкомнаты плита. Кого звать на беду, если не Прокопа?
Печник обошел плиту, ощупал жилистыми чуткими пальцами и приступил к ремонту, готовясь сработать буфетчику плиту точно так, как тот ведет торговлю: обвешивая, недоливая, обсчитывая.
Когда был разобран дымоход, замешена глина и Прокоп приступил к перекладке, неожиданно для себя понял, что не может мстить в любимой работе, в другом деле – пожалуйста, но только не в печном, портить не позволяла совесть мастера. Подвернулся другой случай, и Прокоп обязательно отомстил бы буфетчику, но только не в работе.
Плита в чайной удалась на славу. Я сиживал возле нее в осенние дни, угощался солянкой, квашеной капустой и слушал, как печь тихо пела, дивился своеобычному мастерству русского человека, исстари умеющего оживить даже неодушевленный предмет, заставить его говорить лишь ему присущим голосом.
Мыши
По ночам дом наполнялся попискиванием, шорохами.
Это подавал о себе знать не домовой, а вылезали из нор, гуляли по горенке обычные мыши. Мы с Прокопом, не шевелясь, следили за жителями подпола.
Одну мышь приметили сразу: она была светлее других, хвост обрезан. Я было решил, что это след зубов кошки, но вспомнил, что даже самая захудалая не уживалась в доме печника. Одна удрала на второй день в лес, и с тех пор Прокоп ее не видел, видимо, кошка попалась трусливая, боящаяся мышей. Серый кот попался скучным, целыми днями дремал на солнцепеке, а ночами забирался подальше от мышей на печь и оттуда смотрел на них, разгуливающих по дому в поисках еды. Глаза кота, как лесные гнилушки, горели зелеными огоньками. Мыши не обращали на кота никакого внимания, не боялись его, по всему, презирали за трусость.
Несколько дней Прокоп и я терпели кота, когда же терпению настал конец, вернули прежним хозяевам.
– С мышами веселее, нежели с такой кошкой, – решил хозяин. – Дом этот отец ставил, прежний, дедовский, сгорел в грозу, всем хутором новый помогали отстраивать. Заселились, и стало чего-то не хватать. Не сразу надумали, что отсутствует сверчок, душа требует верещания. Пришлось отцу просить соседей одарить сверчком, с тех давних пор тот сверчок прижился за печкой, мышей никто не приносил, не звал, сами без спроса явились…
Вскоре я привык к покряхтыванию хозяина, шорохам мышей, верещанию старого сверчка, к проникающим из леса запахам мяты, ковыля, еще чего-то неугаданного.
Однажды проснулся оттого, что пахло сыростью. Зажег спичку и в ее блуждающем свете увидел на полу чуть ли не на вершок воду.
– Река из берегов вышла, редко по осени случается, год на год не приходится. Видать, на гидростанции чего-то мудрят. Изба-то в низине, вот и затопило.
Весь тот день мы изгоняли из комнат воду, но ее было много – за крыльцом она стояла спокойным озерком, в котором купались ромашки, плавали опавшие листья. Уже махнули было на все рукой, когда вода начала тихо уходить сама, просачиваться в щели на полу. В спешном порядке пришлось вытаскивать бочки с соленьями, накопанную в начале осени картошку, корзины с яблоками. Изрядно утомившись, уснули как убитые, а утром, к удивлению, воды на полу как не бывало, о вышедшей из берегов Ахтубе, затоплении в Дятинах низины напоминали лишь мокрые половицы. К вечеру пол окончательно высох, подсохли двор, огород, можно было успокоиться, но очередной ночью я не мог уснуть. Отбросил все заботы, мысленно считал слонов, но сна не было ни в одном глазу. Не спалось и Прокопу, он кряхтел, жевал губами, ворочался с боку на бок. Прислушался и услышал:
– Утопли, бедные…
– Вы о ком? – спросил я.
– Про мышей, душа за них болит, сердце щемит, не спаслись в чертов разлив. Сильно привык к ним, без мышат будто осиротел, обокрали…
Днем я отыскал Родьку, с кем ходил удить рыбу, попросил поймать и продать несколько мышей. Мальчишка заморгал опаленными солнцем ресницами, на лице ярче проступил рой веснушек. Я повторил просьбу, обещал за каждую мышь платить по рублю.
– А они вам для какой надобности? – поинтересовался мальчишка.
Я не хотел открывать секрет, спросил в свою очередь:
– Ты червей мне копал?
– Ну копал, – кивнул Родька.
– Теперь хочу на мышей рыбу ловить. Слышал краем уха, будто здорово сом клюет на мышей.
Родька мне не очень поверил, к тому же сомы в Ахтубе не водились, и к полудню принес в полиэтиленовом пакете двух мышей. Не спрашивая, как и где он сумел поймать серых грызунов, протянул два рубля.
– Добавить надо, – Родька спрятал монеты. – Одна мышь, задери ее коза, крупная, с котенка.
В доме я выпустил мышей. Одна действительно была крупная – Родька не соврал, вторая поменьше. Мыши осмотрелись по сторонам и шмыгнули в щель пола.
Новой ночью я с нетерпением ожидал, когда мыши начнут обживать новое место. Наконец показалась крупная, за ней вышла вторая.
– Прокоп! – боясь спугнуть мышей, тихо позвал я.
– Чего? – отозвался печник.
– Глядите, Прокоп!
Хозяин привстал с полатей, всмотрелся в полумрак.
– Ишь ты, а я-то думал невесть что… Выходит, живучая животина. Не видать бесхвостой, видно, загуляла где…
Этой ночью Прокоп спал спокойно. За печкой, сбиваясь на низкие ноты, убаюкивающе турчал столетний старый сверчок…
Утром ко мне пришел Родька.
– Мышей принес, полдюжину, и все крупные, как на отбор.
Мальчишка держал ведерко, в котором царапались мыши.
– He нужны больше мыши, – разочаровал я Родьку, и тот несказанно удивился:
– Это почему, это как же? Вчера были нужны, а ныне нет. Я старался, да и по дешевке отдам.
– Напрасно старался. Неверно в книге говорилось, это прежде рыба брала на мышей, а теперь поумнела и лишь на мошку клюет.
Опечаленный Родька ушел. Позже я узнал, что мышей не выбросил, а выпустил у себя дома, надеясь, что ему еще подвернется чудак, которому потребуются живые мыши.
Дипломат
Еще издали, подходя к развилке дорог, чтобы дождаться транспорта в райцентр, увидел бригадира овощеводов Ивана Прибыткова и совхозного сторожа, хромоногого, не расстающегося с суковатой палкой, умудренного жизнью Костюкова.
С лысых верб кричали грачи, несколько птиц поднялись с деревьев и никак не могли усесться на ветви.
– Верно поступил, что удумал променять нашу житуху на городскую, и я бы драпанул из села, да только годы уже не те, чтоб заново все начинать, – размышлял старик, усевшись на пенек, разложив на коленях платок с горбушкой хлеба, парой луковиц и шматком домашнего с прожилками сала. Костюков аккуратно отрезал тоненькие ломтики и отправлял в рот.
– Главное, Ваня, в жизни свою тропку узреть и назад не оглядываться – назад одно жулье глядит, когда в чужую хату норовит залезть, а ты держи нос по ветру. Как узнал, что разругался с директором, написал заявление на расчет, настрополился покидать Дятины, решил проводить. Растолкуй, отчего совхоз бросаешь?
– Неужто не слышал? – удивился Иван. – Бухгалтер со счетоводом быстро по хутору разнесли весть, что уволился. С начала лета бригадирствую, а людей раз-два и обчелся: положено десяток, а на деле вкалывают четверо. Потребовал людей дать, а директор: «Плохо с кадрами, нет лишних рабочих». Еще с Нюркой сцепился. Я ей: «Отчего два дня прогуляла, кто за тебя станет работать?», а она: «К подружке на свадьбу ездила». Спорить с Нюркой себе дороже, выведет из себя и не чихнет.
Ивана Прибыткова я впервые видел жалующимся – знал парня другим.
– Напрасно сцепился с Нюркой, ей пальца в рот не клади, мигом откусит, – продолжал старик, пережевывая хлеб с салом. – Не лез бы к ней, приказал отработать прогулы – и дело с концом. Не у тебя одного плохо с людишками, в других бригадах тоже не хватает, особенно во время сева и уборки. Комбайнеры который сезон работают без смены, вкалывают по пятнадцать часов.
– Чего за мной увязался. Иль в городе какие дела?
– Поручение в районе имею. Еще тебя провожу как земляка, как известного с малолетства – помню бесштанным, сбивающим в чужих садах яблоки. Слушай и на ус мотай, хотя усов не имеешь. Прими совет от всего сердца: бойся водки и женского пола. Водка с ног собьет, станешь опохмеляться – и выгонят с любой работы. И женщины не доводят нашего брата до добра, норовят обже-нить, захомутать, лишить свободы. Бабы попадаются хваткие – не вырваться. Еще бойся города, город – это тебе не Дятины и не райцентр, в городе соблазны на каждом шагу…
Старик щурил узкие с хитрецой глаза, чмокал губами: то ли сало пришлось по вкусу, то ли Костюкову нравились собственные речи. Изредка косился на развилку, надеясь высмотреть машину.
– И еще скажу по-честному: деньжат не транжирь, без них в городе на гроб с музыкой. Опасайся дружков, кто любит провести время за чужой счет, тащат залить за воротник и липнут, что мухи на мед. Лично я таких шаромыжников чую за версту, и ты, гляди, нюха не теряй, а то, как та борзая, за спасибо в водке потонешь.
– Ладно тебе, – мотнул головой Иван. – По-твоему, на свете живут одни жулики?
– Этого не говорил, хорошего народа больше, да только усмотреть его надо. У одних доброе внутри спрятано, у других прет наружу. А есть такие, кто лишь о себе пекутся, на других им наплевать с высокой колокольни. Гляжу на тебя и деда твоего вспоминаю. Тоже непосед-непоседой прожил, то с Махно дружбу вел, то к Котовскому переметнулся, почти каждый год профессию менял, служил в охране на заводе, в столовой у плиты с поварешкой стоял, подметки набивал, плотничал, подсолнух выращивал, думал на семечках разбогатеть. Ты, видать, в деда, тоже на месте не сидится, от добра бежишь, непонятно куда и Альку Фомину оставляешь. Смотри, как бы замуж за завклубом не выскочила. Вижу, как приглядываетесь вы с ней друг к дружке, нравишься ей, и она тебе, а бежишь, словно чего испугался. Вторую, как Алька, не найти, потеряешь, весь век будешь локти кусать.
Иван пнул сапогом чемодан, сделал пару шагов по дороге, что уходила в райцентр. Постоял и вернулся.
– Продолжай, дядя Захар, без разговора заснуть можно.
Старик собрал в платок недоеденный хлеб, сало, завернул, затолкал в карман.
– Не провожать пришел, а попрощаться, по всему, больше не свидимся.
– Это почему? – удивился Иван. – В Дятинах у меня сестра с племяшами, родительский дом, откуда уходил служить и куда вернулся, родина, одним словом.
– Уйдешь и потеряешь родину. Она-то без тебя не пропадет, а ты вряд ли выдюжишь, тоска заест, покоя лишишься. В городе все будет чужим, не то что тут. Город сразу к рукам приберет, выжмет, точно мокрую тряпку. – Закончив есть, старик вытер ладонью губы, еще раз причмокнул, повел взглядом по вершинам верб. – И чего это птицам в заморских краях не живется, каждую весну домой возвращаются, а иные вообще родные края не покидают? Слышь, Ваня, как кричат? Это не желают покидать родимую сторонушку.
Иван, а за ним я запрокинули головы, и грачи, почувствовав, что разговор коснулся их, распушили перья, защелкали клювами, загалдели еще громче.
– И птенцов не где-нибудь, а у нас выводят, – продолжал старик, – не желают плодить потомство с заграничной пропиской.
Иван поправил на голове фуражку, поднял с земли чемодан.
– Ты куда? – удивился старик. – ждал и вдруг невтерпеж стало. Пешком в район лишь к завтрему дошагаешь.
Иван повел взглядом по ухабистой, размытой сошедшими снегами, вешними дождями дороге и зашагал к Дятинам.
– Домой? – уточнил старик. – Тогда погоди, по пути будет.
– Ты же в райцентр собрался.
– Было поручение, да выполнил. Спасибо тебе, Ваня.
– За что спасибо?
– За то, что на мою агитацию клюнул. Вызвал вчера директор, так и так, говорит, Прибытков лыжи навострил, от дурости работу с хутором покидает, вправь парню мозги. Сейчас приду и сразу к директору, пусть премию выписывает – заслужил.
– Вот уеду и останешься без премии, – засмеялся Иван..
Старик перепугался не на шутку:
– Да ты что? Иди, Ваня, и назад не оглядывайся!
– Ну ты и дипломат, – усмехнулся парень и зашагал к хутору.
Костюков засеменил следом.
Подъехала тряская полуторка, у развилки приостановилась, забрала меня и, взревев, покатила дальше, оставляя позади семейку верб с кричащими грачами.
Второй цвет
Это неслыханно, чтобы осенью, второй раз в году зацвела черемуха, к тому же лишь един куст, растущий у дома Прокопа: черемуху печник привез в Заволжье из-под Рязани.
У зацветшего куста невольно останавливается каждый, смотрит на белые махровые кисти и вспоминает весну. Ветви черемухи доверчиво тянутся к людям, чуть покачиваются, словно приветливо кивают.
Прокоп не раз подвязывал тяжелые ветви:
– Желаю, чтоб в поднебесье глядели, ан нет – вширь растут. Видать, не желают с птицами жить, к людям тянет.
Печник кашляет в кулак, вспоминает, в какие стародавние времена случался у черемухи второй цвет, считает, что цветет черемуха исключительно к счастью, помогает не болеть, может «присушить» любого, для чего стоит подарить любимому ветку. Про поверье старик говорил не мне одному, о чудесной способности черемухи в Дятинах слышал чуть ли не каждый.
Черемуха радовала неделю, утром в пятницу куст оказался нещадно обломан. Варварства Прокоп не мог простить: грозил неизвестным кулаком, на чем свет стоит поносил ночных грабителей. Не дожидаясь, когда хозяин успокоится, я собрался на Ахтубу.
День обещал быть ясным, сухим. К сладкому запаху дубовых листьев примешивалась сырая пахучесть грибов. Уже нежаркое солнце не успело высушить обильно выпавшую росу, отчего я вскоре промочил ноги.
У спуска к реке, у поросшего жухлой травой холма проживала с матерью Надя Суслина, я частенько встречал ее возле животноводческой фермы или после окончания рабочего дня у речной запруды, где девушка задумчиво провожала взглядом проплывающие пучки соломы.
– Здрасьте! – поздоровалась Надя. Она стояла у калитки – то ли вернулась домой, то ли после утренней дойки собралась идти чистить коровник. Рядом с Надей стояло полное колодезной воды ведро, я попросил угостить.
– Это водой-то? – удивилась Надя. – Приходите на ферму, обопьетесь парным молочком.
Пока я глоток за глотком пил удивительно холодную воду – от нее стыли зубы, – Надя потупясь смотрела на меня, когда взгляды наши встретились, отвернулась.
– Чего в клуб вчера не приходили? Иль не любите танцевать?
– Меня никто не ждал, – признался я.
– В городе, поди, ждут.
– Родители.
– И только? А девушка?
– Чего нет, того нет.
– И не женаты?
– Могу показать паспорт – печать отсутствует.
– Нужен мне ваш паспорт! Отсутствие печати ни о чем не говорит: многие живут не расписавшись.
С реки донесся дробный стук – стучали по дереву, видно, клепали лодку – гулкие удары бежали по воде.
– Придешь проводить?
Надя напряглась:
– Уезжаете?
– Завтра прибывает мой отряд.
Надя смотрела мимо меня, затем побежала в дом, забыв кружку и ведро.
Признаюсь, расставаться с хутором, неговорливой Ахтубой, озерами было грустно. Ведь я прозевал ивановские ночи, когда, как рассказывали сведущие люди, обязательно отыщешь клад, вволю не находился по лесу в поисках грибов; проглядел яркие на небосводе звезды. Мимо меня прошел август – русский месяц-хлебосол, или, как его прежде называли, «густырь», уже начал неторопливый путь сентябрь – шли задумчивые, как Надя, дни позднего лета…
На следующий день в Дятины приехал начальник экспедиции, чтобы увезти к товарищам, расположившимся у ерика Каширин, протянувшегося на десяток километров по Волго-Ахтубинской пойме.
Наскоро собрал вещички, поблагодарил хозяина за гостеприимство, хлеб-соль.
– Будете еще в наших краях – заходите, – пригласил Прокоп и покосился на обломанный куст черемухи, где оставалась одна кисть. – А любовь, промежду прочим, от сердца палкой не отогнать.
– Вы о чем? – не понял я.
– Вам и невдомек, а людям страдание и мне беспокойство, – старик сокрушенно вздохнул.
Я собрался успокоить, сказать, что весной куст зацветет еще гуще, но старика уже не было рядом. Решил проститься с Надей. Прошел огородами к ее дому, стукнулся в дверь, но никто не вышел, в ответ лишь загоготали в сарае гуси.
Я затворял калитку, в последний раз посмотрел на дом Нади и только сейчас увидел на окне в банке букет черемухи. Так вот, подумалось, кто ночной грабитель цветов.
Ветер гонит по дороге, собирает в кучи сухие листья из ближайшего дубняка, похожего осенью на сшитое из разноцветных лоскутков одеяло. Вчера лес выглядел бледным, окутанным серой мглой, ныне по нему разгулялось разноцветье. Я слежу за полетом листьев, вспоминаю строки Лонгфелло:
А твое дыханье сладко,
Как цветов благоуханье,
Как дыханье их зарею
В месяц падающих листьев…
Лес горит ярким костром, неохотно прощается с листвой, у этого костра греются завклубом и птичница Алька. Они не замечают ни меня, ни всего вокруг, для них сейчас весна, буйное цветение, названное тем же Генри Лонгфелло просто месяцем листьев.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































