Читать книгу "Дневник"
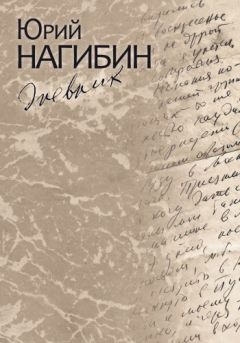
Автор книги: Юрий Нагибин
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: 12+
сообщить о неприемлемом содержимом
Это – в ответ на его мрачные рассказы о колхозном подсвятьинском бытии.
– А мне не надо другой жизни, – сказал он серьезно и твердо. – Я весь свой век прожил у воды, и что можете вы дать мне лучшего? Я свою жизнь ни на какую другую не сменяю, подавитесь вашим светлым будущим.
Я устал и записываю это торопливо и небрежно, но сказанное им прозвучало очень сильно. Все их рассуждения обернулись такой мертвой пошлостью, что, кажется, они и сами это почувствовали.
Потом был еще интересный разговор на заваленке возле избы Анатолия Ивановича. Праздники находили на праздники, Пасха перепуталась с Первомаем, и деревни округ упорно, невесело спивались. Я курил на пороге, когда почти одновременно ко мне подошли Дедок и Женичка, брат Анатолия Ивановича. Дедок – серьезный, благостный и трезвый; Женичка – напряженный, мрачный, как-то долго и не до конца пьяный. Они тут же заспорили, не помню о чем поначалу, но затем разговор быстро перешел на науку. Женичка науку отвергал.
– Наука, наука, какая еще наука! – говорил он своим вздорно-гнусавым голосом и как-то едко отхаркивал на землю.
– А спутник? – чуть робея перед пьяным, спрашивал Дедок.
– Ты видал, что ль, этот спутник? А я видал? А он видал? Кого ни спросишь, никто не видал. Глупость все это, выдумка для газет.
– Компас… – растерянно проговорил Дедок.
– Да это магнит, а не наука, – сказал Женичка, оплевывая все вокруг себя. – Да и его, может, лет сто назад изобрели.
– Это, пожалуй, верно, – согласился Дедок, сраженный Женькиной эрудицией.
Потом разговор, понятно, перешел на сельское хозяйство.
– Позорная наша жизнь, – сказал Дедок. – Я вон сто пятьдесят трудодней выработал, а мне приносят семь рублей пятьдесят копеек под расчет, да еще требуют в ведомости расписаться. Я говорю: не надо мне этих денег. Нет, бери, не задаром же ты работал. Просто насмешка какая-то. Ну неужели мой труд настолько хуже и ниже труда рабочего человека? Тот ведь за два дня столько получает, а я за весь год. А ведь мы хлеб работаем, хлеб, без него никакой жизни невозможно. За что ж нас так? Позорная наша жизнь, одно слово – позорная!..
– Это что! – сказал Женичка. – Я вон в армии, командиром отделения был, мне велели политбеседу провесть: о положении в гражданке. Расскажи, мол, про свой колхоз, какие у вас успехи, чтобы молодые солдаты восчувствовали, как без них жизнь дома идет. Ну, собрал я отделение и говорю, что поработали у нас крепко, получили по стакану ржи на трудодень, еще сеном и маленько деньгами. Назавтра вызывают меня в политотдел и давай башку мылить. Так-то ты своих бойцов воспитываешь, антисоветчину разводишь!.. «По стакану ржи на трудодень», ишь… и пошли стружку снимать. В общем, вкатили мне восемнадцать дней губы. А за что? Вот ты, Дедок, скажи, был ли такой год, чтоб нам по стакану ржи на трудодень выдали?…
– И по зернышку сроду не давали! – откликнулся Дедок.
– Ну вот! Это я для политики подпустил, а мне же – гауптвахту!.. Правда твоя – позорная наша жизнь! – заключил Женичка.
На том и угас спор. Только Дедок, испугавшись своей откровенности перед приезжим человеком, стал скучным пономарским и несерьезным голосом бубнить, что, видать, так нужно для политики, для поддержания разных черномазых народов и опять же для науки.
А вечер был прекрасный, древнерусский, с багряным закатом, отражаемым всей гладью подступившего чуть не к самой деревне вешнего озера.
Мы с Анатолием Ивановичем поехали охотиться на озерко, но не на то, дальнее, где мы были лет шесть назад, а на ближнее, «Петраково». Перетащив лодку через отмель, мы долго плыли полноводной протокой, затем оказались на широком разливе. Я думал, это и есть озерко, но Анатолий Иванович сказал: «До озерка еще далеко, это болото». Так здесь называют весенний разлив воды по заболоченной низине. Кругом творилось неописуемое: токовали тетерева, надрывались перепела, вдалеке заходился соловей, посвистывали чирки, потом заухал глухарь, затрубили журавли, и так нежно, прекрасно было мне посреди этого любовно озвученного весеннего царства.
Но охота обманула. На зорьке я подстрелил лишь одного чирика-свистунка. Потом, часов в семь, уже в дождь, мы переменили место, раскидали чучелов, и едва заехали в шалаш, как в метрах ста на чистом сел матерый селезень. Подсадная молчала, и я хотел уже выстрелить просто так, для разрядки, как вдруг подсадная издала нутряное, призывное: кря. Селезень сразу поднялся и перелетел к ней. Я видел, куда он должен опуститься, и заранее прицелился. Едва он сложил крылья и гордо выгнул медную шею с белым воротничком, как я выстрелил. Он даже не дернулся, сразу лег, утопив головку в воде.
– Не вышло поблядовать, – удовлетворенно сказал Анатолий Иванович.
После он рассказал мне, что бывают такие опытные кавалеры, что накрывают подсадную прямо с лета. Потопчут и прочь. Охотник боится погубить подсадную и обычно упускает селезня.
Воздух над озерком тошно душен. Среди деревьев в мелкой воде словно палая листва золотится. Анатолий Иванович подтянул веслом к челноку такой вот «палый лист», это оказался дохлый окунь, золотой от гниения. Зимой тут была запрещена рыбная ловля и рыбы задыхались подо льдом из-за нехватки кислорода. Когда лед сошел, все озерко оказалось в окаеме дохлой рыбы: лещи, окуни, сазаны. Это называется у нас охраной природных богатств.
Как противно похлопывает, скрипит и дышит внутренняя запертая рама, и задвижка ворочается в своем гнезде. Природа тоже осволочилась. Скажем прямо, это не лучший период моей жизни. Но ведь я одолевал и не такое. Нужно перетерпеть все это: неудачу и вызванную ею сонливость, работу над сценарием, от которой тошнит, скверную погоду и болгарские фильмы, идущие каждый день по телевизору.
6 июня 1962 г.
Тяжело происходит наше возвращение к тихой трезвой жизни. Мы прихварываем, много спим, разговор у нас не ладится. Нам скучно жить без надежды на грядущее перевозбуждение, забвение, на короткое безумие, за которым – нервный обвал, лунатическая выключенность из окружающего. Нелегко вечно трезвыми очами глядеть в лицо действительности, вернее, тому, что считается действительностью, а на деле является прямым ее отрицанием.
Когда дождь только начался, сирень запахла оглушительно, но сейчас не прекращающийся ни днем, ни ночью дождь словно смыл с нее запах. Я зарылся лицом в кисть, но она начисто лишена запаха, как дождевая вода.
Расцвел огромный оранжевый мак. Расцвел как-то мгновенно и широко раскинул нежные широкие лепестки. Кажется, что завтра он уже опадет.
Я пишу плохо, я не заряжен словами, как прежде. Видимо, не рождаются слова в такой усталости. Надо претерпеть это, надо, иначе – конец.
Лета, наверное, не будет. Ну что же, мы привыкли без столького обходиться, что обойдемся и без лета.
Днем светит солнце, но воздух холодный, к вечеру и по утрам холод прямо-таки собачий, спим с электрической грелкой. В саду пахнет сиренью, по вечерам ночными фиалками, но от холода какая-то робость в природе. Цветут оранжевые маки, желтые ирисы, лиловые анютины и «разбитое сердце», отцветают пионы, но в цветении этом нет летней щедрости, буйства, пряности; цветение вполнакала, в полсилы, неуверенное, жалкое, как и все в нашей жизни.
Я слоняюсь по даче, реже по саду. То в сотый раз прослушаю хулиганскую песенку Рики Зарайи, восходящей иудейской звезды, то старчески-жалобный голосок Даниэль Дарье, поющей «Подмосковные вечера» и «Пуркуа», то прокручу Дорис Дэй, которую мне хочется полюбить из-за ее дороговизны, то прочитаю, ленясь заглянуть в словарь, и оттого ничего не понимая, кроме похабщины, две-три странички Генри Миллера, то посюсюкаю над собачками, которых люблю сейчас меньше, чем обычно, то вдруг засну на террасе, в большой комнате или у себя наверху тяжелым дневным сном, после которого пасть отравлена выделяющимся из легких никотином, то сажусь к столу и лихорадочно, в который раз, пересчитываю свои доходы, то решаю, что я очень счастлив и мне не о чем мечтать, то весь обваливаюсь от горестного сознания своей ничтожности, малости и безвестности в мире, то равнодушно думаю о смерти, то озабочиваюсь каким-нибудь пустяком, и так проходит день.
Быть может, все это объясняется совсем просто. Я выбит из колеи резкой сменой жизненного ритма. Раньше я жил крутым чередованием пьяных загулов и неистово напряженной работой. Сейчас я не пью, я не прерываю будничного течения жизни мощью хмельного забвения, я все время с самим собой, со своим трудным, мучительным характером, со своей неудовлетворенностью и вечным ощущением неравенства тому, чем я должен быть. Наверное, должно пройти немало времени, прежде чем я научусь жить с тем тягостным и чужим человеком, которым являюсь я – трезвый.
Мой сон в грязной постели, запятнанной собачьей дактилоскопией, залитой чаем и кофе, с Геллой, которая по утрам становится фурией от неврастенической боязни недоспать, я называю «Морфей в аду».
Сейчас лучшее лето – зима, то есть пора, когда ты страстно ждешь лета, предчувствуешь его в каждой малости, строишь тысячи планов, дрожишь от нетерпенья, весь пронизанный летом. Но приходит лето, и ты чувствуешь растерянность, словно в первоклассном бардаке, куда попал в первый и в последний раз: надо выбирать, но на ком остановишь выбор, когда все так прекрасны, когда, выбрав одну, теряешь остальных? Так и маешься в страстной нерешительности до самого закрытия бардака.
Я слишком натренировался в «пространнописи» – она соответствует моему нерешительному, боящемуся завершения характеру. Теперь эта вязкость стала моим роком, я никак не могу избавиться от тягучей, страшащейся точки фразы, от длинного периода, от бесконечного описательства. Когда я начинал, то был куда лаконичней, скупей, современней. Мне кажется, что болтливость идет еще и оттого, что я обычно пишу не только о постороннем мне, но и о мало, плохо знакомом. Ведь я, в сущности, не знаю ни охоты, ни деревенского быта, ни природы. Стал бы я на десяти страницах расписывать телефонный аппарат? Конечно, нет. Я его знаю. Но я не знаю ни челнока, ни осоки, ни чирка, ни избы, и вот я топчусь возле них в тусклой и безотчетной надежде, что многословьем я как-нибудь зацеплю скрытую сущность предмета. Насколько лаконичней я в своем родном, настоящем писании: в дневниках, в письмах к Гелле, повести, некоторых рассказах о сокровенном. Там я знаю то, о чем говорю, и знаю, для чего говорю. Там каждый предмет пронизан моим отношением к нему. В писании на выброс я всегда должен отказываться от себя, должен творить мир, осененный моей добротой и благостной мудростью. Но во мне нет этой доброты и этой вонючей мудрости. Во мне есть только отчаяние, которое я должен загонять Бог весть в какие тайники. Отличие моих рассказов от сценариев лишь в том, что они велеречивей и написаны в прошедшем времени; человеческое – а значит, и художественное – содержание почти одинаково.
26 декабря 1962 г.
Подведем итоги в близости финиша этого странного и сложного года. Сделаем это по методу Моиза из «Бэллы» Жироду. Я издал толстую книгу в «Московском рабочем», но мой Трубников не вышел и вряд ли выйдет. Я написал кучу сценариев и заработал много денег, но сценарии, кроме короткометражки, пока что не ставятся, а деньги израсходованы. Я не поехал в Японию, но съездил в Грецию и Египет, побывал в Константинополе. Я написал три хороших рассказа, но лишь один напечатал, да и тот, как все у меня, прошел незамеченным. Я ездил в Прибалтику, но отдых был отравлен неопрятной четой Шределей и гнусным письмом Орловского в «Литературке». Я виделся со множеством корреспондентов и разного рода приезжими людьми, но, за ничтожным исключением, их интересовала Гелла, а не я. Ярко вспыхнула Геллина звезда, но замутилась поднявшимся со дна болот гнилостным смрадом. Я упоминался в печати, но лишь как сценарист. У меня вышли книги в Голландии, Венгрии, ГДР, но я их не получил и потому не ощущаю их как реальность. Обо мне вышла восторженная статья в Италии, но книги, давно обещанной, все нет и нет. У меня вышла книга на Кубе, моя фамилия стоит на обложке, но заполнена книга на девять десятых Стельмахом, а я представлен крошечным рассказом. Я получил новую машинку, но разбил ее. Я купил в Египте куртку, о которой мечтал, но облевал ее и погубил. Можно считать, что год сыгран вничью.
Канун Нового года я встречаю в жалком виде: сценарии меня расхлябали, я хочу писать прозу и боюсь к этому приступить, не верю в то, что слова мне подчинятся. Уродливым призраком навис над моим ближайшим будущим мрачный безрукий гад[55]55
К. Орловский – прообраз Трубникова. Ов травил меня в угоду своему постоянному певцу Я. Цветову.
[Закрыть], чьи воздетые в проклятии обрубки поддерживают на манер Аарона два грязных тина. Я твердо уверен, что вся эта история кончится для меня наихудшим образом: скандалом, потоками клеветы, невозможностью печататься в ближайшие два-три года. Я не умею плавать. Я пытаюсь плыть так, будто вокруг меня водная стихия, а вокруг – тяжелая смесь дерьма и гноя. Мне не доплыть до берега.
Но задача передо мной все та же: научиться писать. Не знаю, научусь ли я этому, но уже ничему другому наверняка не научусь. И потому надо собрать остатки мозга и сердца и вновь сесть за старую науку.
А для этого нужно опять научиться спать. Сейчас сон накрывает меня не надежным, темным пологом, а тоненькой паутинкой, сквозь которую доносятся все шумы, все запахи, все трепетанье ночной жизни. Это не дает отдыха голове, это окрашивает весь день какой-то сонно-беспечной легкостью. Надо спать глубоко, угрюмо-отрешенно, тогда и дневная жизнь обретет глубину, серьезность, сама запросится на бумагу.
31 декабря 1962 года, 12 часов дня Сижу у окна. Солнце освещает высокие сосны. Снег на них чуть розоватый. Молодые сосны под окном накрыты уютной тенью. Их ветви выложены снегом, а снизу торчат иголки. Каждая ветка в отдельности похожа на гусеницу: пухлая спинка и множество тонких ног.
В восточной стороне сад погружен в жемчужную дымку и небо там жемчужное, а на западе неярко-голубое. Но старые сосны и в жемчужном тумане светлы вершинами. А на даче тепло, уютно стучит машинка Я. С. Внизу наряженная елка: серебряная канитель, стеклянные шары, птицы, рыбы из папье-маше, островершек украшен красивым стеклянным шпилем. Там – мама с мытой, седой головой и черный Кузик, и добрый Рома, и порой заглядывает со двора Проня в жестко набитой снегом по завиткам шерсти. Хорошо пахнет борщом с кухни. Вот уж поистине уют в жерле вулкана! Как мужественны мы в этой жизни, как высоко несем свое человеческое в этом кромешном бреду. Ведь мы-то не слепы, мы все понимаем, а не сдаемся. Не знаю, как мои близкие, но я сдаюсь только ночью, когда засыпаю. Тогда меня душит ни с чем не сравнимый ужас, но я молчу о нем – это тоже мужество. Только бы подольше стучала машинка в соседней комнате[56]56
Отчим Я. Рыкачев.
[Закрыть], подольше б звучал внизу с годами грубеющий голос[57]57
Мать.
[Закрыть] – и все можно выдержать, ибо это – жизнь, настоящая, глубокая, не уступающая никакой самой великолепной жизни.
– 1963 -
1 апреля 1963 г.
Хотя это и пишется 1 апреля, но вовсе не в шутку.
Давно я ничего не записывал в этот блокнот: болел инфарктом. Тот самый звонок, которого я ждал с покорным, чуть тревожным и уверенным чувством, наконец-то прозвучал. Правда, я его планировал на исход четвертого десятка, ошибся лет на пять. Впечатление от пережитого вообще-то тусклое, незначительное. Быть может, оттого, что вокруг творился неистовый смрад, шло яростное уничтожение того немногого, что было дано после марта 1953 года, и мощно воняло трупом Сталина, собственный распад как-то обесценился, утратил значительность. При Сталине жизнь и смерть ничего не стоили, поскольку ничего не стоила нетворящая человеческая личность.
По правде говоря, я не очень испугался, да и сейчас почти не боюсь смерти, ставшей для меня куда более реальной.
Итак, инфаркт. Были сестры, были мучения с уткой, было желание курить, были маленькие радости: завтрак, обед, ужин, исчезновение полиартритной боли, но не было ни серьезной думы, ни серьезной муки, ни серьезности отношения к себе. Недвижный, я все же умудрялся убегать от себя во всякую чушь: в болтовню с сестрами, в патефонные пластинки, в Агату Кристи, в дремоту, в размышления о сценарных доходах – словом, все те же уловки, к которым я прибегал в полном здравии, чтобы уйти от рока. Инфаркт свободного человека – высокая болезнь, инфаркт раба – дерьмо. Самым стоящим в моей болезни была Катя, старшая медсестра. Она полна той замечательнейшей душевной серьезности, что сильнее грязной и подлой действительности, что отметает газеты со всей их вонью, и подымает над всем «золото человечье».
Сейчас живу странно: не курю, не пью, медленно двигаюсь. Мало и плохо работаю, показываюсь врачу каждые десять дней и делаю анализ крови при каждом удобном случае. Паршиво! И все же порой мне кажется, что это ватное существование лучше прежнего хождения по краю. Но, конечно, надо было испытать прежнее, чтобы знать ему настоящую цену.
Тех, кто не добрел, верно, грызет под старость сожаление: зачем, дескать, был я так осторожен, зачем сдерживал свои низкие порывы. Мне жалеть об этом не придется, я сделал все, что мог, и остановился не по благоразумию, а размозжив сердце.
Побольше бы охоты к писанию, и я был бы совсем спокоен духом.
Странно, иной раз о каком-нибудь паршивом кусте пишешь больше и слаще, чем о большом инфаркте.
11 апреля 1963 г.
Вот уже третий день, как началась весна. Осел снег, все будто прибавило росту: деревья, кусты, дома, заборы, скамейки. Колеи наполнились водой. Когда таяние только началось, снег даже окреп, на нем запеклась твердая корка, дневную талость схватывало ночью морозом. А сейчас нигде не пройти, проваливаешься по пояс. Небо голубое, прилетели первые грачи: большие, желтоклювые, родные. Как все прекрасно и трогательно в мире природы, как все грязно и мерзко в миро людей! Я не могу быть среди людишек: скучно, стыдно и ненужно. Водка делала сносным любое общение, без нее с себеподобными нечего делать.
Из последних сил борюсь с очумелостью. На моей стороне: снег, елки, небо, собаки; против – газеты, радио, сплетни и сплетницы всех мастей, телефон. Надо выйти из всего этого без потерь, с прежней нежностью и уважением к жизни.
5 мая 1963 г.
Я молодец, – вопреки семейному здравомыслию съездил на рыбалку и на охоту. Наловил порядочно рыбы, застрелил семь селезней (один, правда, ушел в заросли, и мы его не нашли). Было прекрасно. Немного сложно из-за той неуверенности в своих внутренностях, какую я теперь постоянно испытываю, от непрекращающейся ядовито-жгучей изжоги, от неуклюжести моего безобразно располневшего тела. Ну и не ловок же я стал; я – прежде такой ловкий, гибкий, безошибочный в движениях. Я залезаю в лодку с повадкой пожилой, жирной, к тому же еще беременной бабы. Все это было бы совсем грустно, если бы не то странное смирение и готовность принять худшее, которые мною сейчас владеют. Быть может, так и положено после инфаркта, но у меня ощущение, будто я дисквалифицировался по всем статьям. Но опять же я не слишком этим огорчен. Есть даже что-то уютное в отрешенности и равнодушии моих последних дней. И удобство в этом есть, я был необычно терпелив в шалаше, спокоен, когда не клевало.
Я точнейшим образом разгадал характер начальника охотбазы Каширского. В тот первый раз, когда мы были там с Геллой, он, большой, седой, грузный, пузатый, заветренный, среброзубый, называл ее «дочкой» и окружал отеческой заботой, а я твердо сказал себе, что это эротоман. Так и оказалось. Его жена, прерывая себя короткими, злыми всхлипами, рассказала мне о двадцатилетнем кошмаре их жизни. Еще в Астрахани, в сайгачьем хозяйстве, он не пропускал ни одной бабы и девки на участке. Он был вынужден покинуть Астрахань, потому что ему грозило исключение из партии за разврат. Здесь его укрыли от расправы. Но, поджидая жену, он спутался с грязнухой-судомойкой, а появление жены расстроило его свадьбу с какой-то теткой из села Барского. «Грязный, пустой человек, – говорила она о нем, – я думала, он хоть на работе хорош и строг, ничуть не бывало. Все знают про его грязные делишки, и никто с ним не считается. Он не может ни требовать, ни приказывать, на него все глядят с насмешкой и презрением. Свою зависимость от людей, свой страх он выдает за доброту и укоряет меня в злобе к людям. Я теперь всему знаю цену…»
Она знает цену всему, кроме одного. Когда в разгар этих страстных и тяжелых излияний к нам подошел Каширский, старый, безобразный, изолгавшийся и т. д., она глянула на него глазами влюбленной женщины.
Вечером озеро неправдоподобно натихло. Вода будто исчезла, стало два неба – одно вверху, другое внизу, – разделенные темной полосой леса. Вода розовая, простреленная острольдистой зеленой стрелой. Когда моторка шла по розовому, она оставляла за собой тоже льдисто-зеленый конусовидный след.
Зачем охотники так трудолюбиво, настырно и утомительно похабничают? Я этого не замечал прежде на осенней охоте. Неужели все дело в том, что весна, что селезни летят наизготове, высунув свои бедные трубы, что совокупление царит в природе? Это и свобода от жен, и запах пороха, дарующий лихость, и водочка трижды в день, и мужская компания создают атмосферу удручающей низкопробности, так не идущей к прекрасной весенней природе и бедным милым птицам.
Позавчера мы с Леной[58]58
Моя бывшая жена. Саша – ее сын от первого брака.
[Закрыть] глядели с поднебесья, с девятого этажа, как во двор из парадного сбежал об руку с девочкой в необъятный мир Сашка, окончивший школу и получивший аттестат зрелости. Сашка заслуживает этого аттестата вдвойне, еще в канун выпускных экзаменов он сделал женой идущую с ним рядом девочку. И не важно было в тот момент, что мир, лежавший перед Сашей, вовсе не беспределен, что он весьма узок и беден, этот жестоко обкарнанный для всех нас мир. Сейчас Сашин выбег в большой, открытый на улицу всем пространством двор был ничем не хуже выхода английского юноши из дверей Итона или Оксфорда, Саша, очень высокий, узкобедрый, широкоплечий, с добрым и красивым лицом, шел так хорошо, свободно, нежно, уверенно, молодо и счастливо, что у меня сжалось сердце и выступили слезы на глазах.
Я испытал восторг, зависть и пронзительную боль от быстротечности жизни, и глубочайшее уважение к толстой старой Лене, так мудро, так серьезно послужившей великому делу жизни.
Хорош был и предвечерний час; в накрытый тенью двор падали горячие хлопья заката, пахло липовым цветом, мокрым тротуаром, и все было серьезно и полновесно вечерним успокоением, и никогда еще не был я так странно, слезно и кротко счастлив.
Опять появляется в доме Люська[59]59
Домработница. Мы очень с ней сдружились.
[Закрыть]. Странно, что в свое время я ничего не написал о ее самоубийстве.
Этот парень Олег, когда они расставались и все прощальные слова были сказаны, и Люська, шатаясь на своих длинных, больших ногах, стала спускаться по лестнице со смертью в сердце, в слабой голове, во всем долгом и жалком теле, так этот парень Олег закричал сверху:
– Люся!..
Она остановилась, пораженная внезапной, последней надеждой. Он сбежал к ней и, задыхаясь, сказал:
– Люся, хоть мы и расстались навсегда, ты не должна забывать о своем обещании достать мне через Николая Никифоровича канистру для бензина.
Люся накупила люминалу по поддельному рецепту и отравилась. В два приема она приняла восемнадцать порошков.
Наша новая, не осененная еще ни одной трагедией квартира явилась местом действия такого традиционного, истинно русского, всегда прекрасного гибельного поступка.
А потом Люся тяжело и долго болела; она вконец сорвала свой бедный организм, вынеся из Склифосовского порок сердца, туберкулез и психическое заболевание. Сейчас Люся поправилась, остался лишь порок сердца, вышла замуж и опять сошлась с Олегом. Все очень по-женски, очень по-русски, очень по-литературному.
Одновременно с Люсиной серьезной и глубокой историей разыгрался фарс в духе вахтанговских цанни из «Принцессы Турандот». Евгений Сурков, этот гладкий, велеречивый и неизвестно почему неблагополучный человек, отравился люминалом в ответ на исключение его из редколлегии «Литературной газеты». И у него был Склифосовский, и психическое расстройство, и санаторий, и выздоровление, но какое все это дерьмо по сравнению с Люсиными делами!
Распространился слух, что умер Драгунский. Мертвый он стал мгновенно и так горестно, так мраморно прекрасен, так глубоко значителен, человечески привлекателен, так слезно нужен, что теперь его живое, вульгарное, источающее шумную, неопрятную жизнь существо просто непереносимо. Живой Драгунский в подметки не годится Драгунскому-покойнику.
Говорят, что умирающий начинает за собой «прибирать». Вот я также с утра до поздней ночи прибираю за собой, не в физическом, а в душевном смысле. Я все время будто подвожу итоги, определяя ценность давних и недавних переживаний и людей, стоявших близко ко мне, и сделанного мною. Я словно пытаюсь оставить за собой порядок, чистоту, пытаюсь сохранить за собой лишь то, что было подлинно моим в этом мире.
29 августа 1963 г.
Был на прекрасной охоте в Калининской области. Надо ехать до Кимр, затем пятьдесят километров в сторону до Красных Выселок. Здесь находится база показательного охотхозяйства Росохотсоюза, гостиница, утиный заказник, загон с дикими кабанами, другой – с оленями, гараж и разные хозяйственные постройки. Отсюда мы двинулись грузовиком-вездеходом по чудовищным колдобинам и лужам до Лугино, где находится что-то вроде перевалочного пункта. Дальше шли пешком по мягкой, проминающейся земле вдоль узкой, заиленной, заросшей протоке километра два до канала. Отсюда – лодкой на моторе, а где и с помощью шеста, еще километров восемь. Одолели плотину, построенную бобрами; возле плотины, за лозняком, здоровенная бобриная изба. Старые бобры построили эту избу и отдали молодым, а себе начали строить новую.
Плыли мы ночью, высвечивая себе дорогу карманными фонариками. Раз-другой темными, округлыми, бескостными телами мелькнули у берега бобры. В глухой тьме добрались озерами – Петровским и Великим – до островной деревушки, где тоже находится база охотхозяйства: большая изба-пятистенка, а при ней старичок для обслуживания приезжих охотников. Старичок то и дело ссылается на свою темноту, непросвещенность, но разговаривает прекрасным тургеневским языком, изрекая свифтовские сарказмы о времени нынешнем и минувшем. Потом оказалось, что он был председателем сельсовета, в сталинские времена сел на десять лет, но через четыре года был выпущен и реабилитирован. Умница, хитрец, лентяй и неряха, он готовил нам ужасную уху и при этом с мнимой скромностью приговаривал: «Может, не потрафил?» Он ленился даже посолить уху, даже очистить рыбу, не говоря уже о специях, о которых он забывал, хотя все они были под рукой. Но играл он в доброго, рачительного хлопотуна, в заботливого, бескорыстного дедушку. Мне он на редкость пришелся по душе. Так прекрасно было его незлое презрение к нам, представителям погубившей его системы. Все остальные егери и служащие охотбазы были куда примитивнее и яснее в простой своей корысти.
Выделялся егерь с собакой. Чуть ниже среднего роста, почти квадратный, с втянутым животом и жестким мускулистым телом; волосы на крепкой голове светлые, редковатые. Очень моложав, хотя лет ему под пятьдесят. У него две дочери институт окончили, в Калинине жена, дом, хозяйство, а он пропадает на озерах, любит бродяжью жизнь. Появился очень картинно: сперва вбежал пес, великолепный дратхар, с башкой Бьернстьерне Бьернсона, только выражение умнее, печальнее и без глупой патетики. Затем донесся язычный мужественный баритон: «Тубо!», «Куш!», «Тубо, Фингал!», и в перезвоне металлических колечек охотничьей сбруи появился сам егерь: рубашка-ковбойка, на боку плеть до пола, на руке намотан кожаный поводок, на другом боку ягдташ и еще какая-то ременная петля, за спиной ружье в жестком чехле, пояс-патронташ туго обхватывал тонкую талию. Я с замиранием подумал: вот истинный знаток своего дела, бог охоты!.. В жизни все выходит по кривой. Этот егерь при всей романтичности облика и судьбы оказался вовсе не мастером-профессионалом, а скорее любителем с авантюристическим душком. Это сразу обнаружилось на охоте. Он все время терял собаку, не мог заставить ее искать подстреленную дичь, не мог подозвать, путал липовую стойку с настоящей, вообще, производил жалкое и растерянное впечатление. Собаку он испортил, у Фингала дивный экстерьер, божественное верхнее чутье, отличная стойка. Но он не приучен отыскивать подранков и совсем балдеет, когда это от него требуют, и, что еще хуже, делает стойку не только на дичь, но и на всякую мелкую птичью сволочь и на перья растерзанного тетеревятником черныша. Он, бедняга, в том не виноват, вся вина – на романтическом бродяге.
Было и смешно, и грустно, что все огромное «показательное» охотхозяйство со всеми его службами, гостиницами, машинами, штатом егерей, парторганизацией, пьянством, заказниками, интригами, протоками опирается на худые ребрышки пожилого Фингала. Какое серьезное, глубокое, озабоченное выражение было у него, когда мы сошли с телеги на опушке леса, «полного» тетеревов! Как легкомысленны, несосредоточены, пусты, хитры и незначительны лица сопровождающих его егерей! Фингал просто охотился, чуть неумело – не по своей вине, – но страстно, вдохновенно, неутомимо осуществляя свое назначение в жизни. Остальные тоже охотились, но при этом делали еще что-то свое, хитренькое. Главный егерь выслуживался перед охотоведом, чтобы сохранить свой пост, другой егерь выслуживался, чтобы перехватить этот пост, хозяин Фингала маскировал свое неумение и делал вид, будто он один на белом свете может управиться с такой прекрасной, но трудной и опасной собакой, как Фингал. Еще один егерь, местный житель, стремился лишь к тому, чтобы мы не разбили тетеревиный выводок. То ли он хранил тетеревов для собственной охоты, то ли для охотников-дикарей, здесь проходила граница угодий охотхозяйства. Еще один, совсем юный егерь, почти мальчик, был самолюбиво заинтересован в провале Фингала, ибо держал в деревне спаниеля и уверял, что тот нисколько не уступает лягашам. Я боялся, что удача привалит Уварову, а Уваров боялся, что мне.
Один Фингал чисто и прекрасно служил своему сердцу.
Когда мы ехали домой на телеге в кромешной темноте и какие-то плетни и столбы околиц норовили отбить нам колени, Костя, потряхивая вожжами, орал на пожилого гладкого мерина.
– Н-но, лентяй!.. Н-но, бездельник, свола-а-чь… и блядун, наверное!..
На Сози. Как только мы с Уваровым разрядили ружья, с берега, метрах в трех-четырех от нас, начали срываться, один за другим, восемь тетеревов – целый, неразбитый выводок, и низом, тяжело, черно, вызывающе уязвимо уноситься к дубняку на другом берегу неширокой реки. Это было так чудесно, что и сейчас, когда я пишу об этом, все сжимается во мне от восторга и смертельного сожаления, что мы так опростоволосились. Я пытался зарядить ружье, но уронил патрон в воду. Тогда я смирился с неудачей, стал прятать второй патрон в патронташ, и тут из-под носа вылетел бекас.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!








































