Читать книгу "Дневник"
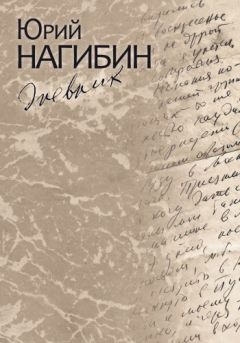
Автор книги: Юрий Нагибин
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: 12+
сообщить о неприемлемом содержимом
КИСЛОВОДСКИЕ ЗАПИСИ (1954 г.)
Вершина человеческого оптимизма. Тридцать лет она возится с человечьим калом, мочой и харкотиной и с тихой удовлетворенностью называет свою работу «непыльной». О верности самому себе. Неделю я прожил как благонравный больной. Неделя нудных походов на «Красное солнышко» по специальной, разграфленной, вымеренной тропе; неделя бессмысленных ванн и колючих душей, скучной, «лечебной» игры в теннис, неделя полупризрачного, искусственного существования, не давшего мне ничего в ответ на мои жертвы. И вот – бредовый день алкоголя, бредовая ночь с пьяной сестрой-хозяйкой, а наутро, словно в благодарность за возвращение к самому себе, мне, невыспавшемуся, немытому, нечесаному, усталому, еще нетрезвому, но чем-то счастливому, между двух санаторных гор открылся двумя белыми, чистыми, снежными вершинами Эльбрус. На одной вершине лежало сиреневое облачко.
Коллекционер снов, поняв, что сны такая же реальность, как дневное бытие, раз они дают реальность переживания, исхитрился создавать себе сны по заказу. Строил сон, как иные тщатся строить жизнь. Если заткнуть рот подушкой, создать духоту, сон окрашивается нестерпимой печалью конца, перед которой меркнут все печали яви. Сон навзничь дарит нестерпимую любовь; сон в скрюченном состоянии, с прижатыми к животу ногами, всегда дает увидеть и понять что-то домашнее. Многое зависит еще от времени суток, от прочитанного перед сном, от многих причин, которые мне еще неведомы. Все же, я уже научился создавать себе сны по заказу, даже с заданными персонажами. Несколько любимых снов я умею вызывать безотказно.
Самый пронзительный, неистаявший с пробуждением сон я видел сегодня: несуществующую Ленину дочь, которую я так любил во сне, что и сейчас, спустя сорок минут после пробуждения, я чувствую в себе остаток этой ни с чем не сравнимой нежной силы. Я уже понял, что эта дочь – Ада, и сон мой читается проще простого. Но дело не в разгадывании снов, я этим почти никогда не занимаюсь, а в самом переживании, в том концентрате чувства, какое дает сон.
В сущности, я порядком надоел себе: нервный, суетливый, прокуренный и как-то принципиально слабый. Последнее – что-то новое во мне. Я – как щепка на воде, куда ветер дунет, туда и поплыл. Причем я делаю это с какой-то странной и необъяснимой убежденностью, что так надо. Что это значит? Что-то злое, а что – сам не пойму.
Жен любишь преимущественно чужих, а собаку только свою.
Как же душно было Уэллсу на нашей земле, если он додумался до такого божественно простого и учтивого ухода с нее, как пятое измерение, в мир, замечательный совершенством тел и открытостью любви. Неужели жена простила ему роман «Люди как боги»?
Ведь его «пятое измерение» – это, прежде всего, мечта о совершенной доступности.
Наверное, я очень чистый человек, если наивнейший грех двоеженства так меня мучит.
От подшивки газет пахло так же, как пахнет в комнате Верони – непросыхающим подолом.
Снова вечерами с каким-то сладострастием бегу в сон. Ночной сон не радует и оттого не приходит долго, ибо за ним дневная явь.
Какой жалкий, какой обобранный человек Адин двоюродный брат! Ему нет и сорока, но выглядит он на все пятьдесят. Лицо в глубоких и добрых песьих складках. Усталые, взболтанные глаза. Мечтает об отдыхе, но сам не верит, что в нем еще сохранилась сила отдыхать. С гордостью говорит, что у него «идеальный организм», если бы не склероз мозга – и это в сорок-то лет! Курит по пятьдесят-шестьдесят папирос в день и, как всякий слабый, безнадежно конченый человек, похваляется: вчера ночью выкурил всего десяток! Работает в Туве, где остро континентальный климат: зимой холоднее, чем в Верхоянске, летом жарче, чем на Кавказе. Глух на одно ухо в результате небольшого мозгового кровоизлияния. Пьет здесь в Москве каждый день, понемногу, больше портвейн – стаканчика три-четыре. «Это, – говорит, – пока я в Москве, а в санатории пить ни капли не буду. Только спать, гулять, принимать хвойные ванны, читать, дышать морским воздухом. Вернусь как огурчик».
Нет, Алик, никакой морской воздух уже не прочистит ваши проникотиненные легкие, а книги недоступны вашему обизвествленному мозгу. Вы скоро умрете. Вообще, все скоро умрут, и старые, и молодые, мир станет очень просторным.
Можно много говорить и думать о любви к чужой жизни, можно просто изойти от нежности к своим близким и своим далеким. И вдруг ненароком тронешь свои волосы, ощутишь под рукой собственную плоть, и до дна глубин проникает тебя чувство: как мелка, нестойка и несерьезна в тебе всякая любовь, кроме любви к себе – единственному.
Грустно, нервно в нашей квартире и очень пахнет мочой.
30 декабря 1954 г.
Все страшное, чего ждешь в жалкой надежде, что вдруг это не случится, приходит не рано или поздно, а всегда рано. Несчастье никогда не ждет третьего звонка. Вчера, гарцуя, как молодой конек и прижимая к голове ушки, на улицу выбежал Лешка. Его выпустила мама в томной расслабленности, которой все позволено. Я был в машине и думал, что он полезет ко мне, и «домашнее» чувство на миг сработало в нем, он подошел. Но тут же взяли верх неумолимые древние инстинкты. Метнувшись прочь, он кинулся на детей, к счастью, никого не укусил. Затем он подбежал к актрисе Угрюмовой и, словно играючи, поцапал за икру. Затем весело, изящно отбежал в сторону. И тут инстинкт зверя погас в нем. Прижав уши, он с покаянным видом подбежал ко мне. Угрюмова с плачем и криками показывала мне разорванную ногу. У нее выедена почти вся икра, рана такая, что кулак можно всунуть. И все же я не в первый раз замечаю: пострадавшие менее пугаются своей раны, чем окружающие. Гордость, что ли, размерами увечья позволяет им так, в сущности, хладнокровно обнажать свои язвы? Я повез ее в травматологическую клинику, весь пол машины в кровавом студне.
Лешку, очевидно, уничтожат, а с ним и целый период моей жизни. Растравлять себя глупо, но это не скоро уйдет из памяти, когда он маленькой, бородатой лошадкой Пржевальского гарцевал по квартире или, подражая взрослому Машиному псу, таскал в зубах щепочки в Нескучном саду, или, совсем крошкой, загнал корову в реку. Какое-то очень постоянное, очень надежное тепло уйдет из моей жизни.
И все грознее едкий настой мочи разливается по нашей квартиренке. Худо, худо.
Сегодня рано утром пошел в уборную по теплой, каким-то сонным теплом, квартире. Вера, сидя на кровати, читала «Огонек», не сегодняшняя – безумная, озлобленная близостью смерти и своей нечистотой, в которой неповинна, а прежняя, необходимая, всегда обо всем помнящая, нужная и утром, и днем, и вечером. А на стуле сладко потянулся и улыбнулся мне Лешка – не сегодняшний: страшный, жалкий и обреченный, а прежний, славный малыш, полный чистой доброжелательности ко всему миру. И так грустно мне стало.
Слишком жестокой стала моя жизнь. Жестокость с Леной, жестокость с Адой. Слабые люди – самые жестокие.
Лена в своей борьбе за меня способна на все. В эту борьбу ею пущены не только сердце и мозг, но и вся физиология, лимфатическая система, железы внутренней секреции. Мне кажется, что она может распухнуть, как гофмановский король пиявок, или почернеть, родить жабу, или выплюнуть золотой. Она уже на грани чуда. Это не пустые слова, умудрилась же она похудеть на двадцать килограммов за полтора месяца! Умудрилась выпустить фонтан крови, услышать шепот сквозь три стены и сомнамбулически догадаться обо всем, что случилось в ее отсутствие. Разве может с этим бороться бедняга Ада, с ее жалким арсеналом простых человеческих чувств?
Нет ничего более ненужного на свете, чем любовь женщины, которую ты не любишь.
Только вера в то, что я сам чего-то стою, мешала мне стать добрым. Я чувствую в себе те мягкие и упругие центры, которые вырабатывают доброту.
Некоторые вещи, которые в силу молодости, самоуверенности и легкомыслия казались мне не то литературщиной, не то наигрышем, начинают мною постигаться как душевная подлинность. «Мне противно идти домой» – сколько раз слышал я от разных людей эту фразу, даже сам говорил в пьяном кураже, но никогда не верил, что это можно сказать серьезно, потому что всегда больше всего любил свой дом. А вот сегодня я всей кровью, желудком, кишками испытал это чувство: мне противно идти в мой огаженный, опозоренный нечистотой, разнузданностью слов и жестов и непреходящей бедой дом.
Грязно, подло, вонюче уходит мое прошлое, мое детство.
История с Верой и Лешкой навсегда унесла какую-то опрятность из моей жизни. Все так мерзко, так смрадно обернулось, что уже нельзя жить по-старому.
Гадко – вот единственное чувство, какое мною сейчас владеет. Все гадко, беспощадно гадко. Нельзя обнажать какие-то вещи, что-то надо знать поврозь, нельзя говорить об этом друг с другом, иначе наступает не животная – у тех все чисто, – а сугубо человечья разнузданность.
Я совершенно не умею налаживать с людьми отношений: или я их от себя отшвыриваю, или – куда чаще – позволяю садиться себе на голову.
У теноров короткая жизнь, как у собак. Почувствовал сегодня, слушая Лемешева в «Травиате». Помню Джека: мы оба были щенками, когда познакомились, он еще писал в комнатах, я – только пошел в школу. Затем он начал меня стремительно обгонять. Он знал уже много жен, а я еще решал арифметические задачи, он был старцем, а я лишь поступил в институт.
Я впервые услышал Лемешева мальчиком лет одиннадцати, он пел в «Севильском цирюльнике». Тогда его еще не признавали старухи – завсегдатайки оперы, тогда еще не знали, как далеко пойдет красивый, маленький, худощавый, изящный человек с небольшим, но удивительным по тембру голосом. И вот, я только начинаю становиться чем-то, а он уже кончился, он изжил себя, свою внешность, свой чудесный голос. Толстый, с подряблевшей кожей, почти безголосый, он еще пользуется у зрителей автоматическим успехом: хлопают, орут, надрываются, но это уже ничего не стоит, и он, наверное, сам знает это. Жизнь позади, отшумела, как дерево в окне поезда. Не знаю, заметил ли он свою жизнь, есть ли у него ощущение многих прожитых лет, мне его жизнь кажется коротенькой, как песий век: только что резвился щенком и уже хрипит старым, беззубым псом[38]38
Я поторопился его похоронить. Это был короткий спад. Он похудел и снова вошел в форму. И пел прекрасно.
[Закрыть].
Боюсь, что для меня «ренессанс» пришел слишком поздно. «Я паразитирую на уже сделанном и уже почувствованном. Сейчас во мне лишь печаль и тщеславие. Тщеславие – куда менее животворящее чувство, чем страх.
Что значит вся история с Адой – до сих пор не знаю. Что-то возрастное. Что-то, не позволяющее тридцатипятилетнему человеку ходить в коротких штанишках, в которых его с грозным упорством заставляют ходить близкие.
Ценность происходящего в этой истории есть, она не пройдет даром. Но в конечном смысле, если таковой состоится, ценности не будет: нищая, взрослая жизнь семьянина.
Острый, как сердечный спазм, ужас, что лето уходит. Вот что я люблю «до боли и до содроганья» – лето. Я так люблю его, столько связываю с ним планов, решений, что уже не могу отважиться ни на что, когда лето приходит. Любое решение шло бы в ущерб другому, не менее важному и прекрасному – лучше уж ничего не делать.
И ныне, вместо Ленинграда, всех тайн Мещеры, рыбной ловли, моря и всегдашних радостей юга, вместо писания «о самом главном» и всех воображаемых побед – вонючая, грязная возня с гнусным сценарием и страшная, зловещая убогость Василия Журавлева[39]39
Кинорежиссер. Начал ставить мой первый фильм, но не справился и уехал в Китай создавать китайский кинематограф.
[Закрыть].
И где-то в глубине души я все время ждал, что тем и кончится лето.
Ленина обволакивающая привязанность и манящий холодок Ады. Побольше «отдельности» от людей.
Все самое страшное, что происходит с людьми, становится мне понятным наконец-то. И уже мелькает желание устраниться от жизни в рыбную ловлю. Почти каждый несостоявшийся человек находит прибежище в одной бедной страстишке – рыбалке, охоте, коллекционировании, картишках. Как мысль – это ничего не стоит; но как живое, сильное чувство – это серьезно. Прежде мне это казалось страшным, прежде меня влекло лишь широкое, полное существование, чуждое всякой «специализации».
Быть «большим» человеком – непосильно трудно, но и быть «полубольшим» – тоже очень трудно.
Мысль Я. С. об обезьяне, человеке и великом человеке. И не в шутку, а вполне всерьез: между обезьяной и просто человеком разница меньше, чем между просто человеком и великим человеком.
Еще одно свойство «высокого волнения любви». Когда оно есть – писать о нем не хочется. Когда оно уходит – писать о нем не выйдет. Так у меня бывает со снами. Сколько раз я ощущал во сне гениальность, и во сне же думал: я об этом напишу, но пробуждение начисто отбивало всю сокровенную память о сне. Что-то было – высокое, удивительное, необыкновенное, но что – убей, не помню.
Все время на грани последнего несчастья. Щемит, щемит сердце, и никуда от этого не денешься, ничем не заговоришь, не засуетишь.
Каждой новой любви я приношу в жертву какую-нибудь бессловесную жизнь. Аде – зайца, Тамаре – корову[40]40
Зайца я, правда, задавил, о чем есть запись, но корова, сама сунувшись под машину, отделалась ушибом.
[Закрыть]. Откуда во мне этот языческий атавизм? Слабый и робкий, я ни на один серьезный грех не могу решиться просто так, мне надо обрезать прошедшее. Лучше всего начинать новую жизнь с убийства, это кладет резкую грань между прошлым и настоящим, удивительно обновляет и освежает душу, выжигает привычное, домашнее, освобождает для «порока».
Слушал, слушал разглагольствования Тамары Н., актерской дуры, – ребяческое тщеславие, хвастовство, – и вдруг, в какой-то миг странное выражение слабости, обреченности на ее лице, – и все увиделось по-другому: истинно талантливый, более – обреченный своему таланту человек. Все простилось и страшная нежность.
Хорошо жить в лесничестве, под толстым боком Петровны[41]41
Татьяна Петровна Дьяченко– прототип героини из «Бабьего царства».
[Закрыть], в добром соседстве со многими животными: коровой, теленком, боровком, курами, гусями, утками, кроликами.
Прорвав темную наволочь неба, возникли рваные силуэты диких уток.
Счастье от затрепетавшего в выси мистического и живого утиного тела и розового выстрела в пустоту.
Деревья вокруг тебя качают добрыми головами.
Что может быть лучше – дубняк, тишина, безлюдье и огромный человек – Петровна, и человечьи страдания Герцена.
Летом меня преследуют желания: стать певцом, убить в поножовщине десять человек, покончить с собой из-за любви.
В крутом, поголовном хмелю убирается урожай на Курщине. По всем дорогам, ко всем живым огонькам рабочей ночи мчатся нетрезвые люди «толкать», «двигать», «руководить» другими нетрезвыми людьми.
Игорь Чуркин – вечный труженик развлечений.
В этом году я потерял много близких людей: Веру, Лешку, Аду и самого себя.
У Гиппиуса – человека слабого и распущенного, но с ленинградским лоском, бывают минуты бурной физиологической радости. Я несколько раз слышал, как нажравшийся и напившийся на чужой счет и везомый к очередному удовольствию, он разражался странными и не идущими к его скрытной сущности дикими утробными выкриками.
Ни от природы, ни от людей я не получаю конечного удовольствия. Каждое новое впечатление воспринимается как новое обязательство, невесть кем на меня налагаемое. И лес, и рыбалка, и восход солнца, и все, что может дать баба, – для меня полуфабрикаты, которым я должен придать некий конечный смысл. И это чувство всегда существует во мне, сопутствует каждому моему движению. Вот почему, вопреки утверждению Я. С, я все еще писатель. (Да когда я утверждал это, черт возьми? – Я. С.)
Снова очереди, снова исчезло мыло, снова смертная тоска надвигающейся героической поры.
В близости смерти мир стал очень населенным и добрым для Верони. Вернулись и покойный Богачев, и маманька; Ксения Алексеевна каждое утро поит ее вкусным, густым кофе. У ней самой множество забот: пришел Юра – надо готовить обед; хорошо поднялось тесто – надо ставить лепешки. В эти последние дни жизнь возвращается к ней в благости воображаемых забот, дел, вечной ее самоотдаче другим, в мнимой хорошести этих других, во всем, чем она жила, чему служила до последней ненадорванной жилки, до последнего сосудика, доносившего кровь в ее бедный, больной мозг.
Я всегда считал Верину жизнь высокой. Единственное, что делает человеческую жизнь высокой, – это способность полюбить чужую жизнь больше собственной. Так прожила Вера, и вся наша сухость, душевная бедность, грубость, жестокость не могли ничего умалить в ее подвиге. И сейчас, в полном распаде своего существа, она опять служит нам, она снова на посту, в последней муке опять забыв о себе.
Бегло о пропущенном. За это время произошло много жалкого, грустного, противного. Несчастная Вероня у Кати, пьющей опять запоем, в своем уже не распаде, разложении – остается трогательной. Когда у нее останется одна-единственная, последняя непораженная клеточка мозга, в ней, в этой клетке, опять сосредоточится главное в ее жизни – мы. Так служить своему делу, своему творчеству, как служила Вера нам!
А рядом с этим настоящим – позорный дурман грошового тщеславия. Сам себе гадок. Даже писать трудно о той дряни, какую всколыхнул во мне этот несчастный писательский съезд. Как в бреду, как вполпьяна – две недели жизни. Выбрали – не выбрали, назвали – не назвали, упомянули – не упомянули, назначили – не назначили. Я, кажется, никогда не доходил до такой самозабвенной ничтожности.
И само действо съезда, от которого хочется отмыться. Ужасающая ложь почти тысячи человек, которые вовсе не сговаривались между собой. Благородная седина, устало-бурый лик, грудной голос и низкая (за такое секут публично) ложь Федина. А серебряно-седой, чуть гипертонизированный, ровно румяный Фадеев – и ложь, утратившая у него даже способность самообновления; страшный петрушка Шолохов, гангстер Симонов и бледно-потный уголовник Грибачев. Вот уж вспомнишь гоголевское: ни одного лица, кругом какие-то страшные свиные рыла.
Бурлящий гам булавочных тщеславий…
Кошмар засыпаний. Все дурное, болезненное, мучающее наплывает на меня с неумолимостью, какой я не в силах противостоять. Все, кого я предал: Мара, Вероня, Лешка; все, кого я обманул собой: Я. С., Лена, Ада, я сам прежний – лезут в башку, копошатся в ней, терзают уставший, прокуренный, проспиртованный мозг, не дают ему укрыться в спасительный сон.
Как бы хорошо ни писалось на выброс – это все равно не мое, не настоящее писание. Ну еще пять-десять лет, куда ни шло, а дальше – страшно! Суть не в том – что писать, а в том – как писать. Можно врать в сюжете – это не очень опасно, можно врать в идее – не беда; губительно врать в выражении своего чувствования мира. В моих рассказах на выброс даже птица летит не так, как должна лететь моя птица. Служить можно любой идее, все они сомнительны, но служить своим оружием своими средствами. Скальд воспевал ярла Скуле, хотя не верил в его дело, а верил в дело Гокона Гоконсена (к сожалению, Гокону нечем было платить за песни), но скальд пел своим голосом, а певцу ничего больше не надо. Если бы скальда заставили славить ярла Скуле на чужой манер, он бы сразу перешел к нищему Гокону.
После многочисленных рукопожатий на съезде ладонь пахла, как пятка полотера (у всех нечистые и потные от возбуждения руки).
Через столько веков в Грановитой палате вновь разыгрались дикие картины местничества. Только вместо Буйносовых и Лычкиных, Пожарских и Долгоруких, драли друг дружку за бороду, плевали в глаза братья Тур и Михалков, Полевой и Габрилович.
Не забыть, как мы вскакивали с рюмками в руках, покорные голосу невидимого существа, голосу, казалось принадлежавшему одному из тех суровых святых, что взирали на наше убогое пиршество со стен Грановитой палаты. Покорные этому голосу, мы пили и с холуйством, которое даже не могло быть оценено, растягивали рты в улыбке. (Основной банкет шел в Георгиевском зале, и нам он транслировался по радио.)
– 1955 -
5 января 1955 г.
Об этом можно было бы и не писать, но стоит написать, чтобы когда-нибудь перечесть и ощутить ход времени. Запись от 11 ноября 1948 года: «Кончились праздники…» – с какой тоской, страхом, злобой, болью, с какой серьезностью это писалось! Как сладко мечталось тогда о реванше и как мало верилось в этот реванш! И вот он наступил, почти так, как мечталось: при блеске огней, при звуках музыки, на глазах былых свидетелей моего позора: Байдуков с рюмкой, провозглашающий за меня тост, кухонное подобострастие Байдучихи, ручная Анна Николаевна, раздавленная Валя. Конечно, как мне и полагается, я увенчал триумф скотством, и еще немного, и превратил бы его в новое поражение: как всегда, победа пришла слишком поздно, став ненужной. И я думаю, в ней меньше моей заслуги, нежели равнодушия окружающих. Так, верно, всегда бывает во внешней жизни; редко чего достигаешь сознательным волевым усилием – созревшее и подгнившее яблоко само падает к ногам. Но будем благодарны жизни и за такие скудные дары.
Сейчас опять в беде: пучит брюхо, изжога рвет какую-то самую главную кишку, на которой все держится, и Ада не звонит.
Что б ни было, я должен быть благодарен Аде. Из-за нее я узнал целую область чувств, мне доселе неведомых. Более того, с незрелостью и самомнением младенца Заболоцкого я вообще не верил, что эти чувства бывают, и презирал тех, кто делал вид, будто их испытывает. Все это пало на меня: постоянная память об утрате, боль даже во сне, гнетущее, ни на миг не покидающее ощущение бытия другого человека.
В этой связи интересно было бы понять, что привязывает меня к Лене. Мне кажется, я просто «вработался» в свое отношение к ней, как вработался во все свое малоподвижное существование. Так же в свое время, только с чуть большим юношеским азартом, я вработался в Валю.
А с Адой совсем другое. С ней это похоже на то, о чем говорил Селин: полюбить чужую жизнь больше жизни своей. «Война!» – и раньше собственного страха мысль: а что же будет с ней? Вот то, что я пугаюсь за нее раньше, чем за себя, и есть то самое главное – новое, – что я получил от Ады.
От всех баб, которых я знал, не падало на меня и половины той нежности, доброты, глубочайшей душевной заинтересованности, как от одной Лены.
Был у Каплера. Я его знаю почти с детства, с Коктебеля. Тогда он поражал меня тем, что ходил по пляжу с высокой, белолицей, желтоволосой женщиной, казавшейся мне богиней. Сейчас она сгнила где-то на холоду, что странно: ведь на холоде сохраняются. Затем помню его на экзаменах во ВГИКе. Как завидовал я тогда его серым фланелевым брюкам и пиджаку из синей рогожки! С каким сладострастием неудовлетворенного тщеславия рисовал я себя на его месте: в этих штанах и в этом пиджаке.
И вот передо мною – седой и очень бледный, как будто вываренный в молоке, еще приятный, но внутренно скомканный человек. Тень человека. Да и никто не вернулся оттуда, сохранив свою первозданность. Никто, за исключением Мары. Но в Маре высокочеловеческое было заложено таким мощнейшим пластом, что вся жесткость, вся грубость, вся подлость и мерзость лагерной жизни ничего не могли с ним поделать. Я вдруг понял, что Мара – единственный подлинный герой, какого мне довелось видеть.
Мы все, как глубинные рыбы, извлеченные на поверхность. Из страха давлением в миллион атмосфер нас перевели в разреженную среду жиденького полустраха. Наши души не выдерживают перемены давления – они не лопаются, как глубинные рыбы, но распадаются, разлагаются.
Сверхъестественная жалкость людей и невозможность не быть с ними жестоким. Иначе задушат, не по злобе, а так, как сорняк душит злаки.
ВИЗИТ К П. НИЛИНУ
Он был в рубашке с распахнутым воротом. Вся шея и спина, насколько мне было видно, усеяны наростами, как у ихтиозавра. Да он и вообще со своей парализованной ногой, из-за которой не ходит, а как-то влачится, ползает с перевальцем, со своим огромным туловом и отвисшей мордой похож на допотопное пресмыкающееся.
После бреда кривой болтовни, теплый прощальный разговор в голом садике, окружающем заплесневелые коттеджи.
– Вступайте, старик, в партию! Вы будете крепче чувствовать себя на ногах, чувствовать локоть товарищей. У нас умная и горячая организация. Вот мы исключили Толю Сурова. Я ему говорю: подлец ты, мать твою так, что же ты наделал? Выйди, покайся перед товарищами от всего сердца, а не читай по бумажке, подонок ты несчастный! Так хорошо, по-человечески ему сказал, а он вышел и стал по бумажке шпарить. Ну, мы его единогласно вышвырнули. Вступайте, старик, не пожалеете! А как хорошо было с Леней Коробовым, он на коленях ползал, просил не исключать. Я сказал: ты преступник, Леня, но пусть кто другой, не я, первым кинет в тебя камень. Он рыдал. Оставили, ограничились строгачом с последним предупреждением… Вступайте, обязательно вступайте, старик!.. Вот скоро Мишу Бубеннова будем отдавать под суд. Знаете Мишу? Сибирячок, талант, но преступник. Скоро мы его исключим и под суд, настоящий, уголовный, туда ему и дорога. Вступайте, старик, в партию. Орест Мальцев – любопытный, право! Я не согласен был, когда на него накинулись за «Венгерские рассказы». Ну, поехал землячок за рубеж, подивился, как граф ест бифштекс, ну, и я бы на его месте подивился. Только надоело копаться в его половой жизни, все время заявления поступают. Не может человек тихо поебывать, всегда с шумом, скандалом. А нам – возись с его грязным бельем. Вступайте, обязательно вступайте, старичок!..
Был у Верони, она очень плоха. Когда я пришел, она сидела почти голая на кровати и ела что-то со стула. Катя ее одела. Вероня все смотрела на стул, с которого убрали еду, а меня почти не замечала. Катя же, которой все это стало выгодно, говорила с фальшивым умилением:
– Смотри, как она тебе радуется, ну как она тебе радуется!..
Андерсеновские русалки, сменившие хвосты и бессмертие на две человеческие ноги и краткость человеческой жизни, умирая, превращались в серебристую водяную пыль. Мы также превратимся скоро в мельчайшую атомную пыль, но, в отличие от русалок, так и не став людьми.
Беда внутри меня, беда снаружи, ну как тут уцелеть!
Смысл любви состоит в том, чтобы с трудом отыскать бабу, которая органически неспособна тебя полюбить и бухнуть в нее все: душу, мозг, здоровье, деньги, нервы.
Зачем делаем мы вид, будто что-то понимаем в других людях, когда ни столечко не понимаем в себе самих? Я поминутно делаю грубейшие ошибки в оценке своих поступков, намерений. Я никогда не знаю, что я через минуту сделаю или захочу сделать. Все, что происходит со мной, для меня полнейшая неожиданность; вся внутренняя работа, обусловливающая поступки, желания, замыслы, творится в кромешной тайне, которую мне не дано постигнуть. Я до сих пор не могу измерить себя даже грубейшими мерами, и вовсе не потому, что я такая загадочная натура, а потому, что все мы, в смысле самопознания, недалеко ушли от животных.
Опять тошнит от всего: от газет, обязанностей, своих близких и самого себя.
Вчерашний жест Любочки[42]42
Ее сестра, Вера Прохорова, сидела.
[Закрыть], когда я ночью подъехал к ее окнам на машине. Страх, беззащитность, жалкая женственность этого жеста были совершенней самого великого искусства. Каждая эпоха наряду со всем прочим вырабатывает некий совершенный, целиком характеризующий ее жест. Наша выработала особый вздрог ужаса.
Любимый город может спать спокойно, Верочке опять отказали.
Ночью оторвалось и полетело куда-то сердце. Я успел его поймать в самый последний миг, у границы небытия.
Если из каждого жизненного впечатления отбирать самое главное, самую существенную суть, то всю человеческую жизнь, день за днем, можно уместить в тоненькой ученической тетрадке. Живешь в полном смысле слова лишь отдельными минутами, остальное – то, что сценаристы называют «связками». Как на вокзале: важны лишь минуты расставания, когда сжимается сердце; остальное – бесконечные и нудные переходы.
Сегодня у Каплера в больнице. Миг жизни был, когда в окне клиники, мельком глянув в сырость двора, скользнула крупная, с великолепными и голыми плечами и грудью в голубом лифчике, молодая, светловолосая женщина. То был миг острой, сильной, до перехвата дыхания, и бесконечной жизни.
Смотрел, смотрел на прекрасное своей добротой лицо Лены и вдруг понял, какое счастье – просто красивое лицо.
Мы – наша семья, наш очень маленький круг, жили далекой от всеобщего обихода жизнью. Оказывается, слова «донос», «доносить» значат не больше, чем у нас, скажем, «бездарно», «бездарь». Это нехорошо, но это вовсе не конечная черта; человека не перестают пускать из-за этого в дом, даже не прерывают с ним общения. Мы очень отстали от серьезной народной жизни.
Вера сказала: «Пусть Юра сделает, чтобы мне весело было в серединке». Почему-то решили, что фраза ее – бред. А может, она просто помнит, где у нее находится сердце?
Мне кажется, я только сейчас начинаю становиться писателем. Я по-настоящему полюбил людей. Самых разных, самых случайных людей я чувствую сердцем. Каждый человек стал для меня драгоценен. Тень доброты в людях трогает меня до сжатия гортани. Если это не маразм, то рождение новой души.
Сашке проломили голову в школьной уборной. Видимо, легкое сотрясение мозга. Когда он шел через двор, бледный, без кровинки в лице, его подташнивало, кружилась голова. Но вот на пути попалась ледяная дорожка, и, послушный законам детства, бедняга прокатился по ней.
Гадкая Танька, охваченная похотью, глухая ко всему на свете, кроме поздно проснувшегося в ней пола. Беспощадная и страшноватая дрянь. Баба делается испорченной не обязательно от многих мужиков, она может знать лишь одного мужа, отнюдь не развращенного, и с ним постигнуть все низины пола. Мужику это дается куда большим трудом.
Ужасная жалость к жизни и к людям, как перед смертью.
Во мне пропала защитная одеревенелость, не позволявшая мне прежде испытывать многие человеческие чувства. Я весь как-то обмягчал внутри и стал богаче.
Г. Г. Эверс – такой ли уж это бред? Мне кажется, тут много реального человеческого бреда. Да и Альрауне не так уж придумана.
Последние уродливые содрогания молодости охватили мое поношенное существо. Для окружающих это непонятно и гадко. Для меня тоже иной раз гадковато, но это от загнанности. Мы все загнанные, и любое проявление страстей кажется нам чем-то болезненным, неправильным, запретным.
Оскаливаются на меня за то, что во мне бродит жизнь, кидая меня в микроскопические загулы, в крошечное, сознающее себя небытие. Но ведь это ток крови, которую не окончательно заморозили прожитые годы.
И мои жалкие отклонения куда человечнее и, если хотите, красивее страшной замороженности какого-нибудь Н. или М. Почему-то восхищаются Танькой и Наташей, этими заглохшими до цветения побегами, этими старушками-недоносками, а не человеком, в котором пусть бедно, пусть жалко, но поет жизнь.
Какая-то преждевременная несостоятельность охватила моих сверстников и людей, куда более молодых, но я еще подержусь, я еще, насколько хватит полуотбитого обоняния, понюхаю жизнь.









































