Читать книгу "Дневник"
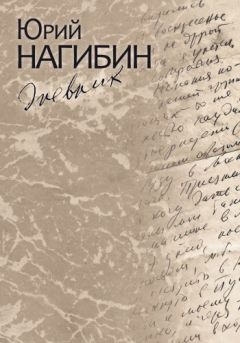
Автор книги: Юрий Нагибин
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: 12+
сообщить о неприемлемом содержимом
Утреннее явление. Стук в дверь, нежный девичий голосок: «Мне Ю. М.». Кохомский призрак, дочь Гапочки, та самая, которая посылала мне лесные орешки. Явление очень непростое, многоплановое.
Первый вариант. Доверчивая дурочка – орешки, память о том, что было лучшим в их жизни, – есть в Москве теплый очажок, бедная надежда маленьких, несчастных людей и т. п.
Наша грубость. Крики мамы. Ленино искривленное жалостью и причастностью к тайне лицо. «И кто-то камень положил»… «Не говорить маме?»
Второй вариант. Привкус шантажа. Испорченность, дающая понять, что для меня это опасно. Наша боевая решимость отстоять свое, в общем-то бедное, от жестокого посягательства. Последствия были бы плачевны: письма, просьбы, требования, доносы и т. п.
Третий вариант. Синтетический и наиболее точный, как и обычно в жизни, включает первый и второй варианты. И душевное, и корыстное, и нашу жалость, и нашу жестокость, от которой нам и самим больно. И самое неприятное то, что Лена стала мне на миг противна, оттого, что ей – ради меня – пришлось сыграть роль вышибалы. Хорошо, что измученное лицо Лены сразу выбило из меня это мелкое и несправедливое чувство.
Как много грустно-человеческого было в этом визите. Настоящее понимание, а значит, и литература – это принять все элементы, а не те, что помогают построить ладненькую самозащитную концепцию. Принять тут и «мягкое», и «твердое», и высокое, и низкое, и чистое, и нечистое, а главное – ничего не осудить.
А до чего человеку хочется, до чего ему надо – обязательно осудить, обязательно вынести приговор! Художник не имеет права на подобную самозащиту. Но поступить – в прямом смысле действия – можно и должно было только так, как поступили мы.
Гамсун судился со своим жалким братом Педерсеном, пожелавшим называться тоже Гамсуном, и был тысячу раз прав. Каждого, самого маленького Гамсуна окружают мириады Педерсенов, желающих в той или иной мере стать Гамсунами. Обыватель обязан быть добрым, иначе он хуже гиены; художник обязан быть жестоким, иначе он перестанет быть художником. Но, будучи жестоким, он обязан сознавать свою жестокость и мучиться ею, иначе он опять же перестанет быть художником. Это основы писательской гигиены.
Оставила меня, как прислуга, предупредив заранее об уходе.
Ничего не могу делать, ни о чем не могу писать, ни о чем не могу думать. Пройдет ли это когда-нибудь?
На охоте. Опять отсчет дней, часов до возвращения. Опять Ада. Сейчас воспоминание о ней охватывает такой же жуткой и душной силой, как боязнь замкнутого пространства.
Сейчас сидел за столом, ел пшенник с молоком, усталый после бредовой ночи, довольный тем, что вернулся, что есть передышка от охоты и истомляющих мыслей, и вдруг вспомнил Аду и заплакал сразу, будто слезы уже стояли в глазах.
У Ады нет почти ничего, за что бы ее следовало любить. Как же можно любить такого человека, как Лена, обладающего множеством достоинств? Ответ: меньше. И тут есть какая-то глубина, которой я не улавливаю.
При всем моем умении быть несчастным, я никогда еще не был таким несчастным, как сегодня.
Главное – то, что ужасно, смертно устаешь от всего этого. Бежишь в сон, спать, спать, только спать, ничего больше не хочется, ни на что больше нет сил.
Русский человек врет, если говорит о своем стремлении к счастью. Мы не умеем быть счастливыми, нам это ненужно, мы не знаем, что с этим делать.
Перед поездкой в Кисловодск. Лицо Ады на вокзале, бледное, решительное лицо маленького солдата, пошедшего в свой последний, решительный и безнадежный бой.
«Жизнь ведь это только сон…» Зачем же так унижать сон? В сне глубина, ум, сила и чистота переживания, познание себя, твердая и мужественная печаль.
23 октября 1955 г.
Я должен помнить этот день. День, в который Ада поняла меня, приласкала, вернула мне силу жить дальше. Она показала столько широты, хорошести, умного сердца, столько изящества душевного, искренности и милости, что я со своей грубой, злой болью не стоил перед нею ни гроша. Я, конечно, знал ее по-настоящему, мне был дан урок высокой человечности, и надо, чтобы он не пропал даром. На всю жизнь запомнится мне день в маленькой комнате, полумрак, милая тихость Евдокии Петровны и самая вкусная гречневая каша, какую я только ел.
Мне было сказано: через полчаса. То и дело поглядывая на часы, я бродил по Пятницкой, шарахаясь от прохожих, от их ненужности и непричастности к моей боли. Я зашел в обувной магазин и чуть не разрыдался от убожества отечественных бареток, зашел в комиссионный, полный поношенной обуви, снова едва не вызвавшей у меня слезы. В том состоянии, в каком я находился, видишь себя во всем, жалеешь себя во всем: в ботинках, в умывальнике, в тротуаре, в гудке машины. Говорят о той растворенности себя в окружающем, которая якобы дает большое счастье, я этого в жизни не испытывал. Но боль, страдание, в самом деле, дает чувство ущербного присутствия во всем, населяющем мир. Эти дни боли я был карандашом, собакой, зубной щеткой, сумраком, я видел, как все, наполняющее мир, убого, несчастно, несовершенно, жалко, и узнавал свою жалкость, свое несчастье, узнавал во всем себя. Вот оно мировое сродство.
Я ничего не ждал, ни на что не надеялся, я устал и озлобился от боли, я был пуст, как сгнивший орех, во мне даже не оставалось слов, и вдруг прекрасным движением Адиной доброты я получил назад весь мир, и себя, и слова.
И все же, из двух возможностей потерять Аду: в грубом эгоизме и разлагающей нервозности нашей семьи или в браке с другим, не очень любимым ею человеке, – я предпочитаю вторую, как менее безнадежную потерю.
Нельзя понимать только свой характер, нельзя обладать христианским всепрощением только к самому себе. Надо понять и маленького беззащитного человека, без прочного дела в руках, без поддержки и опоры, которому, как в смех, в избытке давно все то, что другим, менее щедро наделенным, обеспечивает простое счастье, если не счастье, то покой, домашнее теплишко, надежность завтрашнего дня.
Из нас двоих виноват один я, пусть даже без вины виноват, но виноват, и наказан, во всю полноту вины перед ней и перед самим собой.
Если мне удастся сделать свою боль мягкой, я спасен.
Сегодня опять мука мученическая. Хожу среди людей, как призрак, ни с кем не вступая в контакт, со страстным ощущением собственной незримости.
Скользнула мимо, не задев во мне ни единого волоконца моего существа, полная, хорошая, добрая, серьезная баба из Свердловска. Я ее видел как будто на другом берегу озера, неясно, зыбко, порой и вовсе не видел, не слышал, не понимал, чего она от меня хочет. Странно, что она не почувствовала, что имеет дело с призраком, впрочем, иногда она, кажется, догадывалась об этом и спрашивала: где ты?
Далеко, очень далеко: в маленькой комнатке Динка грызет, слюнявит мяч, и скоро придет Евдокия Петровна, надо одеваться, и пора: отдано все, но то, что осталось, лишь усилилось, углубилось, обогатилось с этой утратой, оно рвется наружу, к писанию, книгам, другим людям, которые при ней были и нужны, и интересны. Даже ты, бедняга, была интересной и хоть немного нужной, тогда я не глядел сквозь тебя, как сквозь мутное стекло.
Порой я чувствую, что Мара должен быть предан вторично. Есть же такие обреченные люди, которых предают и прижизненно, и посмертно.
Самое горестное, самое глубокое переживание моей жизни творится в обстановке удручающей пошлости: «Комбайнеры», «Мурзилка», Турчанский и Гена Шапиро из литкружка, которым я почему-то должен руководить.
Я все время хотел почувствовать себя настоящим. Все мое существование наполнено было ложью, потому что я всегда был очень хорошо защищен, я никогда не страдал по-настоящему. Я натравливал себя на страдание, от которого тут же ускользал с помощью нехитрого защитного маневра. Я играл с собой во всякие игры: в признательность, в жалость, в любовь, в заинтересованность, но всегда где-то во мне оставался твердый, холодный, нерастворимый осадок. И смутно ощущая его в себе, я думал: нет, это еще не я, это еще не моя жалость, любовь, заинтересованность. И вот я в первый раз растворился весь, без осадка, я будто впервые за тридцать пять лет увидел себя. Ведь чтобы узнать себя по-настоящему, надо узнать себя жалким.
Есть такая убогая фраза: нас многое связывает. С нелюбимым человеком не связывает ничего: ни совместно пережитая смерть близких, ни годы, прожитые бок о бок, ничто не заносится ему на текущий счет. С любимой связывает все, пельмени ВТО, афиши, морщины на собственной руке, каждая малость полна после разлуки глубиной и силой, потому что любимый человек пронизывает собой все: теряя его, теряешь весь мир, который затем надо воссоздавать наново, наново обставлять пустоту, как обставляют новую квартиру.
Порой мне кажется, что, когда утихнет боль, я буду благодарен Аде за эту боль не меньше, чем за радость; быть может, даже больше. Пусть очень жестоко, очень мучительно, но она вырвала меня из топи мелкого преуспевания, которая засасывала меня все сильнее.
Хорошо бы печаль, вместо боли, чеховское, вместо шекспировского.
Когда это пройдет, я буду гордиться тем, что умел так глубоко чувствовать, я опять стану пошляком.
Жаль, что нет в человеке прерывателя, который бы перегорал от слишком сильного накала и размыкал цепь, спасая аппарат от гибели.
Страдаю тупо, невдохновенно и беззащитно, как пожарный, которого бросила кухарка.
Почему эти два года я не записывал каждый день Ады?
Пока можно и не записывать – эти дни вернулись. Надолго ли?
Надо лишь не лениться писать хорошо. Не лениться писать, как Бунин.
Обозлился на смерть Верони, застигшую меня в разгаре моей суеты.
Словно не было всех этих лет жизни – снова передо мной бледная, красивая и безнадежно тупая рожа Борисова. Этот человек не продвинулся ни на шаг, вот в таких, как он, заспиртовано все худшее, что было во времени[43]43
В связи с новой попыткой надуть меня.
[Закрыть].
Сегодня мы с Адой случали карликовых пинчеров, ее Динку и крошечного, элегантного, черного Тишку.
Ада держала Динку за задние ноги и даже направляла пальцем красный членик Тишки. Меня это зрелище взволновало. Вспомнилось, как Лукреция Борджиа устраивала для своих любовников зрелище яростной любви лошадей. До чего же измельчало человечество! Вместо могучего, разъяренного жеребца – игрушечный Тишка, вместо крутозадой кобылицы – жалкий лемуренок Динка, вместо бешеной, великолепной похоти – муравьиная страстишка, и вместо тех неистовых наблюдателей – мы, бедные, запутавшиеся людишки, робкие в чувстве, и в слове, и в желании.
Здесь я понял с тайной радостью, что Ада совсем не эротична. Она по духу – женщина-мать. Она не побоится ради мужа никакой, даже самой грязной работы, не проявит брезгливости к его нездоровью, будет возиться с плевками и дерьмом, не перебарывая, не ломая себя. Словом, это наиболее близкий мне тип женщины.
Одолевают людишки, одолевают мелкие дела и заботы, блошиные страстишки. Все дальше ухожу от себя, теряю себя, свою единственно хорошую привычку – недопущение людей в себя.
– Мисюсь, где ты? – хочется мне воскликнуть порой себе.
Когда-то – Вероня только заболела – я решил, что, если она умрет, я все отложу в сторону и напишу о ней книгу. Просто для себя и для тех, кто ее знал. И верил в это. Но вот она умерла – и никакой книги не пишется. Я пересказываю «Бемби», потом буду править повесть, может быть, напишу еще праздничный рассказ для «Вечерки». Или все запаздывает в жизни, по мелочам исчерпывает свою трагическую суть, или не надо верить в действительную силу скорби.
Уж больно мы все живые, живые и мелкие. Скорей бежать дальше, не останавливаясь, не задумываясь, дальше, дальше… А полезно было бы хоть раз до конца пережить, передумать кончину близкого человека, м. б., мы стали бы чуть добрее, чуть умнее, с теми, кому еще жить?
А то ведь нехорошо: и для живых не находишь слова, и для мертвых.
Вероне, уже умирающей, то и дело казалось, что я возвращаюсь из школы. Надо меня встретить, покормить… Мы вернули ее умирать туда, где прошло почти все ее скудное и героическое существование, все вокруг напоминало ей о давнем, молодом, – понятно, что и нас она вспоминала молодыми, более трогательными, более мягкими.
И жизнь, и мы, вышвырнувшие ее из дому, к сестре, казались ей теперь мягче, заботливее.
– Разве у тебя кофе! – говорила она Кате. – Вот Ксения Алексеевна варила мне кофе!..
Так обернулись для нее бесчисленные стаканы кофе, которые она влила в маму за свою жизнь.
Я не шел ее навещать – от разбалованной слабости.
– Юра все работает, – сказала она и заплакала от жалости ко мне, предателю.
Наша скверна казалась ей в отдалении добром и милостью. У нее было не размягчение мозга, а размягчение сердца. А может быть, она, поняв, что мы ее предали, изыскивала для нас какие-то оправдания?
На каждом этапе жизни важно определить для себя главную беду. Я всегда плохо жил, мучительно, безалаберно и трудно, но это не мешало мне «низать слова», как любит говорить Я. С., иной раз даже помогало. Сейчас я теряю себя в мутной дряни, где намешаны: неудовлетворенное, подрезанное на первом разлете тщеславие, гаденький страх разоблачения в личной жизни, халтурное отношение к своим делам и обязанностям, которые меня, в самом деле, не занимают. Не нужно было мне соваться не в свою область, а уж сунувшись, нужно было извлечь ту единственную пользу, ради которой я затеял весь сыр-бор. Опять недоделал, опять не закрутил гайку на последний виток. Надо хоть сейчас взяться за ум: разделаться с тем, что я взвалил на себя, и, жестко отказываясь от всего лишнего, мешающего, опять стать писателем.
И не переставать думать о себе и об окружающем.
Изумительный, до костей продирающий каждым своим изгибом Ленинград и жутковатое очарование проходимца Гиппиуса, о котором почти тоскую.
Для памяти. Ленинград. Встреча с Соловьевым Леонидом, все так же похожим на набалдашник. Бредовые рассказы, противоречия на каждом шагу, распад сознания. Жена – урожденная баронесса Гинцбург, зубной врач. Дверь, открывающаяся прямо в неопрятную, с красной ситцевой подушкой без наволочки, кое-как застланную кровать.
Сейчас вдруг понял, что со мной происходит. Я просто-напросто снизил требовательность к себе. Я успокоился на том, что среди второсортных людишек моего окружения я еще кое-что. Я перестал соперничать с Прустом и Буниным, мои соперники– Брагинский и Радов. Я примирился с новой судьбой, а этого ни в коем случае нельзя делать, ибо это не облегчает, а отягощает жизнь, снижает шансы в борьбе за существование, делает до конца несчастным и негордым. Когда же я не смирялся с действительностью, я мог позволить себе с барственной щедростью человека, созданного для лучшего, находить и в ней порой свои «пригорки-ручейки», хотя бы ту же Татьяну Петровну и все то, где я совпадал в искренности с нужным.
Каждая баба, даже самая дурная, считает своим долгом что-то отдать понравившемуся ей мужчине, хоть какую-то частичную девственность. Одна из тех, кого называют «заверни-подол», долго мучилась, что бы из остатков невинности мне подарить. Наконец, мило зардевшись, она сказала, что я первый мужчина, видевший ее зад.
УЕЗЖАЯ В ФИНЛЯНДИЮ. ЛЕНИНГРАД
Я очень любил ее на вокзале, где страшная толчея не могла заполнить образовавшейся после ее ухода пустоты. Я любил ее до слез на борту парохода, когда катера отводили нас от дебаркадера и вода была темной, печальной, тронутой странной желтизной, как перед концом света. Я любил ее в каюте под скрип каких-то досок и медленную качку. Я любил ее в автобусе, везшем нас по мокрому, неприютному Хельсинки. Я чуть меньше любил ее в Лахти, озаренном зелеными и красными огнями реклам, с витринами в сиреневом, дневном свете. Я перестал ее любить при въезде в тусклую, желтую вечернюю зарю на взгорбке близ Хяменлинны.
Привычка к постоянному обману заставляет наших туристов спрашивать о том, что и так видно, понятно.
– А. А., что это – мост? – спрашивает кто-нибудь при въезде на мост.
– Башня, правда, разрушена? – спрашивает другой, глядя на великолепно сохранившуюся башню.
Годовой надой на корову – 3 200 литров. Урожайность на юге – 30 центнеров с гектара, за полярным кругом – 25 ц/га. Пахотной земли – 2,5 млн га. 44 % хозяйств – от 2–5 га. 5 % – свыше 25 га. Крестьяне, сдающие молоко, являются акционерами молочного предприятия. 300 литров – одна акция.
Отель «Ауланка» – Хяменлинна. Из окна виден пруд в окружении аккуратно подстриженных, почти круглых лип. Слева – парники и какие-то домики под красными, черепичными крышами, и пунцовая, без единого листика, рябина.
Впечатление от страны примерно то же, что и от Германии – царство прямых линий. Видимо, это характерно для Европы: прямизна всех плоскостей, из которых слагается материальный, созданный руками человека мир. Та же прямизна и в поведении, в отношениях между людьми, в общественном бытии. У нас же все очертания зыбки, у нас нет плоскости – либо впадина, либо бугор; вместо царства отвеса – царство кривизны, все горбится, западает, все волнисто, нечетко, лживо.
НА КОНСЕРВНОЙ ФАБРИКЕ
Я посмотрел на нее очень внимательно и нежно, когда она промывала в стеклянной ванне какие-то кишки. Я еще раз посмотрел и улыбнулся ей. Она тряхнула головой, и промелькнувшая мимо лица прядь скрыла ответную улыбку. Наша группа двинулась к выходу. Я оборачивался. Она подошла к стеклянной двери. Затем я увидел ее возле сгустков печени, идущей на паштеты, она провожала меня мимо запеканок, селитряно воняющей требухи, наконец, нас разлучил фарш…
– 1956 -
БЕРЛИН
Вокзал – чистота, пустота и какая-то незнаемая гулкость чужого мира. Стрелки, указатели, большие буквы: «Н», «D», очень красная афиша на сером столбе – как будто так все оно и ожидалось…
Безлюдье разрушенных, полуразрушенных, уцелевших и восстановленных улиц. Странное и мучительное безлюдье, какое бывает среди декораций до начала съемок. Странен мир, созданный человеком, без человека. Тот город, что угадывается за сегодняшним, непривлекателен. Это на редкость непоэтичный город. Отель «Адлон», в котором мы остановились, всем своим обличьем, сумеречностью коридоров, лестниц и переходов наводит на мысль о мелких политических убийствах и грязно-скучном немецком разврате. Потом мне сказали, что этот отель, в самом деле, постоянно фигурировал и в скандальной газетной хронике, и в детективной литературе.
Поездка за город по красивой Шпрее[44]44
Река длиною в 382 км, на берегах которой расположен Берлин. – Примеч. ред.
[Закрыть]. Чудные, но какие-то необычные, «готические», вытянуто-заостренные дикие утки. Много катеров, байдарок, колесных пароходиков с вереницей баржей, на которых сушится разноцветное белье. Наш пароходик тоже колесный, с пьяным капитаном. Вкусный кофе в частной гостинице. Элегантный хозяин отеля, сам подающий гостям кофе и пиво. Наши удивлены – вот так капиталист!..
Вечером – Фридрихштрассе – пятнышко света в темноте, неоновое пятнышко подлинной Европы, единственное располагающее место в этом очарованном городе. Но и тут в рекламах, в шуме кабачков, долетающем на улицу, в редких парочках и еще более редких пьяницах – что-то ненастоящее, незаземленное, как в пассажирах на перроне и в привокзальном ресторане: сейчас поезд тронется, и все разом опустеет. Да это, пожалуй, соответствует и внутреннему состоянию этих людей. Они не чувствуют себя здесь всерьез, навсегда.
Поездка в Тюрингию. Сосны с надрезами и стаканчиками под белыми ранами для стока смолы. Все сосны, тысячи деревьев, надрезаны и капают смолой в берестяные туесочки, похожие на бумажные стаканчики для мороженого. Все это дело рук одного человека – лесника. Один человек может сделать грандиозно много, если он работает на совесть. А у немцев это еще сохранилось. Там, где у нас не управляются десять разгильдяев, над которыми стоят еще двадцать бездельников, у них – один работяга. Взять хотя бы переправу через Эльбу, в летней резиденции Августа Сильного. Стареньким, но очень опрятным катерком управляет такой же старенький, чистый немец. Он ловко, бочком проводит катер через реку, причаливает с поразительной ловкостью к пристани, набрасывает цепь на причальный столб, отодвигает железную дверцу и скидывает трап; он сам продает билеты, искусно выбрасывает сдачу из механизированной кондукторской сумки, помогает старикам и детям. И все это без суеты, без задержки, без лишнего слова. У нас бы на этой работе было бы занято человек десять: машинист, водитель, кондуктор, контролер, бухгалтер, счетовод, начальник отдела кадров, директор, профорг, секретарь партийной организации. А над ними стояли бы контролер из Главка, контролер этого контролера и т. д.
Людей всюду, кроме Лейпцига, удивительно мало, но те, что есть, поддерживают необходимый порядок в хозяйстве своей страны. Порядок в речной службе, в гостиницах, в парках и оранжереях, в немногих действующих музеях, даже в развалинах. Восстановление идет крайне медленно – не хватает людей. Вместо восстановления разрушенных зданий, всюду – и в Берлине, и в Дрездене, и в маленьких городах – создаются улучшенные «Песчаные»[45]45
Песчаные улицы на северо-западе Москвы – с 1948 г. один из первых районов массового жилищного строительства. – Примеч. ред.
[Закрыть]. Вообще, «Песчаная» – это символ нашего созидания. И не случайно все эти немецкие «Песчаные» носят название «Сталинских». Огромная Песчаная, возникшая в пустоте, – город Сталинштадт[46]46
Впоследствии, в 1961 г., переименован в Айзенхюттенштадт (что означает «город металлургов») – город-порт на канале Одер – Шпрее, известный своим металлургическим комбинатом «Ост». В официальной восточнонемецкой прессе получил устойчивое определение «первый социалистический город ГДР» (заложен в августе 1950 г.). – Примеч. ред.
[Закрыть], тут плавят привозную руду на привозном коксе. Сталин-аллее[47]47
Впоследствии переименована в Карл-Маркс-аллее. – Примеч. ред.
[Закрыть] – Песчаная, переместившая в Берлине историческое ядро города куда-то на окраину. То же и в Дрездене: хотя центр города представляет собой отличную строительную площадку, его не трогают; строительство идет на периферии – целые кварталы Песчаных.
Чудесный Мейсен с горбатыми, то взбегающими ввысь то падающими вниз улицами. На входных дверях – древние эмблемы города, что-то медное, покрытое зеленым окислом, а рядом кнопки электрических звонков. Вид с высокой площади на громоздящиеся в ладном беспорядке красные черепичные крыши, на Эльбу, стянутую поясом современного моста. Медные ворота, наглухо скрывающие тайну маленьких дворов. В витринах обычный набор: «вильдледершу»[48]48
Wildlederschuh (нем.) – замшевые туфли. – Примеч. ред.
[Закрыть] на эрзац-резиновой подошве, зеленые, с грубым начесом, мужские демисезонные пальто, посредственное дамское белье и чулки, приводящие наших туристок в шоковое состояние. Красивая площадь перед ратушей, отданная детям: спортивные снаряды, площадки для игр, множество ярких разноцветных флажков. «Детей надо приучать к яркому, праздничному», – сказала мне по этому поводу одна немка.
Наконец, Лейпциг, подавивший наши слабые туристские души тем, что мы сызмальства связывали с манящим, запретным и сладостным словом: заграница. Кабачок Ауэрбаха, где бывал Гете и где, по утверждению Гете, бывали и Фауст с Мефистофелем. Сцены из «Фауста» на стенах, гигантская бочка, медные клешни с электрическими лампочками, на застекленных стеллажах – книги отзывов в свиных переплетах и реликвии Гете: волосы его возлюбленной, долговые расписки, неоплаченные счета. Да еще – жерло подземного хода, прорубленного студентами, чтобы тайком посещать Ауэрбахскеллер…
1 мая… Сижу в гостинице. За моим окном трепещет флаг, красный с белым крестом. Не знаю, чей это флаг, и не уверен, что это известно вывешивавшим его немцам. Но немцам положено быть со всеми в любви и дружбе и демонстрировать это при каждом удобном и неудобном случае, поэтому они где только можно вывешивают флаги: русские, английские, французские, шведские, новозеландские, польские, зулусские, бушменские, марсианские. Это свидетельствует о мягкости и миролюбии их демократического сердца. Невдалеке безумолчно звучит пионерский барабан, и с главной площади доносятся голоса, знакомые до зубной боли. Даже голоса становятся на один манер при тождестве строя…
Из какого сосуда ни пей мертвую воду, она может принести только смерть.
Из картин, виденных в музеях и замках (Цвингер пока еще закрыт), наибольшее впечатление произвело «Изгнание менял из храма» Луки Кранаха. Живописна вещь несобранная, но замечательная по характерам. Христос – это озверевший, неистовый еврей, сжимающий в мускулистой руке пук хлестких розог. Апостолы – синагогальные уродцы, от которых так и прет алчностью, честолюбием и уже нескрываемым желанием урвать как можно больше от Христова пирога. От Учителя и учеников крепко пахнет потом, мясом, кровью… Всюду ощущается громадное уважение к своей стране, земле, ее прошлому, настоящему и будущему.
Очень хорошо делали «на плечо» и маршировали с четкостью, которая порадовала бы и Фридриха Великого, дружины по охране общественного порядка (кажется, так они называются). В их рядах, как выяснилось, находится немало эсэсовцев. Немцы охотно дают себя учить любезной их сердцу науке, охотно напяливают на свои плечи и до боли знакомые шинели, и, на худой конец, просто портупею. На первомайской демонстрации «ура» кричали только этим дружинам, чувствуя в них ядро будущих военных соединений.
Промелькнули Эйзенах, Гарц, Вернигероде. Мешанина видов, дат, имен. Под конец подвернулся какой-то Меланхтон[49]49
Меланхтон Филипп (1497–1560) – немецкий протестантский богослов и педагог, сподвижник М. Лютера. Составитель Аугсбургского исповедания. За свою деятельность на педагогической ниве и за заслуги в создании новой системы образования от общинных школ вплоть до университетов получил звание «наставник Германии (praeceptor Germaniae – лат.). – Примеч. ред.
[Закрыть]. После битвы при Вернигероде он остановился с друзьями-соратниками в доме на центральной площади городка, о чем оповещает мемориальная доска. Рядом с домом, где пировал Меланхтон, старинное здание ратуши, где теперь танцзал. В этом здании есть кабачок, тоже очень старый, прокопченный и засаленный.
Когда мы ехали по Гарцу, по неправдоподобно прекрасному Брокену (там шабашили гетевские ведьмы и где-то поблизости базировался Мефистофель), я ничего не уловил, кроме бесконечных известковых и песчаных карьеров да замков графа Вернигероде. Насколько я понял экскурсовода, этот граф раздолбал Мюнцера, что не мешает немцам чтить его память столь же высоко, как и память крестьянского вождя, быть может, даже больше, ибо немцы уважают победителей.
Крепость Вартбург под Эйзенахом. «Подожди, скала, – сказал основатель крепости, одолев отлогую кручу, – ты станешь крепостью», – отсюда и название Вартбург[50]50
«Подожди, скала» – wart Burg! и название крепости Вартбург – Wartburg звучат в немецком языке одинаково. – Примеч. ред.
[Закрыть]. Дети и новобрачные подымаются к Вартбургу на осликах; когда-то на осликах сюда подвозили воду. Я видел одну юную пару, совершавшую подъем на четвероногом вездеходе. На месте новобрачного я бы прежде всего не женился и уж во всяком случае не стал бы утруждать крошку-ослика грузом этой большой и безрадостной бабы с толстыми, раскоряченными ногами.
Из крепости открывается прекрасный вид на окрестность. Смотришь и понимаешь, что эту землю надо любить до слез.
В крепости скверная стенная роспись, кажется, Шика, – деяния св. Элеоноры. В главном зале гигантская фреска, посвященная знаменитому состязанию миннезингеров[51]51
Миннезингеры (букв.: певцы любви) – немецкие рыцарские поэты-певцы. Существует предание о стихотворном состязании в остроумии и глубокомыслии, которое развернулось между певцами в Вартбурге при дворе ландграфа Германа Тюрингского. Оно оставило глубокий след в немецкой культуре. Мотивы этого сказания были использованы Новалисом в его неоконченном романе «Генрих фон Офтердинген», Э. Т. А. Гофманом в новелле «Состязание певцов» и композитором Рихардом Вагнером для его романтической оперы «Тангейзер и состязание певцов в Вартбурге». – Примеч. ред.
[Закрыть]. Побежденный – Генрих фон Офтердинген (кошмар моих детских лет) на коленях просит Элеонору даровать ему жизнь. Его горячо поддерживает какой-то пожилой и неистовый венгерский бард. Офтердингена победил молодой, медоточивый Вольфрам фон Эшенбах, закладом же была жизнь. На переднем плане в позе, соответствующей его яростной музе, – Вальтер фон дер Фогельвейде. Не поймешь, то ли он подначивает палача в красном скорее сделать свою работу, то ли присоединяет голос в защиту Генриха. (Последнее, как я потом узнал.)
Еще мы видели столовую времени Элеоноры со щитами, шкурами, рогами, с гигантскими металлическими кружками, что и поныне украшают каждый приличный немецкий дом; кресло с откидным сиденьем, деревянный трон, камин. Покои Элеоноры внизу, каменные, до дрожи холодные, с золотой мозаикой. Комната, где Лютер переводил Новый Завет, одним махом обогатив немцев новой религией, новым языком, новой грамматикой и, конечно же, новой войной.
Письменный стол Лютера, жесткое кресло, китовый позвоночник, служивший ему ножной скамейкой, изразцовый, зеленый камин. Близ камина со стены ободрана вся штукатурка. По преданию, сюда угодила чернильница, которой Лютер швырнул в нечистого. Поколения экскурсантов, темных, как первые обитатели крепости, ободрали на память драгоценную штукатурку.
Легенда возникла вот из чего. «Я борюсь с нечистым пером и чернилами», – сказал Лютер, к тому же на стене действительно была клякса. Служители не ленились восстанавливать эту кляксу, как дух Кентервилей восстанавливал кровавое пятно красками бедной Вирджинии.
Меня тут взволновало одно: когда Лютер работал, он видел из окна неизъяснимо прекрасный лик родной земли: тающие в голубой дымке взгорья, поросшие елями и соснами, склоны, сопрягающиеся так нежно и мощно, что спирает сердце. Ему, видно, хорошо тут писалось, если он мог за год отмахать свой гигантский и чудовищный по следствиям труд.
Весна в Тюрингии. Весна на склонах Вартбурга. Распустившиеся, нежно-зеленые листочки буков; лопнувшие, но лишь по крошечному бледно-зеленому росточку выпустившие, толстые, в детский кулачок, почки тополей; густая, более темная зелень елок – все просквожено солнцем, нежнейшим запахом, все окутано каким-то истомным маревом, соединяющим зримое в одну цельную, не члененную на подробности, картину. И моя нервность от осязаемого бессилия передать все это на бумаге.
Прогулка по вечереющему Эйзенаху. Узенькие улочки и молодой человек, звонящий у какого-то подъезда. Позвонит раз, два, три, нетерпеливо и робко, и тут же отбежит на противоположную сторону, чтобы его увидели из окна. Улочки горбатые и прямые, и косо убегающие вниз, в тень надвигающегося вечера. Улочки, искривленные в самом конце, обещающие тайну.
Домик-музей Баха. Человечество играло и играет на всем, на чем только можно и нельзя: на дереве, на стекле, на бамбуке, на меди и стали, на кости, на коже бычьей и, кажется, на мочевом пузыре. Удивительный инструмент – водяное пианино, привезенное в Европу Франклином, с нежнейшим, чуть певучим звуком. Принцип простой: поет же бокал, если провести по его стенке влажным пальцем. Круглые цилиндры из грубого стекла помещены в сосуд, наполовину полный воды. С помощью ножной педали цилиндры начинают вращаться, прикосновения пальцев исторгают из них тоскующие, долгие, тихие звуки, которые медленно, словно неохотно сопрягаются в мелодию.
ВЕЙМАР
Верстах в пятнадцати от города, «под небом Шиллера и Гете», находится Бухенвальд, самый «прославленный» из гитлеровских лагерей смерти. Лагерь сохраняется в том самом виде, в каком его застало освобождение. На воротах чугунная надпись: «Каждому – свое», и еще одна – «Право оно или не право, но это твое отечество». Здорово утешительно! Сразу за входом, слева, очередная могила Тельмана, здесь он был расстрелян. Бараков, где обитали узники, не сохранилось, но уцелел карцер. Узкий коридор, по обе стороны – камеры. Железная дверь, узкий глазок, задраенная дыра, через которую заключенным подавали еду и воду. Внутри – койка, где откидная, где обычная. В одной камере, где сидел какой-то пастор, – шандал с огарком свечи.
Другая постройка с высокой четырехугольной трубой, не без изящества отделанной деревянными планками, – фабрика смерти. Здесь находились печи. Перед каждой печью – железная тележка на колесах. На этих тележках к печам подвозили трупы, а иногда и полутрупы. Тут же помещение, где расстреливали. В стену вделан прибор для измерения роста. Планка, отмечающая рост, бегала по вертикальной сквозной щели. За стеной, против щели, стоял эсэсовец. Когда планка останавливалась над макушкой узника, он стрелял ему в затылок. Обычно пуля оставалась в черепе, но случалось, проходила навылет. Чтобы не видно было пулевых пробоин на противоположной стене, ее завешивали длинными ремнями. Чудесная предусмотрительность, напомнившая мне о целлулоидных мешочках, висящих над умывальником в дрезденской гостинице. Я долго ломал голову: для чего они? Оказывается, туда надо складывать выпавшие во время причесывания волосы. Их потом собирают и используют для набивки матрацев. «Так сладко спать на этих матрацах!» – нежно сказала мне коридорная.









































