Читать книгу "Дневник"
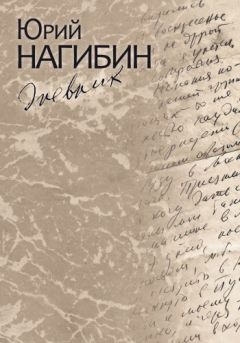
Автор книги: Юрий Нагибин
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: 12+
сообщить о неприемлемом содержимом
На большом дворе – повозка, груженная камнями, в нее впрягали двенадцать провинившихся заключенных, которые должны были сделать по двору двенадцать кругов. Столб с крючьями – это уже для индивидуального пользования; к столбу подвешивали за руки, связанные за спиной; самый короткий срок – полчаса, некоторые выдерживали, но у большинства руки выворачивались из суставов, этих пристреливали.
Супружеская пара: комендант Кох и его жена Ильза. Кох был дважды приговорен к расстрелу своими же собратьями. В первый раз за то, что присвоил полтора миллиона золотых марок, конфискованных у богатых евреев, которые попали в Бухенвальд после покушения французского еврея на советника германского консульства в 1939 году. После вынесения приговора Коху дали возможность загладить свою вину и направили в Люблин, где он сперва устроил великую резню, затем создал образцовый лагерь смерти. Его реабилитировали, а вскоре наградили железным крестом. Затем Коха командировали в Норвегию, где он расстрелял ряд видных норвежских офицеров и схватил сифилис. Болезнь он обнаружил, вернувшись в Бухенвальд, и стал лечиться у двух заключенных врачей-коммунистов. Они его вылечили, и в благодарность были расстреляны. Но пока шло лечение, Кох наряду с другими эсэсовцами сдавал кровь для фронтовых госпиталей. Поскольку у всех эсэсовцев одна группа крови, зараженная кровь Коха механически поступала в госпитали с ранеными эсэсовцами. Он заразил сифилисом сотни раненых. Не представляло труда установить, откуда поступает зараженная кровь. В Бухенвальд прибыла следственная комиссия. Врачи-коммунисты, расстрелянные Кохом, успели доверить тайну двум-трем товарищам, и в один прекрасный, действительно, прекрасный день Кох был расстрелян в родном Бухенвальде и сожжен в печи.
Ильза Кох, судя по фотографиям, похожа на психопатологические типы из книги Кречмера: асимметричное, одутловатое лицо, маленькие глаза, тяжелый подбородок. Но говорят, что густые, неистово рыжие волосы делали ее почти привлекательной. Она любила скакать на лошади. Седло было усеяно драгоценными каменьями, в мундштук вделаны бриллианты, уздечка отливала золотом. Бывший сторож Бухенвальда сказал мне, любовно и гордо, что скачущая фрау Кох «была прекрасна, как цирковая наездница». В лагере Ильза Кох ведала изготовлением дамских сумочек, бюваров и других изделий из татуированной человечьей кожи.
Ее посадили одновременно с мужем в 1944 году. После окончания войны ее предали суду, как военную преступницу. Но сидя в тюрьме, она соблазнила американского майора и забеременела от него, поэтому смертный приговор, который ей вынесли, нельзя было привести в исполнение. Вскоре она благополучно разрешилась от бремени и стала матерью американского гражданина. Генерал Клей немедленно выпустил ее из тюрьмы. Это вызвало взрыв общественного негодования, а Клею пришлось снова заключить Ильзу Кох в тюрьму. На этот раз суд приговорил ее к пожизненному заключению. Она отсидела около девяти лет и на днях была выпущена на свободу. Кажется, она уезжает в Америку. Неужто к своему другу-майору, терпеливо и преданно ждавшему свою маленькую Ильзу? По другой версии она умерла накануне освобождения.
В музее Бухенвальда: гора женских и гора детских туфелек. Груда волос. Простреленное сердце в спирту. Блестящие, похожие на зубоврачебные инструменты, которыми сдирали, а потом обрабатывали человеческую кожу.
В Бухенвальде работали крупные немецкие ученые, врачи. Они испытывали на заключенных противочумную сыворотку. Эксперимент долго не удавался, и в жертву науке были принесены более семи тысяч человек. Испытывали также воспламеняющееся вещество, необходимое для производства зажигательных бомб. Капля такого вещества прожигала тело до кости. Испытывали различные яды.
Бок о бок с лагерем находился парк, где прогуливались жены охранников и прочего обслуживающего персонала с детишками. При парке был маленький зверинец: медведи, волки, грифы-кондоры, орлы, лисицы, зайцы и прочее зверье, радующее детский глаз. «Сейчас Бухенвальд не узнать! – с мягкой грустью говорил мне бывший сторож. – Вам бы приехать к нам лет этак двенадцать назад, как здесь было красиво!»
Я еще забыл упомянуть о высушенной до размера картофелины человеческой голове, хранящейся в музее. Сушение производилось в горячем песке. Такие головы дарились особо знатным гостям, посещавшим Бухенвальд.
Водил нас по лагерю очень красивый, с прекрасной голубоватой сединой человек, бывший узник Бухенвальда. Он просидел здесь семь лет, знал и карцер, и дыбу, и чугунный каток, и, по-моему, еще многое другое, о чем не говорит. По образованию он историк, и хотя его давно ждет место школьного учителя, он никак не может расстаться с Бухенвальдом. Он называет свою прикованность к лагерю смерти долгом, но мне кажется, тут что-то другое: болезненное и жутковатое.
Он показал нам домик, где сидели Леон Блюм, Даладье и Мандель.
А затем, без перерыва, исторические места Веймара: дом Гете и дом Шиллера, памятник Шиллеру и Гете перед зданием театра, памятник Виланду и Гердеру, дом Листа, загородный дом Гете, усыпальница Карла-Августа и всей августейшей семьи; гробы венценосцев бесцеремонно сдвинуты в сторону, а на почетном месте установлены саркофаги Шиллера и Гете. Здесь запрещено разговаривать.
Хорошо вяжется одно с другим: Бухенвальд и эти исторические и культурные сантименты!
По улицам Веймара, мимо памятников, театров и консерватории, где дирижирует сам Абендрот, ездят на велосипедах мило одетые в замшевые штанишки, джемперы, яркие носки и замшевые туфли школяры со свежими, румяными лицами. Я глядел на них с мучительным чувством: Бухенвальд так близок к Веймару, они почти сливаются. Кем они станут, эти юные велосипедисты, при новой заварухе: палачами или жертвами? Кто будет Кохом, а кто тем, чья голова с картофелину? Впрочем, палачи и жертвы, это так условно. Те, кому суждено стать жертвами, станут ими вовсе не по своему свободному выбору, а по случайности, по невезению или родовой обреченности. По сути своей никто не предназначен быть жертвой, ведь и арестанты Бухенвальда делали за своих палачей половину их черной работы, и делали бы другую половину, если б от них потребовали.
Гете не выдерживает соседства с Бухенвальдом. Все его Миньоны, Вертеры, Ифигении в Тавриде, Гецы и Лотты умаляются в карликов близостью простой и серьезной трубы Бухенвальда…
Заальфельд. Куда приятнее не мотаться с экскурсиями, а просто сидеть у окна и слушать шумы ночного города. Гортанные, тревожные вскрики подвыпивших молодых немцев, топот чьих-то тяжелых ног, щелк женских каблучков, тихую музыку, далекий, нежный всплеск девичьего смеха.
Кведлинбург. Нас поселили в очень старой, можно сказать, древней гостинице. Полы трясутся, а стены дрожат при каждом шаге, в коридорах из темных, некогда позолоченных рам глядят почти черные портреты, потолок в ресторане прокопчен, духи появляются даже днем. А за окном гостиницы городская площадь и посреди нее весенняя елка – майбаум: на длинном шесте водружена молоденькая елочка, под ней висит еловый венец, похожий на спасательный круг. Вокруг елки расположились автомобили, очень старые, со спицами в колесах и багажниками, похожими на чемоданы. Современны в этих автомашинах только целлулоидные листки, закрепленные на радиаторах: воздух, обтекая листик, предохраняет лобовое стекло от мошкары и пыли.
Поездка в грот. Я накинул прорезиненный плащ, предохраняющий от сырости, и смело, вслед за другими туристами, шагнул в подземелье. С первых же шагов почувствовал, что добром это не кончится, но отважно шел вперед по узкому коридору и, наконец, добрался до первой пещеры. Хоть и подсвеченная невидимыми лампами, ничего красивого она собой не являла. Я двинулся дальше по еще сузившемуся коридору и вдруг почувствовал: конец! Ни усилием воли, ни разумом невозможно преодолеть то жалкое, нестерпимое, душное, истерическое чувство, которое не дано постигнуть тем, кому оно не присуще. Сохраняя остатки самообладания, я сказал громко:
– Нет, эта прогулка не для меня! – и сразу повернул назад.
Кто-то крикнул:
– Там выключили свет!
Но я не обратил внимания на эти слова. Я благополучно добрался до пещерки, но там, в кромешной тьме, конечно, не нашел продолжения тоннеля. Я стал зажигать спички, но они тут же гасли, то ли от сырости, то ли от недостатка кислорода. Еще немного, и я бы размозжил себе голову о каменную стену, но тут прибежал наш экскурсовод Петер.
– У вас плохо с сердцем?
Он включил свет и, схватив меня за руку, повлек за собой по коридору. Через несколько секунд я был на поверхности земли, в огромном, благословенном просторе, с синим небом над головой. Нельзя передать, что это за счастье! Понемногу прошло мое болезненное состояние. Петер глядел на меня подозрительно; верно, решил, что я его просто разыграл…
Чудесная поездка в Шварцталь[52]52
Шварцталь в переводе с немецкого означает Черная долина, а Шварце – речка Черная. – Примеч. ред.
[Закрыть]. Горы, поросшие необычайно прямыми, мачтовыми соснами, внизу, в долинах, красные черепичные крыши селений и городков. Долго ехали вдоль все сужавшейся речки Шварце. Речка мелкая, быстрая, порожистая. У камней – водовороты, которые издали кажутся снеговыми нашлепками. Множество мелких водопадиков, естественных и искусственных, – через воротца. По берегам: мельницы, лесопилки, мебельные фабрики. Небольшая сила реки используется до отказа.
Потом начались черные города. Черные – из местного черного сланца – дома под черными сланцевыми крышами; кажется, будто они носят траур по самим себе.
В одном из таких черных селений под названием Шене Альтмаркт, в черном магазинчике, продавалась моя книга «Юнге яре». Я сказал продавщице, что я автор. Когда мы уезжали, эта продавщица выскочила за порог с тремя подругами, чтобы показать им великого человека.
Видел на полях Шварцталя немца в замшевых туфлях, вельветовых штанах и фетровой шляпе со шнурком, сеявшего из лукошка под стать шадровскому сеятелю на старых бумажных деньгах.
ПЕРВАЯ ПОЕЗДКА В МЕЩЕРУ (1956 г.)
Из Ефремова в Подсвятье нас перевозила старуха с волчанкой, изъевшей ей все лицо, как ожогами, уничтожившей брови и ресницы. При этом у нее стан, как у молодой женщины, и красивые, стройные ноги. Старуха легко вела челнок по крупной, захлестывающей за борт волне.
На рязанской стороне, в хуторе, связанном весьма тонкими нитями с каким-то призрачным колхозом, стоит дом ее зятя. Он потерял на войне ногу, но со своей одной ногой куда увереннее чувствует себя на земле, чем я с двумя. Сжимая железными руками костыли, он день-деньской мотается по болотам, охотится, ботает рыбу, столярит, чего-то мастерит по дому. Ему все завидуют, ибо, занимаясь своим мужским и нужным делом, он избавлен от необходимости выслушивать скучные уговоры бригадира о выходе на колхозную работу. На работу все равно никто не ходит, но постоянные угрозы бригадира, его крики о прокуроре нервируют людей. Один из них жаловался мне ночью, у озерного костра:
– Ну чего он орет: прокурор, прокурор! Нешто прокурор не человек?
Конечно, человек, и он охотится тут же рядом. Впрочем, всяко бывает, в один прекрасный день он отложит ружье и впаяет подсвятьинским стрелкам долгие сроки разлуки с озером Великим и с речкой Прой, где водятся такие крупные лещи. Но подсвятьинцы почему-то этого не боятся…
Намерзнув на вечерней зорьке – хоть бы один чирок подсел к нашим чучелам и подсадной, – я был в отчаянии от предстоящей ночевки в челноках. Мне было так знобко, так худо, что я отважился на робкий протест, когда мои железные и неумолимые спутники загнали челноки в осоку, объявив неверную, колеблющуюся зеленую зябь островом для стоянки. Они сжалились, и мы взяли путь к берегу. Мы двигались узким, длинным коридором между рядами камышей (хозяин сказал, что этот коридор проложили подсвятьинцы до коллективизации; в подтексте звучало – в ту пору люди еще были способны на серьезное коллективное деяние) и вдруг увидели в конце коридора рубиновую точку костра.
На берегу под дубом горел костер. Вокруг него разместились десятка полтора охотников. Они подкладывали в костер сучья, какие-то доски с ржавыми гвоздями, ветки можжевельника, сухую траву, горящую с потрескиванием, как порох. На дерновой скамейке, недвижный, как истукан невозмутимо-величественный, словно идол, сидел генерал в полной выкладке, только без орденов. Плясал огонь на широких золотых погонах с крупными звездами, сверкали пуговицы кителя и золотой крученый шнур на околышке фуражки. Он сделал лишь одну уступку месту – прикрыл шею от комаров носовым платком, засунув его под фуражку, что придавало ему сходстсво с бедуином. Зрелище диковатое и очень отечественное – у генерала не оказалось специального охотничьего костюма. Но и выносливость тоже необыкновенная: он просидел всю ночь у костра, храня достоинство формы и погон, победив усталость и сон, а утром отплыл в свой шалашик, такой же прямой, несгибаемый, будто его насадили на стержень.
И вообще генерал был хорош. Он рассказывал разные истории и каждую непременно заканчивал, независимо от того, слушают его или нет. Выяснилось, что он участник Гражданской войны, затем был где-то начальником милиции, потом снова воевал на всех войнах. Он рассказывал о панике в конском табуне, и о том, как на него напали волки, о сибирском гнусе и как с ним бороться. Он принадлежал к той раздражающей породе людей, которые досконально знают то, о чем говорят. Я же всегда говорю на риск, не уверенный ни в едином слове, потому что все знаю понаслышке, и то нетвердо. С некоторой достоверностью я мог бы говорить лишь о своей душевной жизни, но об этом не говорят.
На рассвете я сидел в шалашике, дрожа от холода, и до боли в глазах пялился на темную, неуютную воду, на которой кочкой чернела подсадная и вертелись чучела, двоимые ситой. Подсадная казалась искусственной, так была она недвижима, зато деревянные и резиновые чучела резвились, как живые, и все время сбивали меня с толку. Затем возле подсадной возник еще один утиный силуэт, но это было так неожиданно и странно, что, конечно, я не признал в нем желанной цели и опоздал с выстрелом.
Потом, после часов мучительного ожидания, когда за спиной все ширилась желтая полоса зари, воды коснулся чирок и тут же понесся в сторону. Я выстрелил в пустоту, и отдача этого бессмысленного, жалкого выстрела была не только в плечо, но и в сердце. Всей остротой боли ощутил я свою жалкость, обобранность, никчемность.
Когда мы, наконец, отплыли домой, возле причала случилось чудо. Высоко впереди возникли две кряквы, или, как тут говорят, матерки. Они шли над кромкой берега и вдруг, невесть с чего, повернули прямо на нас. Я прицелился, нажал на спусковой крючок, но, конечно, забыл спустить предохранитель. Птицы метнулись в сторону, я неуклюже повернулся, скрутив болью спину, и наугад выстрелил. Не прекращая работать крыльями, одна из крякв косо пошла к воде и не села, а как-то плюхнулась на волну.
– Есть! – сказал одноногий егерь, и хотя он принадлежит к породе ничему не удивляющихся людей, в голосе его прозвучало нечто вроде удивления.
Утка была только подбита, она нырнула и скрылась из виду. Мы поплыли за ней, она возникла среди плоских и сухих поверху листьев кувшинок, у самого берега. Я хотел добить ее, но она снова нырнула. Затем егерь обнаружил ее под береговым выступом, она забилась в осоку. Мы подплыли, и егерь охватил ее рукой, после чего размозжил ей голову о борт челнока.
Приехал в чудное место, в прекрасное сердце России – Мещеру, в даль от всего, что так измучило и надоело, и вместо радости, вместо высокого покоя, дрянненькое, мельтешливое, подленькое стремление скорее бежать отсюда, назад в свою домашнюю скорлупу, вернее – в суету. Чего только не придумывает подсознание, чтобы человек мог поступать так, как ему хочется, а не так, как нужно. Любил ли я Аду сильнее, пламеннее и горячее, чем в эту поездку? Нет! А с чего? Да потому, что мне хочется домой, в коробочку Фурмановой. Страшно простора, тишины, себя один на один. А ведь я чуть было всерьез не поверил, что жить без Ады не могу. А не будь ее сейчас в Москве? Будь вместо нее Лена? Я бы проникся такой одуряющей жалостью к Лене, что так же отсчитывал бы медленные мещерские часы, так же убегал бы в сон, чтобы скорей проходил день, так же чувствовал бы грубую ненужность зари, птичьих голосов над озером, темной воды вровень с бортом челнока. А не будь их обеих? Мне бы до слез и бормотания захотелось бы лелеять старость мамы и Якова Семеновича, сейчас, сию минуту. Желание бежать домой в единый миг способно превратить меня в самого страстного любовника, самого преданного мужа, самого нежного сына.
И все же, едва ли можно объяснить просто слабостью или распущенностью то, что идет сквозь всю мою жизнь. Это какое-то очень глубокое нездоровье, таящееся за внешней моей схожестью с теми, кто умеет делать настоящее мужское дело. Это то, что так и не позволило мне стать взрослым.
Особенно тяжело переносится мною в отъезде мой любимый предвечерний час.
Жуткие рассказы о генералах, без устали повторяемые всеми подсвятьинскими охотниками, с каким-то древнерусским ехидством, исконной мужицкой ненавистью к «дураку-енаралу». Одного генерала Анатолий Иванович опрокинул в озеро, за что тот хотел его подстрелить, да не смог, потому что у него револьвер «размок». Двух других тот же Анатолий Иванович уложил спать в ноябре под стог сена, а сам зарылся в стог. Ночью прихватил мороз, Анатолию Ивановичу хоть бы что, а генералы к земле примерзли. От земли он их отодрал, но руки у них так закоченели, что охотиться они уже не смогли. Кавалерийскому генералу, который приехал в бурке и папахе, веткой глаз выстегнуло, через это он тоже охотиться больше не мог.
Но круче всех обошелся с генералами отчаянная голова – Женичка, брат Анатолия Ивановича. Военный егерь подрядился с ним насчет совместного обслуживания генералов. Женичка предоставляет свою избу под генеральское общежитие, дает свои лодки, возит на охоту, за это получает чаевые, право охотиться в заповеднике и винную порцию. Приехали шесть генералов, охотились и все наградные егерю отдали. Женичку даже за стол не пригласили. Он на первый раз смолчал. Потом приезжают еще шестеро. Садятся ужинать, ставят на стол коньяк, егерю преподносят стопочку, а Женичке опять ничего. Он быстро сгонял жену за пол-литрой, выпил духом, после чего с матом выгнал генералов из дому и все их постели и пожитки на улицу побросал. Перед всем миром опозорил генералов.
Самым же большим дураком из генералов оказался пожилой артиллерист. На первой зорьке он убил трех шушпанов, а когда пошел на другую зорьку, сказал: «Мне шушпанов бить неинтересно, больно они просты, мне бы парочку чирков». Он и верно подстрелил двух чирков, а шушпанов не трогал, хотя они подсаживались к самому шалашу. Вот дурак так дурак!
Закат. На ветке висит ослепительная капелька солнца.
Анатолий Иванович презирает женщин. Попив из Великого воды горстью, он сказал: «Воняет, наверное, баба купалась».
Ливень подступал четкой белой полосой на воде, а над нами шел солнечный грибной дождь. Полоса придвинулась вплотную, отступила, снова подошла и, скрав солнце, накрыла жестоким дождем.
Шура скинула с печи красивую смуглую ногу в спускающейся до колен страшной, заскорузлой штанине. Такие же штаны на ее очаровательной, кокетливой, веснушчатой шестилетней Таньке.
Женичка деловито, холодно и ни к чему, уже после охоты, где он взял с десяток матерых, застрелил на дереве возле своего дома безобидного, доверчивого козодоя. Шура сказала: «Да он такой!.. Застрелит кого хошь, хошь котенка, хошь собаку…»… Она не решилась добавить: «хошь человека».
Я долго стоял на бугре, под елями, над широкой просекой, переходившей в поляну, и тщетно ждал знакомого мне по собственным рассказам, но никогда не слышанного вживе прокашливания вальдшнепа.
Я уже двинулся домой, и тут мне повстречался какой-то парень в картузе, с двухстволкой на плече. Он стрелял дроздов. Паренек показал мне настоящее место, на самой опушке. «Они тянут через развилку в чернолесье», – сказал он. Это было как-то не по правилам, но слово «чернолесье» меня убедило. Я пошел туда, вспугнув двух-трех жирных дроздов, и стал под березками. Минут через пять, не поверив собственным ушам, услышал такое отчетливое, громкое, такое буквальное «хорх», будто его произносил человек.
Оглянулся и сразу увидел вальдшнепа. Как и все куликовые, он казался в полете куда больше, чем на самом деле, и летел он быстрее, чем я ожидал. Плохо прицелившись, я выстрелил. Он продолжал лететь и скрылся за деревьями. Но все, что может дать охота, я испытал.
Обратно шел на дотлевающий, пронзительно золотой закат, сперва краем леса, потом, оставив закат справа, черным тоннелем просеки.
Днем верхушки молодых берез рождают вокруг себя розовато-жемчужное облачко.
ПОДМОСКОВЬЕ
Весь вчерашний день и всю ночь бушевали грозы. Они заходили с разных сторон и разражались над нашим поселком. Здесь какой-то центр всех гроз Подмосковья. Когда ливень утихал редкими, гулкими каплями, небо окрашивалось в тускло-желтый цвет, будто за хмарной наволочью накалялись новые грозы. Потом небо проблескивало молнией, глухой раскат набегал волнами, и прежде чем он затихал, вспыхивал тонкий волосок молнии где-то совсем рядом, и небо раскалывалось вдребезги. Уже в сумерках прошла гроза с градом. Круглые градины ложились ниткой на дорожках сада, горками у крыльца и террасы. Пес выскочил наружу и, задирая морду кверху, ловил их на лету широко открытой розовой пастью.
К рассвету грозы стихли и запели соловьи. Утром в саду, тяжело дышать от теплого, парного, крепчайшего запаха земли, травы и листвы, перенасыщенных влагой. За одни сутки вся природа вошла в зрелость, из весенней стала летней. Воздух гудит: жуки, шмели, мухи, комары, осы. Где-то рядом хорошо и трудолюбиво поет какая-то птичка. Сижу за маленьким желтым столиком в саду. Изжогу я задушил содой, но живот побаливает, колет в сердце. Мне тридцать девять лет, и по физической сути я выносливая развалина. Все же погубит меня не водка, а тщеславие.
Божественная осень, какой не было с довоенной поры. Все горит золотом. Березы нежно и сильно желты днем; тепло, в розоватость, – в предвечернюю пору. Свеже-зелена ольха, осина обтрясла почти все свои красноватые листочки, зелены кусты, лозняк и огромные ветлы над Десной, их зелень чуть припудрена серебристым пеплом.
Пасется стадо на еще зеленой и густой траве. В лесу полно красноголовиков, пни покрыты опятами. Запах нежный и горький, изумрудно горят зеленя озимых. Листы слив чуть полиловели. Вечером – тучки мошкары в саду между соснами.
УСОЛЬСКИЕ И МЕЩЕРСКИЕ ЗАПИСИ
Между сосен не росла трава, вся земля была усеяна мертвыми ломкими иглами и прошлогодними, будто посеребренными шишками. Сосны, очень высокие, прямые, голые чуть не до самых маковок, казались обгоревшими.
Когда неосторожно сожмешь плотву, вытаскивая крючок, из ее брюшка выбрызгивается нежная, розовая, мелкокрупитчатая икра.
Отражение низкой оранжевой луны на воде было похоже на освещенное окно.
К вечеру вода в озере стала сизой и грозной.
В страшной выси проплыла журавлиная стая и отразилась в воде.
Ночью: рыболов встряхивал «паука», и мелкая плотва подпрыгивала в сети, словно серебряные монетки.
Шест гнулся от тяжести воды, которая тут же с сухим шелестом вытекла из сети «паука».
Старик опустил «паука» на воду. Плоское сетчатое дно не потонуло сразу, вода лишь вспучилась в ячейках сети. Тогда старик снова поднял и с силой опустил «паука». Вода хлынула в сеть и утащила ее на дно.
Дворнáя утка, дикáя утка (Подсвятье).
Гриша, когда напивается, грассирует, как француз.
В кухне, у входа, лежала телячья шкура, черная, с белыми пятнами; под рукомойником стояла бадейка, полная тускло-зеленых огрызков малосольных огурцов, картофельной кожуры, размокших окурков, искрошенных червивых дубовиков и еще какой-то кисло воняющей дряни.
Анатолий Иванович обшил дом деревянными светлыми плитами, которые издали кажутся мраморными.
Подбитая утка стала колом, пустив ноги книзу и растопырив крылья, она словно тормозила падение.
В траве лежало раздутое твердое тело мертвой кряквы.
Подбитая кряква нырнула, затем вынырнула и снова ушла под воду, выставив наружу лишь кончик клюва. Волна не давала уследить за перемещением крошечного темного торчка, и мы на чистом потеряли подранка.
Утро пришло без зари. Перед восходом солнца посмерклось, будто настал вечер.
Девочка писала единицы и нолики, потом восторженно кричала матери: «Мама, иди, я тебе кругаля покажу!..»
Болотный лунь с маленькой, изящной головой очень медленно пролетел над шалашом.
Утка была ученая, шарахалась прочь даже от крика подсадной. Егеря по всему озеру поставили высокие вешки. Вешки отмечают места с рясой, которая намертво обвивается вокруг винта мотора. В сумраке вешки кажутся пальмами.
Названия: Липаный Корь, Митин Корь, Исаев Корь; Гостилово, Наумус. Пожань – острова луговые. Малая Пожанька. Кулички – луга, окруженные водой, где можно косить лишь в сухой год; в мокрый год там непролазная болотная топь. На пожанях косят в любой год.
Лесок на берегу – «косица», потому что на речной косе. Гонобобль – дурнава. Ежевика – чумбарика. Чирка зовут «чиликаном» за его тоненький, тоньше чем у всех уток, голосок.
Чудесное выражение: «озеро натихло».
Здесь же вдруг вспомнил Дашкины реченья: «Оделся, как от долгов». «Пусть деревянные фигурки обеспечат себя пылью, тогда я их вытру». «Нет, я не больна, но мне кругом чхается».
Живу на даче, гляжу на сосны, наверное, это и есть счастье, но я так не привык к счастью, что чувствую себя здесь словно на чемоданах.
Зубной эликсир сатаны.
Странная влюбленность Степки в маляров. Целый день с ними, на соседней даче. Жалкий, в стружках, голодный, с опавшими боками. Спит невесть где, сторожит невесть кого. Лишь иногда прибегает с виноватым видом, стружки на заду, покрутит хвостиком, похлебает какой-нибудь дряни из миски и драпает назад. Вот оно, слепое чувство любви! Никакой логики, никакого смысла, никакого расчета, никакой правды и разума. Мне это знакомо.
Недавно была гроза. Молния угодила в дачу Червинского и спалила ее дотла, оставив лишь кирпичную кладку и груду битой, в окалине, черепицы. Кажется, это первый еврей, пострадавший от столь древней русской беды.
Наши левые художники зарабатывают направо.
Кто-то сказал, что Антокольский при Симонове – это умный еврей при губернаторе. Я считаю, что это, скорее, умный губернатор при еврее.
Жалкая история с предательством Солодаря. Его слезы на другой день: «Я не знал, что со мной происходит. Милиционер говорит: пойдите, потребуйте документы. И я пошел, как во сне». Представляю себе западного писателя, помогающего полиции и чувствующего себя как во сне. А у нас это так обыденно, что никто не удивился. Удивились раскаянию Солодаря и простили его со слезами.
В Малом Ярославце поставили памятник партизану 12-го года, Голубеву, – он на день задержал французскую армию своими малыми силами. Зря поставили этот памятник: если бы он не задержал французов, они на день раньше ушли бы из нашей страны.
Девчонка жила с собственным отцом; ей интересно было, как он себя при этом ведет. Когда он, сделав свое дело, но не в дочь, а в тряпочку, поднялся, то сказал: «Видишь, как папа о тебе заботится. Не то что твои испорченные мальчишки».









































