Читать книгу "Дневник"
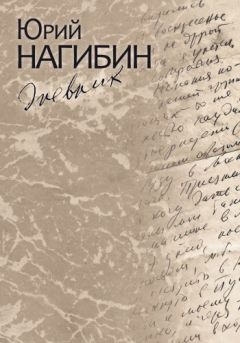
Автор книги: Юрий Нагибин
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: 12+
сообщить о неприемлемом содержимом
Если бы разбился твой самолет, я бы до конца узнал, чем ты стала во мне. Но бьются лишь мои самолеты. А твой в назначенный день и час доставил тебя, целую и невредимую, в руки твоего замызганного мальчика, длинные, слабые руки, способные тискать, мять, шарить, но не обнимать. Сейчас я стараюсь не думать об этом, а думать так, как если бы твой самолет разбился.
Самолет падает семь минут. Это время большее, чем нужно чтобы разнуздалось все низкое, темное, все непотребное в человеке. Путь от примата до человека потребовал тысячелетия, для обратного вырождения достаточно этих семи минут. Я так ясно вижу и чувствую орущую, визжащую, дерущуюся, кусающуюся давильню, что закупорила сама себе прорыв в хвост самолета, будто сам задыхаюсь в ней. И я вижу одну фигуру, оставшуюся неподвижной, вовлеченную лишь в падение самолета, а не в человеческое падение, твою фигуру. Только побледнеет, только покраснеет твое дорогое гибнущее лицо, только сожмутся некрасивые детские пальцы, чуть вскинется рыжая голова, но ты не покинешь своей высоты.
А ведь в тебе столько недостатков. Ты распутна, в двадцать два года за тобой тянется шлейф, как за усталой шлюхой, ты слишком много пьешь и куришь до одури, ты лишена каких бы то ни было сдерживающих начал, и не знаешь, что значит добровольно наложить на себя запрет, ты мало читаешь и совсем не умеешь работать, ты вызывающе беспечна в своих делах, надменна, физически нестыдлива, распущена в словах и жестах. Но ты не кинешься в хвост самолета! И я не кинусь, но лишь от слабости, которая отвратительнее всякой паники, в той хоть есть звериная правда действия.
Самое же скверное в тебе: ты ядовито, невыносимо всепроникающа. Ты так мгновенно и так полно проникла во все поры нашего бытия и быта, в наши мелкие распри и в нашу большую любовь, в наш смертный страх друг за друга, в наше единство, способное противостоять даже чудовищному давлению времени, ты приняла нас со всем, даже с тем чуждым телом, что попало в нашу раковину и, обволакиваемое нашей защитной секрецией, сохранить инородность, не став жемчужиной.
Ты пролаза, ты и капкан. Ты всосала меня, как моллюск. Ты заставила меня любить в тебе то, что никогда не любят. Как-то после попойки, когда мы жадно вливали в спаленное нутро боржом, пиво, рассол, мечтали о кислых щах, ты сказала с тем серьезно-лукавым выражением маленького татарчонка, которое возникает у тебя нежданно-негаданно:
– А мой желудочек чего-то хочет!.. – и со вздохом: – Сама не знаю чего, но так хочет, так хочет!..
И мне представился твой желудок, будто драгоценный, одушевленный ларец, ничего общего с нашими грубыми бурдюками для водки, пива, мяса. И я так полюбил эту скрытую жизнь в тебе! Что губы, глаза, ноги, волосы, шея, плечи! Я полюбил в тебе куда более интимное, нежное, скрытое от других: желудок, почки, печень, гортань, кровеносные сосуды, нервы. О легкие, как шелк, легкие моей любимой, рождающие в ней ее радостное дыхание, чистое после всех папирос, свежее после всех попоек!..
Как ты утомительно назойлива! Вот ты уехала, и свободно, как из плена, рванулся я в забытое торжество моего порядка! Ведь мне надо писать рассказы, сценарии, статьи и внутренние рецензии, зарабатывать деньги и тратить их на дачу, квартиру, двух шоферов, двух домработниц, счета, еду и мало ли еще на что. Мне надо ходить по редакциям, и я иду, и переступаю порог, и я совсем спокоен. Здесь все так чуждо боли, страданию, всему живому, мучительно человечьему, все так картонно, фанерно, так мертво и условно, что самый воздух, припахивающий карболкой и типографским жиром гранок, целебен для меня. Еще немного – и тревожная моя кровь станет клюквенным соком, и я спасен. Но ты пускаешь в ход свой старый и всегда безошибочный трюк. Ты выметываешь из-за стола толстое, сырое тело редакционной секретарши своим движением, с циничной щедростью ты даришь ей свою грудь с маленькой точкой, алеющей в вырезе – не то родинка, не то следок папиросного ожога, – и все идет к черту!
До чего же ты неразборчива! Тебе все равно, чье принимать обличье. Дача, окно в закате, оранжевый блеск снега, лоток с пшеном и семечками, выставленный для птиц, и поползень висит вниз головой, и снегирь то раздувается в шар, то становится тоненьким, облитым, и чечетки краснеют грудками и хохолками, и лазоревка надвинула на глаза голубой беретик. Но вот, вспугнув всю птичью мелочь, на лоток сильно и упруго опускаешься ты большой красивой птицей, измазавшей о закат свое серое оперение. Не розовая, розовеющая, ты принесла на каждом крыле по клочку небесной синевы. Ты поводишь круглым, в золотом обводье, глазом, клюв бочком, клюешь зерно, прекрасная, дикая и неестественная гостья в мелком ручном мирке нашего сада.
– Сойка! – грустно говорит мама, и она догадалась, что это вовсе не сойка.
Все вокруг лишилось своей первозданности, все стало отражением тебя, видится через тебя, ощущается через тебя, все полнится не своей, а твоей болью: и смертельная болезнь, и жалкость родных существ, и звери, и птицы, и вещи на письменном столе. Как это утомляет, как обессиливает – ежечасно, ежеминутно натыкаться на тебя!
О, не дели участи обреченного, не смотри зелеными глазами моей матери, не лижи меня тонким Кузиным язычком, не всплывай нежными скулами со дна каждой рюмки, оставь зерно под моими окнами сойкам, синицам, снегирям, не вселяйся в людей и животных, изыди из окружающих меня вещей. Раз уж ты ушла, то уйди совсем. Это же бесчестно, наконец!.. Словно для тебя существует честное и бесчестное, словно для тебя существуют правила игры. Ты играешь с открытыми картами, это высокая игра – я знаю, – но она так же сбивает с толку, как шулерство. Карты к орденам! Довольно, учись нашей общей, маленькой человеческой игре.
Это была странная ночь. Как будто черный ветер продувал комнату, все сметая в ней, унося прочь; он был огромен, этот ветер, он распахивал не форточки, а стены, и казалось, весь мир во власти чудовищного сквозняка. И я теснее прижимался к твоему узкому, худенькому телу, лишь в нем находя бедную защиту. То я был в яви и думал о том, что наши головы в последний раз лежат рядом на подушке, то проваливался в кошмар таких мучительно-бредовых сновидений, что они остались во мне частицей моей дневной муки: там путались морские коньки и человечьи зады, наделенные самостоятельным существованием – быть может, то были лица наших близких? – и еще какие-то мерзости, которым я не могу найти названия, ибо они были вовсе не тем, чем являлись, и я угадывал их вторую, скрытую сущность, но тут же терял угаданное, и было этих мерзостей, что зерен в гречневой каше, и я задыхался, я совсем погибал в их густоте. А затем, меж явью и сном, – этот черный, зримый острыми клиньями ветер, и невыносимая сиротливость, и спасение в твоих тоненьких ребрах.
И вдруг знакомо, но с небывалой еще силой рванулось прочь из меня сердце. Я вскрикнул и всем телом подался за ним, словно пытаясь удержать его в себе. И тут мне на грудь мгновенно, бдительно и крепко легла твоя чуть влажная от сна ладонь, маленькая и надежная ладонь, которой ты опираешь себя о землю, когда крутишь свои стремительные колеса. И сердце упало в твою ладонь и забилось в ней, и я мог жить этим его биением уже не во мне. Я заплакал, очень тихо, ты и не заметила, заплакал оттого, что никто не был мне так близок, как ты в эту минуту, и это уходит и ничего тут не поделаешь.
Когда сейчас ночью обрывается во мне сердце, я уже не испытываю страха, не вскакиваю со стоном, ведь я знаю, что оно стремится к тебе в ладонь, и зачем мне его удерживать?…
МЕЩЕРА
Мы охотились, сидя в шалаше с круглым деревянным настилом, засваенным в илистое дно. Сложен был шалаш в жемчужно-припотелой сите, с бело-сотовой клетчаткой на сломах, из березовых веток, покрытых такой безнадежно-желтой, сухой, мертвой листвой, что сжималось сердце.
Под настилом все время творилась какая-то кропотливая работа. Я слышал ее давно, но безотчетно, и заметил лишь потому, что егерь Анатолий Иванович совсем перестал интересоваться охотой. Он то колотил кулаком по настилу, то склонялся к воде, раздвигая ситу и что-то высматривая там, потом вынул свой большой складной, с фиксатором, нож и закрепил трехгранное, словно штык, шило. Этим шилом он наугад тыкал в воду, но суета под настилом не прекращалась. Я спросил раздраженно:
– Что там такое?
– Да крыса, – ответил он, – по хозяйству, видать, хлопочет.
И вдруг, закаменев красноватым лицом и сжав мужицкие бледно-сухие губы, он резко, от плеча, ударил шилом в пыльно-бархатистую воду, почти отвесно, под край настила. Вынув мокрую, веснушчатую руку, он удивленно и разочарованно осмотрел трехгранное лезвие, провел по нему пальцами и посучил темными от пороха подушечками.
– Что за черт? – произнес он обескураженно. – И сукровицы нет… – со всегдашней злобностью он сделал ударение не на том слоге. – Я ей в самое сердце ткнул, она на коряжку села, воздуха глотнуть…
Тут что-то пролетело, не то гоголь, не то луток, я вскинул ружье, опоздал с выстрелом и, странно готовый к тому, что это должно быть, опустил взгляд и увидел на своем сапоге мертвую рыжую водяную крысу. Из грудки ее текла не сукровица, а красная, яркая струйка крови. И, взбешенный, я заорал:
– Вышвырните ее!.. Сейчас же, черт бы вас побрал!.. Я ненавижу крыс!..
Я глядел в сторону, но знал, что он за хвост снимает ее с моего сапога, рассматривает и кидает в воду. А потом я увидел на волне маленькую, совсем не противную, рыжую тушку.
– Она от воды и так съежившись, – говорил Анатолий Иванович, – а тут еще подобралась да в щелку и вышмыгнула на сушь…
– Как же она нас не испугалась?
– Нешто тут разбираешь – в смертной тошноте?… – грустно сказал Анатолий Иванович.
А бедная человеческая крыса, которую я пронзил так же бессмысленно и точно? И она выползла помереть на моем сапоге, но отдышалась и взяла деньги на постройку новой норки и удалилась на двух бодрых лапках, как царевна-крыса из балета «Щелкунчик». Ну и что же? Не обманывайся – в маленьком сердце навсегда осталась незаживающая трехгранная ранка.
ИЗ ВЕНГЕРСКОГО БЛОКНОТА
В маленьком сидячем вагончике отправились мы в Дебрецен. Завтракали в вагоне-ресторане тремя тонюсенькими ломтиками венгерской колбасы и ломтиком ветчины, пили чай с лимоном из тяжелых, как ртуть, чашек. За колючей проволокой началась Венгрия. Кукурузные, картофельные поля, яркие озими, убирают капусту, большую, круглую, бледную. На всех мужчинах-служащих – своеобразные фуражки со скошенными, как у пуалю, затылками.
Гостиница «Золотой бык» – смесь старины с современностью. Здание – старинное, но внутри модерн, несколько омраченный гипсовыми фигурами под старину. Вестибюль построен фонарем, в стеклянную крышу этого фонаря упираются окна моего номера, очень убогого.
Обед – суп с вермишелью, очень острый, наперченный; телятина с розовым сладковатым соусом и кнедликами, яблочный пирог, к этому бокал светлого горького пива.
Гуляли по городу. Город поначалу производит такое впечатление, будто его вовсе нет, как нет многих наших районных да и областных городов. Но это оказалось ошибкой. Город есть одноэтажный, в рослых деревьях. Он тянется очень далеко, и мы не достигли его окраины. Это город коттеджей. Большинство коттеджей стары, но встречаются и ультрасовременные: просто, строго, удобно, красиво – весь разум и опыт времени.
В гостинице на двери мужской уборной, помимо надписей на четырех языках, всемирно известные вензеля: WC[53]53
WC – Water closet. – Примеч. ред.
[Закрыть], прибито пластмассовое мужское лицо, с ярко-красными губами вурдалака; над женской уборной – пластмассовое женское лицо, розовое, синеглазое и тоже яркогубое. Эти лица обещают что-то большее, чем простые кишечные радости.
Вечером после ужина остались послушать будапештский джаз. Девка с голой, худой спиной низким голосом пела, орала, хрипела, шептала, плакала какие-то джазовые псалмы, она даже свистела губами и в два пальца. Потом пел красивый, какой-то налакированный парень и тоже здорово. Я запомнил один куплет:
Оле, оле на контрабас,
Пора, пора пуститься в пляс —
или что-то в этом роде.
Двое суток в таком номере, как у меня, способны заставить человека многое пересмотреть в себе и в окружающем.
Мне по-настоящему нескучно только на даче, в близости письменного стола, родных людей и собак.
Был на кладбище. Мощные медные деревья. На многих гранитных и мраморных плитах покойники объявлены впрок. Например: «Елизабет Папп 1889-…». Остается лишь заполнить пропуск. Один старичок, похоронивший жену в 1936 году, вот уже двадцать четыре года оставляет место пустым. Сейчас ему сто пять лет. У бедных над могилами какие-то деревянные грибки. Много свежих цветов и ужасные искусственные венки и бутоньерки в виде сердец.
Большим спокойствием и ясностью веет от этого кладбища. Мне, по правде говоря, было бы скучно жить, если б я был уверен, что непременно умру и непременно в Дебрецене. Как ни тихо живешь, а все рассчитываешь на какую-то неожиданность.
А потом мы были в музее, где вся человеческая культура предстает в какой-то пошлой, захолустной миниатюрности. От скелета неандертальца до пейзажей местных абстракционистов путь тут необычайно короткий: минут семь, три зала.
Еще были в больнице, где прекрасный парк. Запах осенней листвы, чистые красивые халаты на больных и врачи, переезжающие из корпуса в корпус на велосипедах.
Университет. Великолепное белое здание с рекреационным залом на дне глубочайшего, но очень светлого каменного колодца – нечто вроде внутреннего двора среднеазиатских домов. Красивые, нарядные, очень юные студенты. Курить можно во всех коридорах, в стену вделаны железные пепельницы, воздух свеж, отличная вентиляция. От молодежи веет незамороченностью, неотягощенностью противоестественными условностями. От них требуется одно – хорошо учиться. Предполагается, что моральная основа у них и так есть.
27-го утром отъезд в Мишкольц. Скучная дорога, мутная и широкая Тисса. Равнинно и грязновато. Мишкольц – полугород, полудеревня, воздух полон копоти и серной вони. В вестибюле гостиницы – аквариумы с золотыми рыбками. Нетерпеливое ожидание обеда. Вообще я заметил: трапезы во время путешествий едва ли не самое привлекательное и волнующее. Понятно, почему Гончаров так много писал о жратве в своем «Фрегате „Паллада“».
У стойки бара старуха пила пиво, деловито взбалтывая осадок.
Стоит задуматься над тем быстрым изживанием отчаяния, которое уже не в первый раз происходит со мной. В душевной жизни, как нигде, надо придерживаться талейрановского принципа: поменьше рвения. Не торопись складывать свою жизнь к чьим-либо ногам. Погоди, оглянись, может, это не обязательно.
Все остальные записи использованы в «Венгерских рассказах».
Недавно у меня была Комлякова, странная женщина с Игарки. Мы познакомились по письмам. Толстая, некрасивая, в очках, с дурной кожей и удивительно трогательная, даже женственная. Прощаясь, она провела пальцем по моему лицу – тихо, но твердо. Меня тронул и смутил этот жест слепой. После из письма я узнал, что она действительно слепнет (последствие контузии и нажитого в Игарке авитаминоза). Но почему это «ручное зрение» появилось у нее так рано? Я думал, оно приходит с полной слепотой. Или человек бессознательно начинает тренировать себя на это новое узнавание мира?
У нашей жизни есть одно огромное преимущество перед жизнью западного человека: она почти снимает страх смерти.
Голубая пробоина в сером, пасмурном небе.
Опять у неба стеклянный блеск, опять пришла осень.
Хоронили Шерешевского. Крематорий – единственное место на земле, где не чувствуешь себя чужим. Когда гроб опустили в дыру и мы вышли наружу, из труб черно и густо повалил дым. Как много надо жара, чтобы сжечь одного маленького еврея! И еще казалось, что Шерешевский клубами дыма уходит в небо, как джинн из «1001-й ночи».
Мельчайший снег был совсем невидим, лишь чувствовался холодком на носу, но даль молочно мутилась.
Мама прикормила птиц в нашем саду. Совсем рядом с окном воткнула в землю сук и к нему прикрепила фанерку. Дважды в день на фанерку насыпают подсолнухи и семена. Прилетают синички – московки и лазоревки – в голубых беретиках, поползни, чечетки с ярко-красными хохолками, снегири, воробьи, гаечки и даже сойки – розовобрюхие с яркими синими полосками на крыльях. Снегирь сидит толстый, почти круглый, и вдруг от испуга весь утончается, вытягивается, становится меньше самого захудалого воробья.
В ДЕТСКОМ САДУ
Дети встретили меня ликующе: «Юрий Маркович!.. Юрий Маркович!..» – словно я рождественский дед. И тут же наперебой стали просить, чтобы я рассказал, как летал на самолете. Я думал, они спутали меня с Коккинаки. Нет, они звонили ко мне, и им сказали, что я улетел в Ленинград.
– А где вы живете? – спросил меня очень серьезный, с тонким лицом мальчик.
– В Москве, но большей частью на даче.
– На даче? – повторил он задумчиво и радостно добавил: – Там сейчас лето! (Дело происходило зимой.)
Он же спросил меня:
– А вы самый главный писатель?
– Нет, скорее наоборот…
– У них главных не бывает, дурак, – благожелательно объяснил ему приятель. – У них все главные.
Воспитательница рассказала им глуповатую историю собственного сочинения о двух друзьях-изобретателях, построивших подводную лодку. Свой дурацкий рассказ она иногда прерывала вопросами, этакий тонкий педагогический прием, вовлекающий ребят «в сотворчество».
– А лодку свою они сделали непроницаемой… Для чего, ребята?
– Чтобы пыль не набилась! – крикнул с места мальчик, с коленками, круглыми, как ядра.
Ребята старались усесться поближе ко мне. Один взял меня под руку, другой ухватил за карман, третий даже за воротник сзади.
– А если бы вы были моим папой? – упоенно сказала одна девочка.
– А если б моим!.. – тут же подхватила другая.
– Моим!.. Моим!.. Моим!.. – полетело со всех сторон. Вмиг я стал отцом двух десятков детей.
Одна девочка – она носила на рукаве повязку с красным крестом – не принимала участия в наших делах. Она все время лечила себя: ставила градусник, пила капли из бутылки с помощью пипетки и прямо из горлышка (конечно, капли воображаемые), выслушивала себя игрушечным нейлоновым стетоскопом. Она так мужественно боролась за жизнь, что это было даже величественно.
Когда я уходил, они все припали к окнам. Над Мытной улицей долго не умолкало прощальное, отчаянное: «Юрий Маркович! Юрий Маркович!..»
– 1962 -
Январь 1962 г.
Ночью пошел в лес. Полная луна размыто желтела в мутной наволочи, и тени деревьев на снежной дороге были жидкими, бледно-серыми. Полянки светлы почти дневным светом; красиво курчавы инеем ветки молодых берез. Холодный ветер не проникает сюда, в просеку. Я опустил воротник, отер надраенное морозом и ветром лицо и почувствовал, как намерзли ноги в коленях. И от этого собственного холода одуряюще сильно вспомнился холод Машиных ног, когда она приходила ко мне в Подколокольный. Она надевала чулки с круглыми резинками, верхняя часть чулка немного подворачивалась на резинку, оставляя незащищенную полоску тела. Эти чулки были мне добрым знаком, гарантией близости. И я так любил ледяной холод у нее над коленями, который долго-долго не исчезал в тепле постели. Она была уже вся горячей, лицо так и пылало, а на ногах оставались ледяные обручи. И как же я был тогда молод!
Сегодня снова мороз, небо чистое, и ровная, светлая, чистая луна покоится в широком ореоле, серебристом близ нее и розоватом по краю.
Прекрасные стоят дни: ярко-синие, солнечные, огнистые в закате. Ночи полны серебра и черного бархата теней.
Ночью пошел в столовую, что-то громко напевая и совсем забыв, что в большой комнате спит Сашка. И вдруг вспомнил, и ощутил к нему такую жалость и нежность от жалости, что прямо сердце остановилось.
Со мной это случается изредка в последнее время. Возрастное это, что ли? Понимаешь свою жалость и обреченность и оттого так мучительно чувствуешь беззащитность и гибельность близких.
Я, и в самом деле, начал чувствовать свой возраст, чего не было еще год назад. Вдруг постигаешь с непередаваемо горьким чувством, что изменить что-либо, исправить что-либо, искупить чтолибо у тебя просто не хватит времени. Страшно бывает, особенно по ночам.
Каждый раз, просыпаясь после дневного сна, я слышу пение птиц, то весеннее, бурное, радостное пение, что в майскую пору пронизывает, наполняет нашу дачу. И слышу я его не в первые минуты полузабытья, между сном и явью, а совсем проснувшись, в полном сознании. Слышу долго, минут пять, десять. Быть может, это признак склероза мозга, сужения или распада каких-то важных сосудов, или нарушение слухового аппарата, или что-то предшествующее смерти? Не знаю, но звучит это пение и красиво, и радостно, только чуть тревожно. Пишу это и снова слышу птиц за окном. Впервые это пришло ко мне не после сна, а в обычной вечерней усталости. Поют, поют соловьи, жаворонки, малиновки, зяблики, поют в ночном заснеженном, скрипучем от мороза саду.
20 января 1962 г.
Печальная прогулка днем с Геллой. У меня повышено давление, болит затылок и лоб, перед глазами реет паутинка (Лена как-то сказала, что это от малокровия), да и сердце бьется вяло, отчего все тело лишено упругости. День серый, без теней и бликов, падает редкий снег.
Повстречали жалкого охотника с одноствольным ружьем. Оказывается, в наших местах водятся рябчики и зайцы. Но сегодня он ничего не убил, да и вчера тоже. Рябчики зарываются в снег, без собаки их не подымешь. У него, правда, есть собака, но плохо работает. Что-то все и все сейчас плохо работают: собаки, мое сердце и мозг, наши писатели и деятели, крестьяне, шоферы, водопроводчики, печники и печи, дверные замки и электрические бритвы, проигрыватели и магнитофоны, редакции и почта, и особенно – портные… Усталость, что ли? Усталость живой и мертвой материи?…
Хорош был лишь снегирь на ветке бузины, и тот улетел, едва мы его заметили, тоже не хотел сработать на радость нам.
Великое бесстрашие в авантюрной политике, в игре со стронцием, в попрании всех человеческих прав, даже прав желудка, и детский страх перед двумя строчками в рассказе, который никто не прочтет. Неужели литература действительно так могущественна?
3 февраля 1962 г.
Раньше зима, лето, осень и весна были для меня катастрофами, я ждал их, знал, что они придут, и все-таки трепетал. Теперь это просто времена года, а не грозные знаки моей судьбы, моей души.
Я. С., лежащий с повязкой на носу, с пузырьком, набитым льдом, на лбу, в предбаннике 4-го кабинета нашей поликлиники на виду у равнодушных людей. Для меня, сразу ослабевшего всем телом, с рухнувшим сердцем и трясущейся головой, – средоточие всей боли, всего страха, ужаса, жалости и любви, а для окружающих – даже не объект для любопытства. Люди дальше друг от друга, чем звезды во вселенной, те хоть шлют друг другу через миллионнолетия свой слабый свет.
Мне кажется, я стал так беспощадно загонять себя пьянством в неосознанном желании приспособить мой конец к уходу мамы и Я. С. О чем бы я ни думал, у меня даже в безответственности уютных ночных мыслей не получается продолжения без них. И вот что еще характерно: при всей своей мнительности, при столь развитом инстинкте самосохранения я вовсе не пугаюсь тех странных сердечных явлений, без которых теперь не обходится ни одна ночь.
13 февраля 1962 г.
На днях побывал в суде. Там дела не слушаются, а лишь переносятся. Перенесли и наше дело, после того как мы три часа прождали судьиху, задержавшуюся – я слышал это через дверь, – у какой-то прихворнувшей Люськи. Отложилось и предыдущее дело об избиении. Оно откладывается в восьмой раз из-за неявки каких-то неважных свидетелей. Пострадавший, серьезный человек в усах, в вельветовой толстовке, в шубе с барашковым воротником и такой же шапке, по виду заводской мастер, старый уважаемый производственник, стоически пережил неудачу. «Ничего, ничего, мы доведем дело до конца», – говорил он своей симпатичной, жалко-растерянной жене.
Его избил зять, муж дочери. Зять пытался выбросить его с пятого этажа, но не сумел и ограничился тем, что прошиб ему голову и сломал три ребра. Он тоже расписывался в судейской книге, бледный, с плоским, лопатообразным лицом. Свидетели были в отчаянии: восьмой раз вызывают их и все без толку. Тут, как из ящика Пандоры, посыпались такие типические несчастья, что и нарочно не подберешь: у одной – обвалился потолок, у другой – некормленый ребенок в коклюше, у третьей – старуха мать умирает, четвертая – на сдельщине и теряет здесь заработок. Бабы орали, плакали, ругали на чем свет стоит и суд, и пострадавшего, который хранил ледяное спокойствие и достоинство. Похоже, этот жалкий процесс стал содержанием всей его жизни, он произвел на меня впечатление человека, живущего полно, целеустремленно, напряженно, интересно. Когда суд наконец состоится, в чем я, однако, не уверен, и его зятю дадут года два за злостное хулиганство, в его жизни образуется зияющая пустота.
Хорошие дни. Рано встаю, работаю до обеда, потом хожу на лыжах. Со мной собаки. Рома преданно и чинно идет сзади по лыжне, Пронька носится как угорелый, проваливается в снег, с трудом выкарабкивается и снова оступается в снежную глубину. Оказавшись сзади, он теснит Рому и наступает прямо мне на лыжи. Но отбежав далеко, поворачивается и смотрит, куда я направляюсь. Пасть открыта, в бороде сосульки, рожа до слез умилительная. Рома, как и подобает его почтенному возрасту, ведет себя куда дисциплинированней. Только иногда вываливается в конском навозе на дорогах. Мы решили, что это полезно для его шерсти. Снег намерзает у Ромы в подушечках лап, и когда мы возвращаемся домой, он стучит ими, словно каблуками на подковках.
Снег ярко-бел, а тени голубые, и березы начали чуть лиловеть нарождающимися почками, и много солнца. Вдалеке чернеют деревеньки, кричат сороки, алеют на кустах снегири, и надо твердо знать, что это и есть счастье, о котором я когда-нибудь вспомню с тоской, нежностью, болью.
(Вспомнил сегодня, перепечатывая эту запись. Немного минуло времени, а уже нет в живых ни Прони, ни Ромы, а Роминой хозяйки – все равно что нет в живых.)
Огорчают меня лишь злые мысли, вдруг вспыхивающие во мне на этих чудесных прогулках.
28 мая 1962 г.
Сейчас чудесный жаркий подвечер, мощно пахнут три ландыша, а на улице запах яблоневого цвета. Тюльпаны так широко раскрыли свои чашечки, что уподобились гигантским ромашкам, бесстрашно скачут возле веранды стройные скворцы, то загудит шмель, то заноет самолетом оса, то зажужжит большая муха с глянцевой зеленой спинкой, то ударится о стекло пулей на излете янтарный майский жук. Рай, да и только!..
А в наполненном цветами, прохладно распахнутом на все четыре стороны доме мечется в сердечном спазме, с мокрым от слез, разбитым в синь мною личиком, в коротких штанишках и полосатой кофточке Гелла, исходят последней, предсмертной добротой к своим больным детям мама и Я. С, и я, пропичканный всеми лекарствами, несчастный и все же грубый, бедный душой от бесконечного пьянства, сижу и пишу эти строки.
Так я отпраздновал свою «великую» беду – неотъезд в Японию. Я давно начал этот праздник, ибо со свойственной мне зверьевой, сверхчеловеческой чуткостью уже месяца полтора назад угадал, что не поеду. И тогда уже я перестал писать, утратив все слова, кроме самых злобных. Я дошел до края, я стал чумой не только для близких: мамы, Геллы, Я. С., но и для всех, кто ко мне приближался. Я доканал жалкого, вечно пьяного Тольку. Я сломал даже партийного босса Виля[54]54
Замсекретаря парторганизации СП.
[Закрыть]. Хватит, пора вернуть себе человеческое лицо.
Слова, слова, вернитесь ко мне, спасите меня!..
ПУТЕШЕСТВИЕ В ЯПОНИЮ
По мере того как очертания Фудзиямы становились все более зыбкими, я все тверже и яростнее наливался коньяком. Я еще суетился по инерции, а также из деликатности к моим доброжелателям и советчикам, но при этом твердо знал, что сегодня Япония мне уже не нужна. Я нашел свою Японию на дне рюмки – отличная, беспечная, пропащая страна! Ох и попутешествовал я по этой стране. Всего четыре дня длилось путешествие, но я изъездил ее вдоль и поперек. Я подымался на все вершины, спускался во все пропасти, в жерла вулканов, нисколько не страшась встречи с дьяволом. Ну и японцы – вот народ! Теперь я знаю их, как облупленных. Они такие же разложенцы, как мы, такие же алкоголики, как мы, но во сто крат грязнее, глупее, темнее и смраднее. Когда Виль – имя-то какое! – вспоминает сейчас о минувшем кошмаре, его больше всего удивляет и смущает, что он танцевал танго и медленный фокстрот. Не то, что он спился, блевал, лез к моей жене и был унизительно вышвырнут ею из комнаты, не то, что он спал на глазах у всех с проституткой, намочившей на него и на диван, не то, что весь поселок оказался свидетелем его разложения, не то, что по дороге ему пришлось сцеживать блядское молоко в бутылку из-под пива, а то, что он танцевал западные танцы.
– Я же никогда не танцую! – говорил он мне с милым смущением, видимо, все остальное ему привычно.
Впрочем, он по-своему прав. Ведь за эту экспедицию он получил благодарность парткома и райкома: мол, не оставил беспартийного в трудную минуту жизни, а оказал ему моральную поддержку, твердой и теплой партийной рукой направил на путь истинный!
Ветер треплет деревья, гнет их чуть не до самой земли. Воздух черен. А на душе печаль и незначительность.
Писать о себе всерьез я все еще не могу. Страшен и мучителен я самому себе.
В конце апреля – начале мая был на охоте. До смерти не забуду, как рядом с моими ярко-разукрашенными чучелами вдруг оказался некто, с долгой красной шеей и красной головой, с коричневыми крыльями и белым телом, живой, гордо и медленно плывущий в сторону подсадной. «Шушпан» – красноголовый нырок в своем брачном наряде. Я так волновался, что добил его лишь шестым выстрелом. На всех остальных селезней мне довольно было и одного выстрела.
Озеро имеет совсем иной вид, нежели в привычное для меня летне-осеннее время. Оно какое-то голое, не убранное зеленью. Сухие тощие камыши, сквозная мертвая сита. Шалаши сложены из еловых лап, вверху плотная крыша, чтобы не стрелять влет – можно подстрелить самку. А как выглядят мои серенькие знакомцы! Жалкий свистунок расцвечен, как павлин: головка коричневая, грудь белая, зеленые перышки в крыльях сверкают и перламутятся. У свиязи красно-коричневая головка, у матерок – зеленая в прочернь голова, медная шея, светлые брюшко и грудь и яркая пестрядь на крыльях; лишь трескунок почти не изменился, только на голове белая полоска, видимо, трескунячьи дамы не любят пижонов.
Анатолий Иванович приметно огрубел душевно на официальной службе, что, кстати, не удивительно. Это никому не проходит даром. Впрочем, иногда он вновь становился хорошим и гордым. Охотники завели с ним за бутылкой пошлейший разговор о светлом будущем, о том, что жизнь его еще будет сказочно прекрасной.









































