Читать книгу "Дневник"
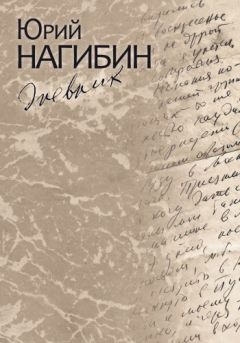
Автор книги: Юрий Нагибин
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: 12+
сообщить о неприемлемом содержимом
– 1952 -
4 апреля 1952 г.
Вот и случилось то, чего я всегда ждал, как самого страшного, и все-таки ждал. Может быть, для того, чтобы узнать всю меру своей подлости, даже не подлости, а эгоистической наивности. И все же, я никак не думал, что это так тяжело, и настоящим эгоистом быть – кишка тонка. Утром, когда солнце пробивалось сквозь штору и комната была похожа на детскую, – пришла телеграмма: «Ваш отец умер сегодня ночью». Как будто при всех хлестнули по морде грязной метлой – ощущение ошеломляющее по своей наготе и грубости. Как они осмелились написать слово «умер»?
А потом опять ужасное по безысходности чувство: где-то была допущена ошибка, все еще можно было исправить, страшная ошибка, когда мы вдруг выпускаем из рук жизнь близких людей. Настоящей, самоотверженной любовью можно удержать близкого, родного человека на земле, как бы он не склонялся к смерти. Если б я поехал, если б он знал, что я его люблю, как я это знаю сейчас, какие-то неведомые силы удержали б его в жизни, несмотря на склерозированный мозг, несмотря на больное, усталое сердце. Я его предал. Он это почувствовал бессознательно и отказался от жизни. Все остальное делалось формально, санатории и больницы не спасут, если человек решил умереть.
И в этом смысле мое второе предательство – то, что я не поехал его хоронить, – уже не играет роли[34]34
Хоронить М. поехала моя жена Лена. У меня был рецидив того заболевания, каким меня наградила контузия.
[Закрыть].
Вот и кончилось то, что началось дорогой в Кандалакшу, когда я вновь обрел то странное, острое, непонятное, значительное, что заключено в слове «отец». Считается, что отцовское начало – сильное. Для меня это всегда было иным: мягким, страдающим, спасающим от последней грубости. Я должен быть ему благодарен больше, чем любой другой сын – своему отцу, кормившему, поившему, одевавшему его. Я его кормил, поил, одевал. В этом отношении мое чувство совершенно свободно. Но благодаря ему я узнал столько боли всех оттенков и родов, сколько мне не причинили все остальные люди, вместе взятые. Это единственная основа моего душевного опыта. Все остальное во мне – дрянь, мелочь. Но маленькая фигурка за колючей проволокой Пинозерского лагеря, маленькая фигурка на Кохомском шоссе, у автобусной остановки на площади Заменгофа, голос по телефону, слабый, словно с того света, душераздирающая печаль кохомских общественных уборных, проводы «до того телеграфного столба» и взгляд мне в спину, который я чувствовал физически, даже когда сам он скрывался из виду, – это неизмеримо больше, чем самый лучший отец может дать сыну.
Да и можно ли говорить о нем «отец»? Отец – это что-то большое и вне зависимости от своих качеств авторитетное; отец – это благодарность за съеденный в детстве, отрочестве и юности хлеб, это что-то обязывающее себя любить. Какой же отец мне этот крошечный, мне по плечо, слабый, незащищенный человечек!..
30 апреля 1952 г.
Впервые в жизни выезжал на рыбную ловлю. Когда стояли на берегу, Игорь обратил наше внимание на странную, «двухэтажную», как он выразился, лягушку. Приглядевшись, я обнаружил, что это две лягушки, слившиеся в акте любви. Он охватил свою подругу сзади, пропустив свои пухлые, детские, человечьи ручки ей под мышки. Казалось, он сцапал ее за титьки, головой прижался к ее плечу – поза, любимая Сомовым. Они то замирали, то принимались скакать, в лад отпихиваясь ножками. Этот влюбленный всадник обскакал на своей даме весь берег, по длительности своего омерзительного наслаждения они могли дать сто очков вперед любой, самой неистовой человеческой паре.
Это было так гадко и бесстыдно, что мысленно я дал себе слово никогда больше не жить с женщинами. Насколько прекраснее и чище раздельная любовь рыб.
О весне наговорено много красивостей, но самый точный и полный образ весны, всеобщего влечения, слияния и зачатия – эта скользкая, зеленая пара. Весна – самое разнузданное время года, сплошное совокупление людей, животных, насекомых, деревьев, цветов. Весенний мир – гигантский бардак.
Но красиво! Деревья покрылись желто-зеленым, нежнейшим пухом, на озере ярко-синий пояс воды обвил белое, в снежном налете, поле льда. И, показав потрясающую синь неба, проплыла журавлиным клином стая гусей. А за ними, совсем низко, размахивая крыльями, как пустыми рукавами, пронеслась тройка диких уток.
Игорь вскинул ружье. И я понял, что весна – это еще пора великого убийства. Свинцом, картечью, дробью, острогами, сетями истребляется одуревшее от любви зверье.
29 декабря 1952 г.
Похоронили Л. А.[35]35
Мать моей жены Елены Черноусовой.
[Закрыть] За один день большая, полная, властная, добрая, требующая массы забот женщина превратилась в сморщенную куклу. Похороны были хороши своей сухостью и тем, что я впервые понял по-настоящему непробиваемое равнодушие людей друг к другу. И еще я понял, что нет более глубокой пропасти, чем та, которая отделяет человека любящего от нелюбящего. Мы все с одной стороны и Лена с другой были людьми с разных планет. Мы не совпадали друг с другом ни в большом, ни в малом. Жалкая потерянная фигурка Лены у хороших своей строгостью пироговских клиник не стала менее одинокой, когда ее окружили пять тумб: Я. С., мама, я, Лазарь и Немка.
Сейчас у меня такое чувство, будто по мне проехало огромное мягкое колесо. Кости целы, но весь я смят, скомкан и ни на что не годен.
Человек стареет только от несчастий. Не будь несчастий, мы жили бы до ста лет. Эти дни я чувствую себя таким безнадежно старым, что плакать хочется. Самое тяжелое во всех настоящих несчастьях – это необходимость жить дальше. Самый миг несчастья не столь уж невыносим. В боли, в муке, в слезах все же испытываешь какой-то подъем. Отсюда наше постоянное слоновье удивление: он-де замечательно держался. Не он держался, это натянувшиеся нервы его держали. Но вот наступают будни, а с ними и подлинная тяжесть беды. Тогда-то и становится страшно.
– 1953 -
Сейчас я кое-что знаю о том, что называют любовью. Это давящее, грубое и бестолковое чувство, быть может, скрашивающее тупую жизнь обывателя, но совершенно ненужное, лишнее и мешающее в жизни человека творческого.
Самое постоянное ощущение, сопровождающее мою любовь, – ожидание того, что меня, словно мелкого воришку, вот-вот схватят за воротник.
Все время сплю. Усталый, замученный дрянной, мелкопорочной жизнью мозг омывается сном, как ливнем. Только сейчас я узнал, как нездорово жил все это время, как отвык от своей тишины, в какой дальний вонючий угол забился от самого себя. Не на крутом повороте ломаешь башку, в маленьком грехе, становящемся повседневностью. Когда день превращается в цепь маленьких удовольствий: папироса, рюмка водки, баба, приятельский треп, случайная легкая книга – не в бреду яркой вспышки, в мягкой лени теряешь себя. Все так просто понять, все так трудно исправить. Я как бы в рабстве у своего большого, жирного тела. Дождь для него – беда, тишина – беда, покой – беда, ему сладенького подавай каждый час, каждый миг. Загоняло меня брюхо, как официанта, то ему папиросочку подавай, то водочки, то кофейку крепкого, то бабу, то легкого чтения! Вот свинья-то!..
Дождь в Комарове. Мокнет, никнет, превращается в гамак волейбольная сетка. Мокнет невесть как попавшая в сад птичья клетка и ярко-голубой пластмассовый бритвенный тазик. Между соснами налились лужи, в каждой – флотилия шишек и мертвых игл.
В начале дождя сад запах сильнее, затем бесконечные потоки воды словно смыли запах.
Набухают и лопаются пузыри в лужах, будто там дышит кто-то.
Очень желты доски под черными, напоминающими резину, кусками толя.
И хочется жить трезвой, бодрой жизнью, хочется снова видеть мир.
Она храпела, и в конце каждого выхрипа звучал звоночек.
Барон Мюнхгаузен ловил у экватора летающих рыб, закидывая удочку в небо. Порой крючок цеплялся за реи корабля, как за водоросли.
В один день голые деревья покрылись нежным желто-зеленым цыплячим пухом.
Рыбачка задрала юбку до самых подмышек. Бледно-зеленая вискозная рубашка плотно облегала крутой зад и толстые крепкие ноги. Подойдя к воде, рыбачка задрала подол рубашки, заткнув его за резинку трусов. Криком выгнав из воды своего мужа и другого рыбака, принялась вытягивать лодку. Ее вид нисколько не смущал рыбаков, не смущал меня. Трусы были телесного цвета, и рыбачка издали казалась голой до пояса. Вдохновленный этим зрелищем, я попытался написать рассказ о такой вот могучей дочери моря, но у меня ни черта не вышло.
Опять то же: нежная листва, запах проснувшейся земли и печаль своего непричастия.
Грозная, наполненная взрывчатой силой, будто проснувшаяся от зимней спячки, толпа у Сокольников.
В эту жутковатую, с мрачно-двусмысленным выражением, толпу пошла Ада[36]36
А. В. Паратова – артистка эстрады, впоследствии моя жена.
[Закрыть] крутить свое бедное тело.
Очнулись нам подобные и затосковали о культуре, очнулась толпа и затосковала об убийстве.
Спектр толпы резко сместился к уголовщине.
Крутится Наташка по деревянной стенке своего фантастического ипподрома, крутится Ада на всех подмостках Москвы, крутятся, как белки в колесе, и все не выкрутят милости у судьбы.
Я пишу так мало не из лени, а потому что искренне меня действительно мало что трогает. Писать можно только высокие некрологи, остальное мелко и необязательно.
Приятно откупаться от жизни деньгами. Великий принцип чаевых должен быть распространен на все: на литературу, любовь, семейные отношения.
В сущности, я привязан не к людям, а к обстановке. В короткое время Гиппиус, или другое четвероногое, может заменить мне мать, жену…
И рыдать при виде каждой афиши…
12 июля 1953 г.
Нечего себя обманывать – я не хочу писать. Не то, что активно не хочу, нет – рефлекс тянет меня к письменному столу, к карандашу, но мне не о чем писать, не для чего писать. Мне бесконечно утомительно написать хотя бы одну фразу – слова так трудно складываются! Да и ради чего должен я себя мучить? Моя душа заросла плющом, мохом, дроком и другими душащими растениями, которые от века символизируют запущенность, забвение, пустоту вечности. Что со мной сталось? Ранний склероз? Усталость мозга от дурной, мелко-порочной жизни? Или жалкая удовлетворенность полууспехом? Я. С. замечательно угадал хорошее настроение, в котором я переживаю свой нынешний распад. Что-то замораживается, окостеневает во мне. Скверное, маленькое, пошлое владеет всей моей душевной жизнью. Словно я уже свел все счеты с детством, юностью, зрелостью, деревьями, со всем болезненным, что тянуло меня к бумаге.
Чего я сейчас хочу? Баб? Нет, их и так было слишком много. Водки? И ее было с избытком. Ложной лихачевской легкости? Чуть-чуть, не более, этот обман я тоже слишком хорошо знаю. Славы? Но по слабой тени ее я узнал, что такое наша слава, жрите сами. Денег? По-настоящему мне никогда их не хотелось. Но ведь я всегда жил в напряжении духа, подчас пустом, низком, направленном на малые дела, но я никогда не жил вяло, пассивно. Напротив, что бы я ни делал: писал, пил, развратничал, читал – я все делал на пределе своих сил, все делал страстно. Я не выпивал, а пил мертвую, я блудил каким-то первородным грехом, я работал, как фанатик. Меня всегда надо было удерживать: от работы, от водки, даже от покупки туфель. На каком повороте выронил я лучшее в себе? Может быть, это просто нервный спад, ожидание каких-то перемен, не позволяющих браться за прежнюю жвачку? Но для себя-то можно! Для себя-то, как никогда, можно! Неужели я настолько опустился, что мой полууспех мгновенно заглушил во мне все настоящее, лучшее? Прожив тридцать три года с самим собой, я вдруг обнаружил, что имею дело с незнакомым человеком. А ведь когда-то я знал себя!..
Сегодня утром слышал разговор Веры и Лари[37]37
Ларя – сестра Верон.
[Закрыть]. Ларя рассказывала о том, как умерла их старшая сестра Саша.
– Поела, выпила полторы кружечки пива, попросила внучку: «Переверни меня на левый бок» – и сразу померла.
Вера коротко взрыднула – над собой, ночью ей было нехорошо. Ларя сказала:
– Катюха наша очень плоха, ногой не владеет, сейчас вовсе на лапу перешло.
Когда они прощались, разговор шел о твороге, но в подтексте было что-то очень трогательное, что я впервые почувствовал в их отношениях.
Потом Вера зашла ко мне.
– Старшая сестричка убралась. Теперь моя очередь.
После этого она с удвоенной энергией кинулась к соседям за молоком, в лавку за ста граммами кофе, к Фире за нашими рюмками. Мы с трудом удержали ее от поездки на рынок, в тридцатиградусную жару за пучком петрушки! Ей обязательно хотелось зажарить мне яичницу, сварить Лене кофе, выкупать Лешку. Инстинкт самосохранения. В этом беспрерывном кружении – сила, держащая ее жалкое, дряхлое тело на земле. Предоставь Вере покой – ее не станет в месяц. Самое здоровое для старика – жить в привычном напряжении сил. Отдых – для молодых.
Вечером разговор Лены с теткой по телефону:
– Ты договорилась о месте на кладбище?
Много умирают вокруг. Как старый сад уходит назад в землю целое поколение. Но все, даже самые старые, уходят недоростками. Ни про одного нельзя сказать, что он покончил счеты с жизнью. Каждый лишь собирался начать жить, еще надеялся, ждал. Это умирают не старики, а дети, с детским легкомыслием, с детскими мечтами, надеждами, с детским неведением самих себя. Я бы хотел увидеть хотя бы одну смерть, подобную той, что описал Довженко в сценарии «Мичурин». Смерть человека, сделавшего все, что в его силах, изжившего свою жизнь, а не протомившегося в ожидании жизни. Если я завтра умру, неужели мне закажут настоящий, взрослый гроб? Двадцатисемилетний Лермонтов умер взрослым, шестидесятилетний Абдулов – мальчишкой.
Я смотрю на своих близких чуть отчужденно, как смотришь на поездных спутников, когда им приходит время сходить. Понимаешь, что близится конец короткому и милому поездному знакомству и ни к чему не обязывающей привязанности. Скоро они сойдут, и плевать им на тебя, которому еще продолжать путь.
Первой сойдет Вероня, она уже увязала кошелки, она уже в тамбуре. Кто следующий?
ПО ДОРОГЕ ИЗ КОКТЕБЕЛЯ (1953 г.)
Со скоростью девяносто километров в час вспарывали мы ночь косым лезвием фар. Кругом перекатывались валы тумана, шоссе тоже клубилось туманом. Казалось, весь мир, утратив свою вещественность, растекся мутным, голубоватым туманом. И вдруг резкий удар о переднее стекло напомнил о материальности окружающего мира. Странно это случилось: сперва удар, а когда все было кончено, я каким-то обратным зрением увидел на черном распах крыльев в левом верхнем углу стекла, панический трепет ослепленной птицы, скользнувшей через миг куда-то в сторону, в смерть. Это была дрофа.
И сразу вслед за тем на шоссе показался жалкий голенастый заяц с такими длинными задними ногами, что в первый момент я принял его за тушканчика. Он сидел в пол-оборота к нам, тараща зеленые невидящие глаза. Острое и сладкое чувство пробудилось во мне: сейчас я задавлю зайца. Впервые в жизни сознательным и ловким усилием лишу жизни дышащее существо. Я давно мечтал утвердить себя каким-нибудь грубым, жестоким поступком. А с той минуты, как я ощутил близость Ады, желание это приобрело силу навязчивой идеи.
Зайцу некуда деваться, слепящий свет фар для него, как клетка, и все же я прибавляю скорость. Зайца уже не видно, он под машиной, но что это происходит со мной? Я делаю чуть приметное движение и пропускаю зайца между колесами. Теперь, если не будет толчка – значит, все обошлось, заяц невредим. Жду этого толчка каждым нервом. Но бег машины ровен, лишь слышится слабенький удар о заднее колесо, удар не прямой, а по касательной. Резко торможу, заводя машину к обочине. Заяц лежит на шоссе. Он и не живой, и не мертвый. Какой-то очень длинный, словно растянутый, ощерились острые резцы, голова дергается. То ли он просто оглушен, то ли это конвульсивные движения уже мертвого тела? Я оттаскиваю его за уши к обочине, он странно тяжел, но ведь я не знаю веса живого зайца.
Мне хочется плакать, открыто, бурно, без стыда, как в детстве. Не зайца мне жалко, себя. Раз в жизни решившись на какой-то определенный, завершенный в себе поступок, я так и не сумел довести его до конца, в последний миг вильнул в сторону. Так и остался между жестокостью и слабостью…
Под вечер я вдруг засыпаю обморочной глубины сном. Я сплю яростно, со всем напряжением существа, я сам ощущаю свой сон, как работу. В первые секунды этого сна я чувствую, как мой мозг во все лопатки удирает от яви с ее голосами, запахами, сумятицей ненужных дневных впечатлений. Затем я – на дне глубочайшей, черной ямы, где меня уже никому и ничему не достичь. И я так же, физически отчетливо, наслаждаюсь этой недосягаемостью. Затем – чертовщина мучительных снов. Сны в эти вечерние часы всегда скверные, подражающие чему-то реально пережитому и как-то гадко оголяющие сердцевину переживания. Их тема – почти всегда бессилие. Я догоняю – и не могу догнать, я говорю – меня не слышат, я хочу ударить – но рука не подымается.
Когда сон исчерпывает себя, я перехожу на полуявь. Я слышу все, что делается вокруг: голоса, звонки телефона, песий лай, грохот посуды в Вериных руках, но даже если происходящее требует моего вмешательства, я не в силах подняться с тахты. Да мне и не хочется этого. Странное ощущение покоя и счастья владеет мною в эти минуты. Счастье оттого, что слышишь шум жизни и остаешься в благостной непричастности к нему. Тут примешь все, даже смерть близких, в эти минуты ты выше всех привязанностей. Затем – невыносимая печаль пробуждения.
– 1954 -
В ДОМЕ ОТДЫХА (1954 г.)
Как же загнал я себя душевно, если мне приходится добровольно скрываться в этой крошечной, прокуренной и непроветриваемой одиночке! Не работать сюда я ехал и не отдыхать. Я слишком устал и для того, и для другого. Просто отсидеться – вот моя цель. В серьезный тупик я попал, и нечего скрывать это от себя. И главное, мне самому порой непонятно, почему я не могу все это прекратить. Боязнь обидеть – вряд ли, я обижал и сейчас могу обидеть кого угодно. Есть во всем этом что-то болезненное, что-то до того безвольное, что страшно делается. Ведь эта игра выхолащивает меня хуже водки, хуже курева, хуже всех пороков, вместе взятых. А чем дальше, тем труднее будет выкарабкаться.
Попробую разобраться в этом здесь, на трезвую голову. Если не пить и писать, то опять проснется тот здоровый инстинкт самосохранения, который вызволял меня из всякой дряни.
Простор был окутан голубоватой дымкой, будто курился еще по-зимнему крепкий снег. Тускло-голубой, снег был кое-где подернут твердой коркой, горевшей под солнцем золотой рыбьей чешуей. Все было зыбким в просторе: деревья, избы, темные стога сена. Ясно и резко светлели прозоры между далекими деревьями, казалось, будто за ними находится большая вода.
У выпуклого бока молодого трехдневного месяца сверкала большая чистая звезда. С каждой ночью, по мере того как месяц рос и округлялся, звезда стремительно отдалялась от него. Она как будто хотела сохранить свою отдельность. Но вот она отошла так далеко, что потерялась среди других звезд.
Вероня очень мало переняла от нас. Она была слишком самобытная, резко очерченная натура. Единственное, что она переняла, – это умение находить сходство с знакомыми людьми у теней, пятен, следов копоти и плесени. И делала она это порой очень тонко. А если мама с ней не соглашалась, она сердилась и долго ворчала на кухне.
Почему-то мне это вспомнилось на вечернем перегоне между моей одиночкой и столовой.
Апрельскому снегопаду приходится потрудиться, чтобы хоть узенькой каемочкой украсить деревья. Хлопья падают густо и неустанно – большие, слепленные из многих снежинок, но влажные и непрочные. Прикасаясь к коре деревьев, уже набравшей живое весеннее тепло, они мгновенно исчезают – стаивают и неприметными струйками стекают вниз. Надо, чтобы снежинку, коснувшуюся ствола, тут же прикрыла вторая, третья; часть этого комочка стает, но часть сохранится белым мазочком на черной коре. Потребовалось около четырех часов неутомимого, – голова кружилась при взгляде на окно, – снегопада, чтобы тоненький бордюрчик лег на толстых сучьях, чтобы белой пудрой присыпало горбики серых, обросших сухой наледью сугробов.
Остренькие листочки молодой, только что распустившейся рябины.
Хрустально сверкающие закраины лесных луж.
РАЗГОВОР С МАЛЬЧИКОМ
– Я в третьем классе.
– Значит, тебе десять лет?
– Нет, я восьми пошел.
– Так одиннадцать?
– Нет, я во втором классе болел корью, свинкой и зубами, два года просидел.
– Значит, двенадцать?
– Нет, я весенний. Мне намедни тринадцать исполнилось.
Как трудно дается истина! А парень хороший, толковый, разговорчивый, в ушах – пуды грязи.
– Как живешь?
– Так себе! – легкий вздох. – Помаленьку.
На окнах моих решетка, за окнами – часовой.
Только вера в то, что сам я чего-нибудь стою, мешала мне стать добрым. Я чувствую в себе те мягкие и упругие центры, которые вырабатывают доброту.
Вера, обмочившись, плачет в своей комнате. Пес высунул член и, безобразный, тряпичный, валяется среди коридора. Он убирает срам лишь для того, чтобы наблевать у порога. Из Лены на кухне вываливается, шлепнув как коровий блин, сгусток величиной с печень, затем она охлестывает ванну потоками крови. Мама вся во власти бацилл и микробов, тесня друг дружку, все новые болезни стремятся завладеть ее усохшим телом. И вся эта бурная физиология распада творится в спичечной коробке нашей квартиры.
После несчастий, так же, как после пьянства, – состояние выхолощенной пустоты.
Ада слушала, слушала о моих бедах, – я не старался смягчить краски, – всю кровь, все дерьмо, весь мрак этих дней вылил я на Аду. Тут мог бы растрогаться и палач, но не женщина, собирающаяся «устроить свою судьбу». «Нет, видно, ты останешься с Леной» – вот был единственный вывод из моего рассказа, который мог быть назван «Новый Иов». Теперь мы можем подохнуть все, мы можем задыхаться, тонуть в дерьме и крови, – ничто не тронет маленького существа, стоящего на страже своих интересов.
Три дня на рыбалке, а по существу с самим собой, я совершенно извелся. Я начисто отвык от себя, мне невыносимо оставаться наедине с собой. Когда я вспоминаю, сколько мне приходилось быть с самим собой в войну, мне становится жутко. Скорее отгородиться от себя домом, электроприборами, Адой, дешевой литературной возней, скорее в привычную колею, в ней так тряско, что, слава богу, забываешь себя.
Мы остановились в крошечной избушке на берегу озера, в чудесной, библейской обстановке. Здесь, в этой тесноте людей и животных, родился Христос. Ведь, если верить голландским мастерам, маленький Бог появился на свет в сутолоке женщин, под кротким взглядом бычка и ягненка.
В комнате – десять квадратных метров – старуха, три ее дочери и пятеро внучат, кроме того – теленок, поросенок, собака да кошка. Я был уверен, что нам никак тут не поместиться, но пришла ночь, и вся эта живность расползлась по углам и щелям, точно тараканы. Я был восхищен этим маленьким чудом, порожденным нуждой.
Сестры, кроме младшей, выглядят старухами, хотя им всем немного лет. Младшая – неприятна, она ходит в девушках и красавицах и потому изъясняется афористичным языком ею самой изобретенных полупохабных поговорок. Красота всегда лаконична. Помимо того, ее тон демонстрирует независимость и защищенность красавицы.
Старшую сестру муж бросил шесть лет назад – избаловался в армии, у другой сестры муж сидит по указу, сама она недавно вышла по амнистии; у третьей сестры, недавно погибшей под колесами торфяной кукушки, мужа как бы и не было, но осталась девочка. Дети все разномастные и, вообще, очень разные. У второй сестры – девочка с рыжестью волос Тициановой Марии Магдалины, и вся она какая-то не по-русски утонченная, грациозно-вялая. А мальчик – черный и кудрявый, как негритенок.
Авторитет властной, живой и неглупой старухи зиждется прежде всего на том, что она хоть как-то регулирует прирост населения на этом крошечном жизненном пространстве. Дочери на себя не надеются, отсюда их подчиненность матери. Если бы плотву не истребляли, не пожирали рыбы-хищники, она, при своей чудовищной плодовитости, омертвила бы весь водоем, лишив его кислородного обмена. Нечто сходное грозит и этой семье при всей бдительности старухи-матери. Здесь уже и сейчас нечем дышать, под утро мне казалось, что я дышу сквозь портянку. Выходя помочиться во двор, я испытывал кислородное опьянение, очень похожее на опьянение винное. А эти живут и ходят на работу за восемь километров укладывать шпалы и рельсы на дорогах, которые никуда не ведут, по вечерам любовно причитают над своими детишками и даже сохраняют добро в душе к внешнему миру. Но интересно – когда старуха мать уехала в гости под первое мая, тут же обнаружилась внутренняя рознь, даже враждебность сестер. Сразу стало видно, что среднюю презирают, как бывшую острожницу, что младшая глубоко несчастна – все утро она проплакала без видимой причины, – что старшая только и думает, как бы бежать из этого дома.
Но вернулась старуха и опять заладила вокруг себя эту жалкую жизнь, угасли центробежные силы…
По ночам – мистерии острожного лова. Медленно и бесшумно движутся по воде две фигуры – мужчина и подросток. Прижимая шест к животу и паху, чуть откинувшись назад, подросток несет над черной маслянистой водой рыжий сноп огня. На воду ложится трепетный отблеск, и в этот отблеск, в свет бьет острогой мужчина. Запах древних курений летит над водой, и кажется, будто справляется какое-то ритуальное действо.
Так мне казалось, пока я сам не взял острогу в руки. И тогда по-иному все увиделось. Таинственный, немеркнущий факел стал орудием производства, порядком тяжелым и неудобным. На длинном шесте укреплена клеть – «коза» – набитая смольем, мелкорубленым сосновым корневищем; туда же подкладывают кусок старой покрышки или калоши – отсюда запах, запах смолы и горящей резины. Тишина же – вовсе не от ритуальной сосредоточенности, это условие работы, так же, как и медленный шаг, и плавная сила разящих движений.
В связи с этим мне подумалось, что поэтическое и несколько высокопарное восприятие жизни идет от незнания и неучастия в деле жизни. Лучшее и самое правильное постижение действительности – это деловое с ней сотрудничество.
Природу воспринимаешь по-настоящему глубоко не когда наблюдаешь, а когда трудишься в ней – охотишься, ловишь рыбу, хотя бы собираешь грибы. Я в эту поездку больше узнал о природе, чем за многие годы. Различные явления представали для меня в их взаимосвязи: ветер, ход и таяние льда на озере; крики чаек и клев рыбы, и многое другое впервые связались для меня в одну цельную картину природной жизни.
Я понял, что я чудовищно темен и некультурен со своим Прустом и Селином, и насколько же Игорь Чуркин более образованный человек, чем я. Я слышал хруст льдинок и сравнивал его с перезвоном стеклянных висюлек люстры, а Игорь за этим хрустом видит озеро и берега, со всем, что их населяет, какими они станут через несколько часов. Я слышу странный стрекозиный стрекот на озере и, бессильный его объяснить, рисую себе нечто высокопоэтическое с оттенком мистики. А Игорь говорит: «Это ледянка трется о прибрежную траву, видно, скоро пойдет нереститься в реку». И, ей-богу, это куда лучшая поэзия, чем та, какую я могу сочинить от неведения.
И еще я понял, что многое в моем характере – плод ручной неумелости. Я не верю в удачу, не верю ни во что доброе в жизни, потому что сам неспособен создать даже простейший элемент добра – разжечь костер в поле или починить электрические пробки. От того, что я своими руками не расколол ни одного полена, не привязал ни одного крючка к леске – каждое несчастье представляется мне окончательным. В бессилии коренится и присущая мне в высшей степени пассивность – я беру, пока дается, но не умею ни удержать уходящего, ни даже отважиться на выбор; беру, что ближе. Я легче смиряюсь с несчастьем, с потерей, с бедой, чем это могло бы быть при моей нервной чувствительности, силе воображения и каком-то органическом умении страдать. Я по натуре – типичный паразит.
Из любого соприкосновения с жизнью, будь то простая рыбная ловля, я выношу простое и глубокое презрение к себе, ибо всякий раз убеждаюсь, что я не настоящий.
Мужик нес луч, и в масляную черноту озера летели искры, а из глубины озера навстречу им, в небо, летели другие искры.
Под вечер вода в озере белеет и огустевает словно сметана. И утеряв привычную стихию, чайки с отчаянными криками носятся над береговой кромкой.
Мордастый парень бросил пилу и с широкой улыбкой уставился на нашу машину.
– Мой позор! – сказала, вскинув голову, младшая дочь хозяйки.
Сегодня был у Н. Н. Кручинина и понял, что самое главное на свете – это цыганский романс. Ни одно явление нельзя рассматривать сквозь слишком сильное увеличительное стекло, иначе все существование человечества можно пришить к цыганскому романсу, или гомосексуализму, или к межпланетным путешествиям, или к страху смерти.
Я никогда ничего не записывал о своих литературных успехах. Из скромности – подумал я на секунду, но вслед за тем честно признался: нет, просто в этом я могу целиком положиться на свою память.
Мама считает, что я – ничто, а она – «мать Нагибина».
Сегодня, сидя в троллейбусе и глядя в окно, я увидел, как в широкой витрине магазина отразился наш троллейбус, ряд его окон, и в одном из них, совсем мгновенно, какое-то удивительно близкое, милое, дорогое лицо. От него пахнуло забытой нежностью детства, знакомыми огорчениями, молодой матерью, старой квартирой, бедными надеждами, деревьями, проколыхавшими в давних годах. Глаза мои увлажнились слезами… Это было мое собственное лицо.
Когда я ее целовал, ее темно-карие, пушистые глаза сходились у переносья в один огромный, нестерпимо черный, глубокий, мохнатый глаз.
Всю жизнь мною владело тоскующее, неутолимое стремление. Мир никогда еще не видел такого непоседу. Куда бы ни забросила меня судьба, моя душа томилась жаждой нового пути. Меня бесконечно тянула, звала за собой дорога. Где бы ни был я, близко иль далеко, в незнакомом ли городе, на севере или на юге, у моря или в горах, меня влекло, властно и неумолимо влекло, тянуло, тащило… домой.
Все странствия бесплодны. Ни один странник не достигает конечной цели своих исканий. Я также никогда не найду своего св. Грааля. Я никогда не мог насытиться до конца ощущением, что я дома. Моя недостаточно емкая душа бессильна вместить это слишком огромное наслаждение. И оттого мне кажется, что я всегда немного, на один полустанок, не доезжаю.
УСОЛЬЕ
А ведь красиво! Вода в болоте цвета крепкого чая. С ольхи свешиваются мохнатые сережки, похожие на гусениц. Нежнейший желто-зеленый пух первой листвы осыпал деревья. Сухие всхолмья поросли соснами. Земля между ними покрыта мертвыми, ломкими иглами и прошлогодними, будто посеребренными шишками. И вдруг, обнаружив потрясающую высь неба, журавлиным клином проплыла в зените стая диких гусей и отразилась в реке. Затем над водой скользнул кречет, протрепетав среди белых барашков рваными рукавами крыльев.









































