Текст книги "Пути русской любви. Часть III – Разорванный век"
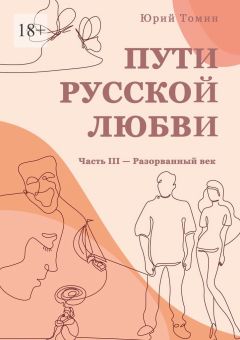
Автор книги: Юрий Томин
Жанр: Дом и Семья: прочее, Дом и Семья
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 7 страниц)
IV
Утоление давнишней жажды. Как разбудить любовь? Принуждение к любви. Материализация чувственных идей. Исцеление опустошенного разума. Острота человеческой дерзости. Золотые ключики сердец. Осколки фарфоровой любви. От божественной любви к революционной
Прося прощения за причиненную боль и объясняя третьей жене, которая дала «знание русской женщины», тягу к новой избраннице, Толстой писал ей, что у него с первых дней «было ощущение утоления какой-то давнишней жажды», а «отношения были чистыми и с моей стороны взволнованными». Быть может, Третий Толстой невольно решил воспользоваться возможностью повернуть время вспять, вернуться на развилку в 1914 год, где он, тридцатидвухлетний довольно известный писатель, любивший разными любовями замужнюю Наталью Крандиевскую и семнадцатилетнее «лунное наваждение» Маргариту Кандаурову, зная, что «ничем на свете нельзя заставить себя полюбить, любовь покрывает нас как огонь небесный», и страдая от «ненужности» и непонимания его любви юной балериной, на удивление согласившейся стать его невестой, все же решил «соединиться браком» с «глубокой и томительной» женственностью и сфокусировать любовь на Крандиевской.
Вопрос о тайне рождения любви и связанные с ним размышления о том, за что и почему любят, по-видимому, был одним из немногих вечных вопросов, которые не на шутку занимали Толстого. Хотя он и признавал непроизвольность и необъяснимость любви и даже написал повесть, где маг и чародей граф Калиостро три года терпеливо ждет появления любви у своей жены, не осмеливаясь прибегать «ни к какому искусству», все же изо всех сил старался «быть достойным», чтобы сердце возлюбленной билось для него. Несмотря на обширный набор мужских достоинств: графский титул, деловая хватка, недюжинная работоспособность, редкая «талантливость всей его натуры, наделенной к тому же большим художественным даром», умение себя «подавать людям» и даже ловчить для поддержания жизненного комфорта, Толстой считал, что у него «так мало качеств», чтобы его любили, и хотел разбудить в «умной и чистой», «невинной и ясной» Крестинской99
Эти превосходные эпитеты органичны в любовном письме, но все же свидетельствуют о том, что в душе пятидесятидвухлетний Толстой оставался неутоленным романтиком и был «обманываться рад».
[Закрыть] честолюбие, чтобы она «гордилась своим мужем».
Толстой «владел богатым русским языком, все русское знал и чувствовал, как очень немногие», и с творческим задором создавал душещипательные картины любовных историй в своих произведениях. Правда, в этих талантливых рассказах он, по мнению Бунина, «часто городит чепуху как пьяный». Вместе с тем избыточная фантазия Толстого нередко сочеталась с реальными головокружительными и трагическими событиями его жизни.

Алексей Николаевич Толстой (1882‒1945)
В 1916 году, когда уже были в прошлом сошедший на нет семилетний брак с художницей Софьей Дымшиц и сумасшедшая влюбленность в балерину, он пишет рассказ «Любовь», где на мгновение соединяет влюбленных, понявших, что «только и нужно им на свете хоть еще раз увидеть» друг друга, чтобы погасить перед отправлением поезда «живую молнию» их любви «резкими выстрелами» обезумевшего от унижения мужа. Сцена «обманутый муж с пистолетом», страдания которого порождены все тем же роковым желанием вернуть любовь, подчинив ее своей воле, в иной, более комичной вариации повторяется в известном романе-трилогии «Хождение по мукам», где Катя, слепо следуя наивному требованию своей младшей сестры быть честной, признается ставшему давно «не близким» мужу в измене с эпатажным поэтом. Должно быть, в молодости на Толстого произвела сильное впечатление история бегства беременной им матери1010
В письме к отцу, объясняя перед свадьбой свое отношение к графу, которое металось от жалости к надежде выйти за него замуж и к любви в ответ на его «безграничную любовь», она просит понимания, поскольку «недаром же у меня бывают минуты, когда я пью уксус и принимаю по пяти порошков морфию зараз».
[Закрыть] от отца, не желавшего отказаться от многих своих «дурных привычек», входивших в известный набор искушений русского аристократа, к своему возлюбленному помещику Бострому, которого тот ранил из револьвера в купе, преследуя в поезде беглянку.
В «Графе Калиостро» (1921) Толстой иронизирует над слепой романтической мечтой, сочиняя фантасмагорическую историю любви девятнадцатилетнего отставного военного к портрету рано умершей троюродной сестры, которая, ожив под заклинаниями Калиостро, материализуется как «худая женщина, очень красивая и жеманная, с несколько неровными, как полет летучей мыши, зыбкими движениями», ставшая сразу ненавистной. Калиостро предвидел результат и издевательски предупреждал пылкого юношу, жаждущего, чтобы «сновидения стали жизнью»: «Материализация чувственных идей – одна из труднейших и опаснейших задач нашей науки… Во время материализации часто обнаруживаются роковые недочеты той идеи, которая материализуется, а иногда и совершенная ее непригодность к жизни…» Можно лишь гадать о том, что могло послужить творческим толчком этой литературной любовной драмы, но в биографии Толстого1111
Варламов А. Н. Алексей Толстой. Красный шут. – М.: Молодая гвардия, 2008.
[Закрыть] есть описание впечатления, возможно, предвзятой, но наблюдательной хозяйки одного из московских салонов от знакомства с его второй женой: «Жена его – художница, еврейка, с тонким профилем, глаза миндалинами, смуглая, рот некрасивый, зубы скверные в открытых, красных деснах (она это, конечно, знает, потому что улыбается с большой осторожностью). Волосы у нее темно-каштановые, гладко, по моде, обматывают всю голову и кончики ушей как парик. У нее печальный взгляд, и когда она молчит, то вокруг рта вырезывается горькая, старческая складка».
Обратившись в 1923 году к фантастике, Толстой оказался в творческой ловушке: его восхищали безграничные возможности жанра для полета фантазии, но, описывая в романе «Аэлита» любовь инженера – изобретателя «яйцевидного аппарата» для полета на Марс – к девушке-марсианке Аэлите, девственно посвященной культовой царице Магр, «повелительнице двух миров», пришлось идти до конца и говорить о смыслах земной любви, при этом доказывая ее превосходство над иными космическими альтернативами. На самом деле эта любовь выступает отголоском начавшегося в древности на Земле противостояния представителей «черного» и «белого» путей знания, пытающихся спасти погибающую Атлантиду от первородного зла. Черные были приверженцами «опустошенного разума», несмотря на то что великая сила познания мира рано или поздно обернется самоуничтожением, «борьбой против всех». Белые выступали за исцеление разума через его «жертвенную гибель и воскресение в плоть» «силою полового влечения или Эроса».
Аэлите доступно древнее знание и предначертан путь, очищенный «холодом мудрости», где счастье находится за горизонтом «жалкого опыта жизни». Но уверенность землянина в том, что «счастье приходит в любви к женщине» и переживается как «полнота, согласие и жажда жить для тех, кто дает эту полноту, согласие, радость», смущает ее, и она, обратившись за советом к учителю, получает одобрение научиться от землянина любви, которая «выше разума, выше знания, выше мудрости». Однако Аэлите еще предстоит узнать, что земная любовь далека от абсолютного счастья, о котором говорил возлюбленный, теперь сам переживающий «обман любви, страшную подмену себя женщиной», берущей все и оставляющей любовника, «раскинувшего руки от звезды до звезды», как «пустую тень».
Так же, как в истории Аэлиты о гибнущей Атлантиде, где для яркости картины Толстому годятся любые подручные средства: обрывки учений о четырех стихиях мира, о чистом разуме, о силе знания в овладении природой, о первородном грехе, о втором зрении, о живых вратах смерти, – в рассказе о чудесной земной любви он использовал все превосходное, что ему было доступно, но если бы его спросили, как однажды спросила третья жена: «Скажи, куда же все девалось?», куда канула та «готика любви, которую мы с упорством маниаков громадим столько лет», он бы, наверное, ответил так же «устало и цинично»: «А черт его знает, куда все девается. Почем я знаю?». Вместе с тем кое-что для Толстого было ясно как божий день: он знал, что существуют такие женщины, которые сводят мужчин с ума, и думал о волшебных ключиках к их сердцам.
Такою роковую женщину он сделал одной из главных персонажей другого своего фантастического романа «Гиперболоид инженера Гарина». Зоя Монроз «красива, стройна, тонка, „шикарна“, – от нее неизъяснимое волнение», а главное, чем она сразила гениального изобретателя, по совместительству помешанного на владении миром, – это то, что она «постигла всю остроту дерзости человеческой». Не имеет значения, что она выживала «во вшивых вагонах», что ее «покупали как девку». Зато теперь, когда «разбитая в осколки» душа совершила «неожиданное превращение», она знает себе цену, «ходит по коврам повелительницей», голова кружится «от сумасшедшей мечты» власти «надо всем человечеством», а «во сне видит какие-то мраморные лестницы, уходящие к облакам, праздники, карнавалы…» Эти высшие устремления души дает ей любовь гения и циника, одержимого жаждой с помощью своего изобретения добыть бесчисленные сокровища, подчинить себе мир и бросить его к ее ногам.
Хотя Толстой сам умело использовал свой талант, цинизм и богатство для покорения красавиц1212
Толстой, поясняя третьей жене обстоятельства разрыва и новой страсти, сообщал, что боролся за Людмилу и «приложил все усилия, чтобы завоевать ее чувство».
[Закрыть], он понимал и зыбкость, и иллюзорность любви, завоеванной таким путем. Но возможно ли, если потребуется, бросить все это ради подлинной любви? В романе Зоя Монроз знает, что по-настоящему ее любит «один человек на свете», слепо преданный романтический капитан яхты «Аризоны» Янсен, только для решительного шага нужно, чтобы ее «спасли от ее самой».
Толстой невольно переносит на Гарина и другие собственные черты, которые на первый взгляд не вполне сочетаются с целеустремленной натурой изобретателя: «Я – сластолюбец, все секунды моей жизни я стремлюсь отдать наслаждению». На самом деле речь не о «садах Семирамиды», а о том, чтобы поставить «всю науку, всю индустрию, все искусство» на службу собственному творческому гению. Любовь также служит и Гарину, и Толстому главным образом «стимулом к творчеству», причем изумительным, мощным и «безграничным», так что «развертывает головокружительную перспективу реальных возможностей». Кроме того, Толстой уверен в том, что аналогичное чудо преображения и «расцвета души» происходит с возлюбленной. В письмах к Людмиле Крестинской он сообщает, что в ней – «живой женщине – слышит эту гармонию, эту дивную музыку жизни», и призывает ее «это знать и в себе развивать», зачем-то добавляя, что «прекрасные люди» и есть цель «социалистического строительства».
Толстой научился подбирать «золотые» ключики к сердцам не слишком взыскательных красавиц и, согласно теории Сартра, прибегая к самообману, достраивал своей богатой художественной фантазией воздушные замки любви: видел только «нежную, милую, чистую, до слез обожаемую душу», ощущал «переизбыток жизни», обретал творческий путь к счастью. Неудивительно, что «готика любви» потом куда-то непонятным образом девалась. Вместе с тем Толстой довольно здраво представлял себе причины, ведущие к угасанию любви, по опыту собственного третьего брака. В нем «художник был неотделим от человека», и всякие рядовые семейные неурядицы подрывали его служение искусству, а критическое отношение близких к неудачным произведениям, выходившим из-под бойкого пера, принижало его как личность, как мужа. Любовь незаметно испарялась с потерей безусловного уважения, которое он ощущал как «разрыв нити понимания, доверия и того чувства, когда принимают человека всего, со всеми его недостатками, ошибками и достоинствами, и не требуют от человека того, что он дать не может. Порвалось, вернее, разбилось то хрупкое, что нельзя склеить никаким клеем».
В то время как Толстой-муж с холодным сердцем взирал на разбитые осколки собственной фарфоровой любви, Толстой-писатель на кончиках революционных штыков сплетал кружева выстраданной, сильной, окрыляющей любви. Эта любовь и заветные мечты о «времени, когда можно будет любить, не думая, не мучаясь», помогали героям его эпопеи «Хождение по мукам» обрести мужество и, преодолевая тяготы и лишения революционной разрухи, выживать в зловещих водоворотах гражданской войны. Любовь не только спасает сестер и любимых ими мужчин в отчаянных, приводящих на грань самоубийства обстоятельствах, поддерживая веру в смысл жизни, но и блистает в их душах своими поразительными чертами – в бескрайней разлуке она обращается в крепкую надежду, непоколебимую даже известием о смерти, как будто ее сила возрождает любимых из мертвых (Рощин и Катя); словно по библейской заповеди, она вынуждает ради мужа оставить и даже проклясть отца (Даша, Телегин и Булавин); совершает, как вино из воды, чудеса преображения и рождения нового человека (из «белого» Рощин становится «красным»).
При всем этом нарисованная Толстым картина «революционной» любви все же приземлена и находится под крылом Афродиты Пандемос. Не случайно, когда сестры, ухаживая за ранеными, преодолев себя, полюбили «грязную и трудную работу», Катя говорит Даше: «Почему это выдумано было, что мы должны жить какой-то необыкновенной, утонченной жизнью? В сущности, мы с тобой такие же бабы, – нам бы мужа попроще, да детей побольше, да к травке поближе…». В этой картине1313
Тема «революционной» любви имеет, на наш взгляд, две параллельные траектории, если и пересекающиеся, то не в земном пространстве. Во-первых, это любовь, избавляющая ото всех оков, принуждений и предрассудков отжившего социального строя. Валькириями этой любовной стези были Грете Майзель-Хесс и Александра Коллонтай. Во-вторых, адепты коренного обновления любви стремились изменить ее трансцендентное энергетическое начало. Так, современный романтик революций Сречко Хорват в своей «Радикальности любви» предлагает в троичной модели христианского брака, где кристаллы любви вырастают из божественного присутствия, на место Бога поместить Революцию.
[Закрыть] особенно контрастна и символична нелепая гибель в хаосе времен сердечного кумира и обольстителя обеих сестер поэта Бессонова, в котором Толстой, предвзято отталкиваясь от Блока, создал собирательный образ «модных писателей», бесплодных декадентов, вечно ищущих свою Прекрасную Даму в стремлении к небесной любви под покровом Афродиты Урании, при этом припадающих «ко всему острому, раздирающему внутренности», и выдумывающих «себе пороки и извращения, лишь бы не прослыть пресными».
Толстой работал над своим эпическим романом о революции и о любви двадцать лет, корректируя ранние образы более опытным взглядом писателя, чуткого к вкусам своих главных читателей, но при этом верного своему художественному дару, и закончил третью книгу в 1941, году за четыре года до смерти «от распада тканей в легких». И, словно подхватывая опалившую их обоих «талантливую тему», в год его смерти приступает к написанию романа «Доктор Живаго» Борис Пастернак, один из тех поэтов, которые в начале своего творческого пути прошли через литературные кружки Серебряного века, где, по двоедушно-жалкой характеристике Толстого, «любовь, чувства добрые и здоровые считались пошлостью и пережитком».
V
Безумное лето. Система драм. Демон в любви. Пульс романтизма. Бассейн вселенной. Первичные основы. Заметность настоящего. Барьер душевного развития. Первее первой любви. Второе рождение. Большой роман. Великая любовь. Общая лепка мира. Множества грехов. Тяжести нечистой совести. Линии бессмертия
Летом 1917 года, когда Русь уже «слиняла в два дня… разом рассыпалась вся, до подробностей, до частностей» и «остался подлый народ», готовящийся к еще большему разложению и самоистреблению, двадцатисемилетний поэт Борис Пастернак обнаружил себя охваченным «нездоровой, бессонной, умопомрачительной любовью» и стал настойчиво ухаживать, добиваясь взаимности, за Еленой Виноград, которая мимолетно потревожила его сердце еще семь лет назад своей детской красотой и родным, как у сестры, характером.
Эту громадную любовь он проживал в двух измерениях: как по крови далекий от «института рыцарства», чурающийся тумана романтизма, видящий в нем «стрелочную и железнодорожно-крушительную систему драм», и как по душевному складу близкий жаждущим откровения – как «неприкаянный бог». Рожденные любовным напряжением стихи сложились в лирическую поэму «Сестра моя – жизнь», которая, смущая парадоксальными сплетениями слов, запутанностью мысли, неровностью стихосложения, поражала каким-то симфоническим объемом, удивительно слаженным ритмом бунтующих стихий разной природы и тонкой гармонией красок широкой эмоциональной палитры влюбленного.

Борис Леонидович Пастернак (1890‒1960)
Откуда такие странные стихи? Быть может, поэту открылась какая-то непередаваемая тайна любви?
Известно, что это была любовь с осложнениями. Елена Виноград переживала душевную травму – на войне погиб ее жених, и она решила не искать больше в жизни любви и счастья: «…счастье не обладает той силой и той головокружительной высотой страдания, которые смогли бы захватить меня». Кроме того, у нее уже было длящееся из подросткового любопытства «страдание», обретенное в горячей близости со своим двоюродным братом, с которым теперь она собиралась связать свою судьбу, «обрекая себя на несчастье». И хотя Пастернак отрицал волны рыцарства в своей крови, он сломя голову, как умел, бросился спасать гибнущую душу той, с которой «пожелтелый белый свет – белей белил». Как и следовало ожидать, разговоры о будущем, убеждение с помощью «ясного отчета», переписка без понимания друг друга, дальние поездки, чтобы объясниться, ни к чему не привели: «…для нас с Вами нет будущего – нас разъединяет не человек, не любовь, не наша воля, – нас разъединяет судьба».
Все эти обстоятельства можно, приглядевшись, встретить в поэме, но они не дают ключ к ее головоломной мистерии. Более того, Елена не узнавала в стихах себя, своих черт, движений, волнений – они «радовали», но не имели «никакого отношения» к ее жизни1414
В следующий раз, когда Пастернак влюбился в Зинаиду Нейгауз и услышал от нее, что его стихи непонятны, он сразу пообещал писать проще.
[Закрыть].
Действительно, любовь, которой Борис Пастернак делился со своей поэтической музой, была неординарной. Ему была близка любовь не человека плоти и крови, а лермонтовского Демона, как лишенная презренного романтизма с его человеческими слабостями и умопомрачением:
Не рыдал, не сплетал
Оголенных, исхлестанных, в шрамах…
Как горбунья дурна,
Под решеткою тень не кривлялась…
Чуть дыша, о княжне не справлялась.
Но ведь Лермонтов – классический, «но только с русскою душой» романтик1515
В первой части книги «Пути русской любви» мы рассматриваем ее романтический вектор на примере творчества Пушкина, Лермонтова и Алексея К. Толстого.
[Закрыть], и если видеть в «Демоне» иную любовь, то это будет означать упрощенное понимание романтизма как возвышенных чувств за минусом сентиментальности.

Владимир Владимирович Маяковский (1893‒1930)
Тремя годами ранее, в такие же предгрозовые дни, в пору собственной розовой влюбленности Владимир Маяковский в «Облаке в штанах» лаконично определил пульс романтизма:
И чувствую —
«я»
для меня мало.
Кто-то из меня вырывается упрямо —
и предпочел проторить свой громогласный путь любви в обнимку с грядущей революцией:
Нежные!
Вы любовь на скрипки ложите.
Любовь на литавры ложит грубый.
А себя, как я, вывернуть не можете,
чтобы были одни сплошные губы!
….
вижу идущего через горы времени,
которого не видит никто.
Где глаз людей обрывается куцый,
главой голодных орд,
в терновом венце революций
грядет шестнадцатый год1616
Неточность в один год для прогноза таких эпохальных событий не умаляет восхищения перед чудесами поэтического пророчества.
[Закрыть].
Решая ту же задачу ухода от романтизма, Пастернак находит собственный прием: он старается растворить «гипнотическим», «зеркальным отражением» взорванную любовью душу в природе.
И только ветру связать,
Что ломится в жизнь и ломается в призме,
И радо играть в слезах.
….
Расколышь же душу! Всю сегодня выпень.
Это полдень мира. Где глаза твои?
Видишь, в высях мысли сбились в белый кипень
Дятлов, туч и шишек, жара и хвои.
И даже когда всему наступит конец – к чему тогда припасть? Не к «звезде своей любви», а к «бассейну вселенной».
Дав страсти с плеч отлечь, как рубищу,
Входили, с сердца замираньем,
В бассейн вселенной, стан свой любящий
Обдать и оглушить мирами.
Пастернак был не одинок в особом отношении к природе, находя в ней родственное собственным душевным порывам пространство любви и божественного. Философски он наследовал Спинозе, согласно которому состояния души подчиняются универсальным законам природы и любовь представляет собой «удовольствие (радость) сопровождаемое идеей внешней причины», а поэтическим собратом был Николаус Ленау, чьи строки:
Бушует лес, по небу пролетают
грозовые тучи,
тогда в движении бури мне видятся,
девочка, твои черты… —
он взял эпиграфом к поэме. В значительной степени то, что тонкий знаток поэзии Иннокентий Анненский писал о Ленау: «Его живопись природы вовсе не простое изображение, но она совершенно своеобразно отражает таинственное взаимодействие между жизнью природы и жизнью человеческой души», относится и к Пастернаку. В творчестве Ленау можно также найти другую близкую Пастернаку движущую силу любви – ту, о которой говорит Фауст:
Но я – я не могу отречься от желанья
Познать предвечную причину мирозданья,
Мечта заветная, любимая моя —
Открыть в самом себе первичные основы,
Но нет успеха мне, и я кляну оковы
Конечности, на век связавшие меня.
Все же в жизни поэта было время, когда любовь «оказываясь в голове природы, опережала солнце». Восемнадцатилетний студент-юрист Борис Пастернак дружил с Идой Высоцкой – «красивой, милой девушкой, прекрасно воспитанной», «из богатого дома», которой также давал «грошовые уроки» математики, и «всем было ясно, что я ее люблю». Позже в «Охранной грамоте» (1930) он отметит удивительные свойства той романтической поры. Влюбленный Пастернак «замечает», что настоящее несет в себе будущее, и переживает весеннюю распахнутость жизни – каждому, кто пожелает, дано «вновь обнять и пережить всю, какая только есть на свете, жизнь». К бунинскому признаку влюбленности – «исчезновение времени» – можно добавить пастернаковский – «заметность настоящего».
Четыре года спустя, летом 1912 года, он, будучи уже студентом-философом в Марбурге, встретит свою первую любовь и, сказав, что «дальше так продолжаться не может», попросит «решить его судьбу»: сделает Иде Высоцкой предложение, ошеломившее девушку беспочвенностью, а его – отказом. Этот болезненный урок романтизма подтолкнет Пастернака к размышлениям о его природе.
В «возвышенном отношении к женщине», называемом любовью, есть заколдованный круг, где «разыгрывается встревоженное воображение», – «он истерзывает, и, кроме вреда, от него ничего не бывает». Вместе с тем он неизбежен и является «преддверьем к единственно полной нравственной свободе». Изначальное движение любви «есть самое чистое из всего, что знает вселенная», но обязательно на ее пути из какой-нибудь «мерзости или ерунды будет сложен барьер», например, из «страха пошлости». Даже «честному человеку» трудно его преодолеть. Только искусство может, создав «образ», который «больше человека», помочь ему взять «барьер нового душевного развития». И «все это захватывающе трудно».
По сути, Пастернак не отказывается от романтизма, а расчленяет его, отделяя «лирическую истину», в лице которой «постепенно складывается человечество из поколений», от «природного инстинкта», с которым не могут совладать «все усилья педагогов, направленные к облегчению естественности». Удивительным образом эти две непересекающиеся линии наметились в его судьбе в 1922 году, когда он «полуслучайно» женился на Евгении Лурье, которая, несмотря на изливаемые на нее потоки нежности и заботы, оставалась в своем «глупом, по-детски бездеятельном ослепляющем эгоизме», а затем понял, «как странно и глупо кроится жизнь», открыв для себя «золотого, несравненного» поэта Марину Цветаеву, с которой, неоднократно встречаясь, разминулся.
Возникшая между высоко оценившими творчество друг друга поэтами интенсивная переписка сблизила их настолько, что через четыре года, в 1926-м, Пастернак подтверждает ей уверенность в «сильнейшей любви, на какую я способен», пишет о Цветаевой Рильке, чтобы познакомить их и так сделать Марине подарок, видит ее во сне, где «было первее первой любви и проще всего на свете», и просит, «вдумаясь в свое», ответить: «ехать ли мне к тебе сейчас или через год?» Вдогонку он посылает другое письмо, где упоминает о промелькнувшем в одном из ее писем холодке, жалеет, что поторопился открыть свою горячую тайну, но сообщает о готовности принять отказ и невозможности ее разлюбить.
Пастернак не ведал, что еще годом ранее Цветаева уже знала свой ответ, что им «вместе не жить» по двум причинам: из-за невозможности оставить слабого здоровьем мужа – Сергея Эфрона1717
Крепкая привязанность Цветаевой к мужу, с которым, по мнению знакомых Сергея и Марины, у нее уже не было ничего общего, по-видимому, объясняется исчерпанием предела отказа от своего женского материнского инстинкта, жестокое подавление которого в отношении младшей трехлетней дочери Ирины в условиях полуголодного выживания оставило незаживающую рану вины в ее смерти в 1920 году.
[Закрыть] – и невообразимости того, как «из любви устроить жизнь, из вечности – дробление суток». При этом она хотела бы от Пастернака сына, «чтобы он в нем через меня жил. Если это не сбудется, не сбылась моя жизнь, замысел ее». Судя по тому, что ответ Цветаевой «усадил» благодарного и «заряженного» Пастернака за работу, он был «чудесным, редкостным», но не поддерживал порыв немедленного приезда.

Марина Ивановна Цветаева (1892‒1941)
Кроме того, окрыленного Пастернака подстерегала еще одна ловушка благих намерений спустить свою любовь с демонических вершин на грешную землю. Он видел в Цветаевой талантливейшего поэта и воображал в ней еще и свой идеал – женщину, созданную «во имя моего чувства». Для Цветаевой же ее поэтическое призвание было несовместимо с женским – она «не умела с живыми! Отсюда сознание: не женщина – дух1818
Федор Степун дивился тому, что «Цветаева как среди современников, живет среди этих близких ей по духу теней» – Гёте, мадам де Сталь, Гельдерлина, Новалиса, Беттины фон Арним и отмечал «некий неизничтожимый эгоцентризм ее душевных движений».
[Закрыть]!» Поскольку «дух веет, где хочет», неудивительно, что, получив письмо и в подарок книгу стихов от незамедлительно откликнувшегося на просьбу Пастернака Рильке, Цветаева сосредоточилась на переписке с этим великим поэтом, а, когда Рильке скоропостижно умер в декабре 1926 года, она позвала Пастернака приехать и, как ей приснилось, гулять в Лондоне.
Они встретились в Париже в 1935 году, куда Пастернака отрядили на какой-то конгресс писателей, но это уже была «невстреча» – он восторженно рассказывал Цветаевой о второй жене и советовался о покупке для нее платьев.
Свою любовь в 1930 году к Зинаиде Еремеевой, жене своего друга, музыканта Генриха Нейгауза, Пастернак переживал как «второе рождение». Он снова, в духе поэмы «Сестра моя – жизнь», заговорил волшебным языком природы:
Кругом семенящейся ватой,
Подхваченной ветром с аллей,
Гуляет, как призрак разврата,
Пушистый ватин тополей.
В этой любви он ощущал воплощение двух своих заветных тайных влечений. Первое было связано с желанием своей любовью освободить женщину от вынужденного несчастливого союза или иного жизненного тупика, в который ее может привести «женская доля»:
И так как с малых детских лет
Я ранен женской долей,
И след поэта – только след
Ее путей, не боле,
И так как я лишь ей задет
И ей у нас раздолье,
То весь я рад сойти на нет
В революционной воле1919
Все же Пастернаку была не чужда революционная романтика Страны Советов, так что он, как и Маяковский, видел в энтузиазме строительства новой жизни и надежду на новую любовь.
[Закрыть].
Правда, в этом случае он также осуществлял давно назревшее собственное избавление от тяжести «неудавшейся семейной жизни». Несмотря на боль и трагичность последствий для доброго друга и вопиющей о сохранении семьи жены, влюбленные не могли иначе:
Мы не жизнь, не душевный союз, —
Обоюдный обман обрубаем.
Несомненно, главным для Пастернака было спасти женщину, которую он полюбил, – ее участь он видел в ужасных картинах:
Их посещает по ночам
Несуществующий, как Вий,
Обидный призрак нелюбви,
И привиденьем искажен
Природный жребий лучших жен, —
а результат «рыцарского жеста» любви представлялся в розовых тонах:
Как росток на свету распрямясь,
Ты посмотришь на все по-другому.
Другая глубинная пружина любви Пастернака была из разряда известных загадочных явлений – женская красота, «обладающая неотразимой влекущей силой». Однако эту силу женской красоты он видел еще и с другой стороны, как «предопределенность будущего», связанного с почти неизбежным шлейфом тех или иных грязных эпизодов, но не способных умалить блеск ее чистоты.
Эти две душевные раны были заботливо умащены светлым образом Зинаиды Нейгауз. В возлюбленной Пастернака многие находили черты роковой красавицы2020
В лице Зинаиды влюбленный Пастернак, который выделял два типа красоты: «благородная, невызывающая» и роковая – «неотразимо очаровательная», обнаружил еще и удивительные метаморфозы второго: «Она очень хороша, но страшно дурнеет в те дни, когда в торжественных случаях ходит в парикмахерскую и приходит оттуда вульгарно изуродованною».
[Закрыть], и она открыла ему тайну своей молодости, когда «полная жизни, ее трепетных сил, невинная, доверчивая и щедрая» ходила «под вуалью» в номера, где встречалась с солидным женатым господином и находила этом особенную остроту жизни, – все складывалось так, что «и для нее встреча со мной не случайна». Преодолев испытания разлукой и трагедию распада семей, спустя два года после того, как был «сорван налет недомолвок», они поженились, и Пастернак был «совершенно счастлив с Зиною».
Вместе с тем Пастернака не покидало чувство, что он еще не сказал в своем творчестве самого важного, и, когда в феврале 1946-го наконец твердо приступил к «большой прозе», в которую собрался «вложить самое главное, из-за чего у меня „сыр-бор“ в жизни загорелся», ему было неуютно от отсутствия внешнего источника вдохновения: Зинаида Николаевна, тяжело пережив мучительную смерть старшего сына от туберкулеза позвоночника в 1945 году, «стала быстро стариться» и «сдала свои позиции жены и хозяйки». На счастье поэта, в 1946-м он обрел новую «музу» в лице тридцатичетырехлетней Ольги Ивинской2121
Пастернак не ушел от жены, а отношения с Ивинской были омрачены не только двойственностью семейного положения, но и арестом Ольги в 1949 году с последующим четырехлетним лагерным сроком, по-видимому, по навету недоброжелателей поэта. Он говорил: «По ней незаметно, что она в жизни перенесла», видел в ней «олицетворение жизнерадостности и самопожертвования» и посвящал ее в свою «духовную жизнь» и «писательские дела».
[Закрыть], в которой, быть может, в его воображении оживали женские образы, переселившиеся в роман, и он действительно в течение десяти лет работы над ним проживал «вторую жизнь, первую жизнь, единственную жизнь», как когда-то ему пророчила Марина Цветаева. Видение Пастернака, пишущего «большой роман», возникло из разговора о «правде жизни», когда в 1922 году он написал ей, что любит правду жизни «на кончике пера» и ощущает, как можно «при крайней сверхчеловеческой внимательности к тону ее тока и пластике ее плеска, представить себе, что с ней когда-нибудь будет, и, следовательно, какова ее сущность и сейчас».
Получивший в 1958 году Нобелевскую премию роман «Доктор Живаго» по особенному вниманию к первой любви перекликается с бунинской «Жизнью Арсеньева», испытанием действующих лиц суровыми годами революции и гражданской войны напоминает толстовское «Хождение по мукам», множественностью любовных линий походит на горьковскую «Жизнь Клима Самгина». Можно обнаружить и две параллели с булгаковским «Мастером и Маргаритой». Во-первых, невероятные встречи многочисленных персонажей романа, неправдоподобные пересечения их жизненных путей, чудесные разрешения сложных и даже гибельных ситуаций – все то, что у Булгакова было подвластно демонической силе, здесь осуществляется как воля божественного провидения. Во-вторых, Пастернак, как и Булгаков, прямо говорит, что перед взором читателя раскрывается картина «великой любви». Более того, влюбленные – Юрий Живаго и Лара Антипова – сами ощущают «небывалость чувства»:
Для них же, – и в этом была их исключительность, – мгновения, когда подобно веянью вечности, в их обреченное человеческое существование залетало веяние страсти, были минутами откровения и узнавания все нового и нового о себе и жизни.
Настоящая любовь у Пастернака в первую очередь «вольная» и «небывалая, ни на что не похожая». Она открывает особое зрение, которым влюбленные созерцают поразительную красоту природы и окружающей жизни, и наполняет чувством причастности к божественной гармонии вселенной.
Они любили друг друга не из неизбежности, не «опаленные страстью», как это ложно изображают. Они любили друг друга потому, что так хотели все кругом: земля под ними, небо над их головами, облака и деревья… Ах вот это, это вот ведь, и было главным, что их роднило и объединяло! Никогда, никогда, даже в минуты самого дарственного, беспамятного счастья не покидало их самое высокое и захватывающее: наслаждение общей лепкою мира, чувство отнесенности их самих ко всей картине, ощущение принадлежности к красоте всего зрелища, ко всей вселенной. Они дышали только этой совместностью.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































