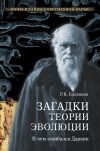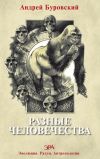Автор книги: Юрий Вяземский
Жанр: Исторические приключения, Приключения
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 17 (всего у книги 53 страниц) [доступный отрывок для чтения: 17 страниц]
За обезьян же еще круче расплатились, и, как считает Тейяр де Шарден, именно поэтому они выше других животных взобрались на Древо жизни. «Именно потому, что до плиоцена приматы по своим членам оставались самыми «примитивными» из млекопитающих, они также остались самыми свободными… Лошадь, олень, тигр одновременно с подъемом своего психизма частично стали, как насекомые, пленниками орудий бега и добычи, в которые превратились их члены…»90.
В народной мудрости есть такое выражение: «голь на выдумки хитра». Вы понимаете, на кого я намекаю?
§ 75
Конечно же, на Одиссея. Когда готов уже кузов, Одиссей не любит называться груздем. Циклопу он представился под именем Никто. К Цирцее первоначально отправляется отряд во главе с Эврилохом. Ахиллес виден за версту в своем ослепительном величии; не для того ли, чтобы Аполлону было точнее в него прицелиться и смертельнее попасть? Одиссей теряется среди фронта шлемоблещущих воинов.
Афина лишь усиливает его «эволюционную внезапность». Когда Одиссей высаживается на острове феаков, божественная его покровительница
Облаком темным его окружила, чтоб не был замечен
Он никаким из надменных граждан феакийских…91
Когда Одиссей в конце концов попадает на Итаку, Афина не только его самого преображает в старика, но и «сторону всю ту покрыла мглою туманною дочь громовержца»,
Чтобы его ни жена, ни домашний, ни житель
Града какой не узнали, пока женихам не отмстит он92.
Тут почти натуральный «геологический занавес» и точно обозначенная цель одиссеевого ортогенеза.
Пожалуй, никому из гомеровских героев не приходилось так часто, много и больно платить по счетчику жизни, как Одиссею. Недаром Менелай говорит Телемаху:
«…никто из ахеян столь много
Бедствий не встретил, как царь Одиссей; на труды и печали
Был он рожден…»93.
Но тот же Менелай объясняет своей жене Елене:
«Многих людей благородных, и много земель посетил я,
Но никогда и нигде мне досель человек, Одиссею,
Твердому в бедствиях мужу, подобный, еще не встречался»94.
То есть он готов и умеет и не ропщет платить за свою неповторимость, свой героизм, свою свободу.
Любыми способами стремится Одиссей к заветной цели: на корабле, на плоту; оседлав мачтовые обломки, гребет руками; вовсе без всякой опоры плывет среди бурного моря сутки, двое, трое – ни он сам, ни даже боги не знают, сколько он может так плыть.
Дерзкий, упрямый, честолюбивый, он, однако, прекрасно знает «свой шесток»: в отличие от спутников, он лучше умрет от голода, чем съест священного быка Гелиоса; самый любопытный из героев, он всегда проявит осторожность там, где любопытство смертельно; Ахиллесса на поединок не вызовет, с Агамемноном во власти и с Нестором в советной мудрости никогда состязаться не станет; с лучшим, чем он, бегуном, с Аяксом Оилеевым, ринется наперегонки, лишь надеясь на божественное вмешательство.
Наконец он самый голый в прямом и переносном смысле. «Покрытый морской засохшей тиной», наломав свежих ветвей, «чтоб одеть обнаженное тело», выходит он из кустов и предстает перед феакийской принцессой Навсикаей95 – не таким ли вышел из Эдема библейским Адам, и первый Homo Sapiens не в таком ли виде явился на сцене исторической драмы? Все потерял, всего лишился, всеми гонимый, от всех многострадальный. И потому все вынесет, ко всему приспособится, отыщет единственный выход. Боги опасаются, что, если они не вернут Одиссея домой, он сам туда вернется, «судьбе вопреки». Любопытный ортогенез, не находите? И, дабы ничего не случилось вопреки божественному совету, Зевс заранее объявляет своему послу по чрезвычайным поручениям, Гермесу:
«…он в подарок
Меди, и злата, и разных одежд драгоценных получит
Много, столь много, что даже из Трои подобной добычи
Он не привез бы, когда б беспрепятственно мог возвратиться»96.
Все эти сокровища Одиссей получил от феаков. Не пора ли и нам к ним отправиться?
Часть третья
Остров схерия. Демодок

§ 76
Некогда феаки жили в земле Гиперейской. Но сын Посейдона, вождь Навсифой, поселил их на острове Схерия, на тучной земле, далеко от «людей промышленных»; там он их город стенами обвел, им построил жилища, храмы богам их воздвиг, разделил их поля на участки1.
Когда к феакам прибыл Одиссей, островом правили двенадцать владык знаменитых, праведно-строгих судей; тринадцатого, Алкиноя, сына Навсифоя и внука Посейдона – все признавали «владыкой державным», главным над двенадцатью властителями2.
Феаки – любимцы богов. Боги всегда им открыто являются, без чинов за трапезу садятся, родными их всех почитают3.
Среди народов, на земле обитавших и обитающих, феакам нет равных в корабельном искусстве; вернее, не было, нет и, похоже, не будет ни у кого таких замечательных кораблей. Кормщик не правит в морях кораблем феакийским, руля у него нет, кораблям он не нужен: сами они понимают своих корабельщиков мысли, сами находят они и жилища людей, и поля их тучнообильные; быстро они все моря обтекают, нет никогда им боязни вред на волнах претерпеть иль от бури в пучине погибнуть4. «Их корабли скоротечны, как легкие крылья иль мысли», – говорит про феаков Афина5.
Есть у феаков еще одно свойство, для нас весьма ценное: они почитают своим долгом отправлять на родину потерпевших кораблекрушение мореходцев и богато одаривать этих несчастных заблудших гостей. Одиссею, во всяком случае, они оказали высшие почести, несказанно одарили и отправили на Итаку.
Все на корабль отнесли быстроходный гребцы и на гладкой
Палубе мягко-широкий ковер с простыней полотняной
Подле кормы разостлали, чтоб мог Одиссей бестревожно
Спать…6
Нам бы так бестревожно и состоятельно вернуться из нашего подготовительного путешествия по островам теории!
Для этого нам сперва предстоит выслушать певца Демодока. Именно с этого я предлагаю начать посещение Схерии. И вот почему.
§ 77
Царь феаков Алкиной объяснял Одиссею, что его народ превосходит других людей не только в плаванье по морям, но также «в пляске и в пенье»7. Помимо прочего, феаки еще исключительно музыкальны и музыкально-пластичны. И как только среди них появляется Одиссей, тут же вызывается Демодок – великий певец, поэт, сказитель, одним словом – аэд; сперва трапеза, симпосион витальный и музыкальный, а затем… Нет, расспросы странника, его долгий рассказ о бедствиях, праздничные соревнования, подношение даров – все это потом, первым же делом – музыка и проверка гостя на муси-ческое соответствие, сочувствие, сознание.
Демодок обладает тремя способностями: (1) похоже, он знает все песни, рожденные в ойкумене, но всякий раз, когда ему дают в руки лиру, Муза внушает певцу, какую из песен исполнить, о каких вождях знаменитых возгласить пред собравшимися; (2) он «все поет по порядку» и поет о том, чему никак не мог быть свидетелем, в частности о подвигах и бедствиях ахейцев под Троей; то есть Демодок причастен той симфонии человеческого знания, в которой личное участие и индивидуальное авторство значат не многое; (3) он слеп от рождения, но в слепоте своей обладает особой поэтической прозорливостью, на которую неспособны люди, физиологически зрячие. «Муза его при рождении злом и добром одарила: очи затмила его, даровала за то сладкопенье»8. Будучи загадочным воплощением художественной диалектики, Демодок и других людей понуждает творчески резонировать: ликуют феаки, плачет Одиссей, пробуждается «святая сила» Алкиноя, и царь обращает на странника сочувственное внимание.
У Гомера одна Муза. Но с течением времен это единое божество сперва разделят на трех дочерей Урана и Геи (Мелета, Мнема, Аойда), затем – на девятерых дочерей Зевса и Мнемосины (Каллиопа, Клио, Мельпомена, Эвтерпа, Эрато, Терпсихора, Талия, Полигимния, Урания). В переводе с древнегреческого «музы» – значит «мыслящие».
И сейчас, когда нас вслед за Одиссеем ввели в покои царя Алкиноя, усадили за феакийскую трапезу и мы слушаем вдохновенного Демодока, до того, как нас начнут расспрашивать и одаривать, я предлагаю с помощью Демодока определить свое отношение к тем музам, без которых, я боюсь, мы и на расспросы не ответим, и дарами феаков не сумеем воспользоваться.
Глава седьмаяТри Музы
§ 78
Если вы помните, в Прологе (§§ 15–18) я призывал себя и вас ни в коем случае не пренебрегать тремя исследовательскими принципами: системностью, историзмом и диалектичностью. Эти три принципа, во-первых, совершенно обязательны для восприятия и анализа фактически любого жизненного явления, как большого, так и малого; во-вторых, они взаимосвязаны между собой так же тесно, как в стереометрии взаимосвязаны параметры длины, ширины и высоты. Каждая метафизически объемная система должна по необходимости быть историчной и диалектичной. Всякий продуктивный историзм никогда не пренебрегает системным мышлением и внутренне диалектичен. Всякая живая диалектика, по сути, только тогда и возникает, когда по одной ее оси отложена система, а по другой – историзм.
И все волненье, и весь дым в «общей теории эволюции» – и более широко, в метафизике жизни, – как мне кажется, именно тогда случаются, когда ученые забывают об этом поистине Всеобщем Триедином Правиле. «Сверху вниз продолжается и развертывается тройное единство – единство структуры, единство механизма, единство развития», – утверждает Тейяр де Шарден1. Как мне представляется, это те же самые правила, но уже воплощенные, объективированные, как бы сказал Гегель, в общее эволюционное движение.
§ 79
Начнем с «единства структуры», или системности жизни.
С тем, что жизнь есть система – и система, по меньшей мере, планетарная, – полагаю, никто спорить не должен. А спорщику предложу представить себя без животных и растений, которыми мы питаемся, без воды, без воздуха, без силы земного притяжения… Это так банально, что мне, право, как-то неудобно напоминать.
К сожалению, некоторые ученые-эволюционисты этой банальности не наблюдают и исследуют, словно ежик в тумане, словно слепые из знаменитой индийской притчи, которые, дотронувшись до хобота слона, узко-специализированно и строго-научно определили, что это змея, а ощупав слоновью ногу… Ну да вы сами прекрасно знаете эту притчу!
Надеюсь, нам не составит труда договориться о том, что жизнь есть система, в буквальном переводе с греческого – «нечто целое, составленное из частей, соединение этих частей». Однако этого мало. Надо еще договориться о том, что (1) эти части находятся в устойчивом взаимодействии; что (2) чем шире, чем объемнее и планетарнее мы рассматриваем жизнь, тем автономнее начинают выглядеть «части», все более походя не на элементы, а на самостоятельные системы и даже сверх системы. Скажем, желудок легко можно признать элементом нашего тела, но намного сложнее, на мой взгляд, представить элементом германской культуры Гете, и уж как-то совсем не хочется представлять совокупное человечество всего лишь элементом жизни Земли. Создается впечатление, что всякая макросистема, всякий макрокосм имеет над собой еще более высокую степень макрокосмичности, частью которой он является; и так же беспределен в своем внутрисистемном делении всякий микрокосм, от человека до атома.
(3) «…все мы сопричастны Вселенной, – пишет Лев Гумилев, – но путем иерархической совместимости макромира с микромиром, от которого людей отделяют клетки их тела, молекулы, атомы и субатомные частицы»3. Многие, думаю, с этим утверждением согласятся. Но лишь до тех пор, пока сами не начнут «иерархически совмещать», – тут сразу возникнут и споры и ссоры, обозначатся «направления», проявятся «школы», и вся «общая теория» затрещит по догматическим швам.
А посему предлагаю на данном этапе нашей теоретической подготовки, пока мы еще не обратились к феакам за помощью, сидим себе и слушаем Демодока, предлагаю воспринимать системность жизни и тейяровское «единство структуры» не как жесткое и иерархическое сочленение систем, подсистем и сверхсистем, а как некую музыкальную полифонию, как «взаимодействие развитых и автономно движущихся мелодий», как «вид многоголосия… представляющий собой сочетание в одновременном звучании… мелодий. Характерны: равноправие голосов (так, все они поочередно оказываются ведущими при проведении темы в экспозиции фуги), текучесть (в том числе несовпадение в разных голосах каденций и цезур, кульминация акцентов и т. п.)…». Эти определения я позаимствовал из «Музыкального энциклопедического словаря»4 для того, чтобы у вас не возникло подозрения, что я вам предлагаю какую-то особенную и лишь мне известную полифонию.
§ 80
Системно – или полифонично – все совокупное знание. Как только в нем где-нибудь появляется и начинает звучать некая продуктивная тема, она порождает в других тональностях, в других голосах, в иных гностических инструментах если не подобие себе, то, по крайней мере, свой полифонический отклик. То есть всякая продуктивная мысль так или иначе, рано или поздно должна отразиться во всей системе Знания и различными своими отголосками, мелодиями, ладами учредить полифонию.
Рассмотрим это на примере эволюционного теоретизирования.
§ 81
«Поистине слепы те, кто не хочет видеть размаха движения, которое, выйдя далеко за рамки естествоведения, последовательно захватило химию, физику, социологию и даже математику и историю религий», – утверждает Тейяр де Шарден5.
Не будем слепы и увидим, что современная астрофизика, выдвинув гипотезу Большого взрыва, инфляционную теорию и сделав эти мыслительные программы наиболее рабочими, фактически вступила в полифонию эволюционности и даже стала допускать некоторые признаки целенаправленности, по крайней мере, в первоначальном космогенезе. Многие самые строгие и религиозно-циничные исследователи структуры и свойств Вселенной не стесняются признаваться: да, господа, у нас не раз возникало чувство, что все в мире как будто нарочно подстроено, а иначе случайные совпадения будут выглядеть каким-то волшебством и какой-то мистикой, ибо, представляете себе, в ряде случаев фундаментальные константы требуют совершенно немыслимой сверхтонкой подстройки с точностью порядка 10-50; это не может произойти самой собой! вы понимаете? – Я ничего не смыслю в фундаментальных константах, но я отчетливо слышу эти голоса представителей самых точных наук.
Я вижу, что некоторые представители такой неточной науки, как история, все больше «захватываются движением». Читая, например, английского историка Арнолда Тойнби, я не могу отделаться от впечатления, что речь у него идет о некой единой германо-романской мутации, которая, отвечая на общеевропейский вызов, в различных культурно-национальных средах проходит через специфические отборы, разными локальными вызовами обусловленные, и вот в Италии является нам в обличии Ренессанса, в Германии трансформируется в Реформацию, а в Англии и Франции кристаллизуется в парламентские структуры6. Когда я знакомлюсь с тойнбианской «теорией этерификации», видится мне, что она как бы дополняет «теорию возрастания психизма» Тейяра де Шардена7. И вообще, не потому ли, господа, великий английский историк до сих пор будоражит наше воображение и вдохновляет историческое познание, что он одним из первых попытался применить эволюционистские методики в анализе исторических процессов? «От амебы – к позвоночным, от обезьяны – к человеку, от родителей – к ребенку в семье. Связь во всех этих случаях безусловна, хотя и разнородна… Мы вряд ли поймем природу Жизни, если не научимся выделять границы относительной дискретности вечно бегущего потока – изгибы живых ее струй, пороги и тихие заводи, вздыбленные гребни волн и мирную гладь отлива, сверкающие кристаллами и торосами причудливые наплывы льда, когда мириадами форм вода застывает в расщелинах ледников»8. Кто это нас так наставляет? «Ортогенетик» Тейяр? Нет, Тойнби. И даже стиль изложения, даже научная метафорика явственно эволюционистские.
Еще эволюционистичнее выглядит наш соотечественник Лев Гумилев. Его концепция этногенеза – полифонический отклик на дарвинистскую теорию эволюции, симфоническая разработка в этнографическом и историческом регистрах тех тем, которые первоначально зазвучали в сферах зоологии, ботаники и генетики. Гумилевские «пассионарии» – самые настоящие человеческие мутанты, «пассионарные взрывы» – мутации или комплекс микромутаций в человеческой популяции9. Гумилеву нужна «естественная наука о происхождении и о сменах этнических целостностей, комбинаций элементов в разнообразном пространстве и необратимом времени»10. Он такую новую науку провозглашает, называя ее этнологией. Насколько эта этнология действительно новая наука и насколько в симфонии знания она может быть обособлена от «витальной» этнографии и «социальной» аналитической истории – другой вопрос, который я пока не хочу поднимать.
Но уже сейчас я возьмусь утверждать, что в XX веке стал формироваться действительно новый подход к исследованию антропогенеза; на мой взгляд, в исторической науке возникло самобытное аналитическое направление, которое можно именовать антропоэволюционизмом, и англичанин Тойнби и русский Гумилев – яркие его представители.
Не исключено, что в ближайшем будущем из этого направления разовьются такие гностические явления, как эволюционная политология и эволюционная этика. Эволюционную лингвистику прогнозировал сам отец-основатель эволюционного учения – Чарльз Дарвин, в четырнадцатой главе своего «Происхождения видов».
Эволюционным языком уже заговорила с нами психология. Юнговские «архетипы», «коллективное бессознательное» приобретают смысл и продуктивную перспективу только на почве эволюционистского миропознания. «Самые чистые и самые святые наши воззрения покоятся на глубоких, темных основах, и, в конце концов, дом можно объяснять не только от конька крыши вниз, но также и от подвала вверх, причем последнее объяснение имеет еще и то преимущество, что генетически оно более верное, ибо дома строят не с крыши, а с фундамента, и, кроме того, строить всегда начинают с самого простого и грубого»11. Расплывчатая метафора? Вне эволюционного контекста – возможно. Однако в русле эволюционной семантики картина преображается: перед нами является древо становящегося и развивающегося психизма, ствол которого напоен живительными соками архетипов, а ветви разнообразно и стадиально плодоносят и в совокупном человечестве, и в отдельно взятом индивидууме.
Все чаще и чаще современные исследователи сравнивают процессы эволюции живых существ с процессами индивидуального творчества человека, пытаясь исследовать экономические, политические и духовные открытия как своего рода мутации, а их разработку и укоренение в культурной традиции – как гностический отбор. «Подчеркнем, что речь идет не об аналогии, но об универсальном принципе всякого развития, который проявляется и в «творчестве природы» (происхождение видов), и в организации индивидуального поведения… и в творческой деятельности человека, и в эволюции культуры…», – убеждает нас Павел Симонов12.
§ 82
Искусство за тысячи лет до Дарвина стало формулировать свою собственную «эволюционную теорию». Филогенетическую перспективу (генеалогическую ретроспективу) мы находим уже у Гомера. Все герои происходят от богов, причем, обратите внимание, не безразлично, от какого божества произрос тот или иной героический корень, и Геракл – разумеется, напрямую от верховного Зевса, Ахиллес – уже опосредованно от Громовержца (он ему правнук, а не сын), от Посейдона – циклоп Полифем (филогенетически такой же дикий, буйный и непредсказуемый), Одиссей, судя по всему, – от Гермеса (нет среди греческих богов более хитрого и изворотливого создания) и т. п.
Древние проклятия, тяготеющие над целыми родами, о которых потом будут писать великие греческие трагики, – это ведь тоже художественный филогенез и едва ли не основной стержень, вкруг которого вьется и организуется эллинская драма. Пелопово злотворство, генетически трансформировавшееся в проклятую поросль Пелопидов, поведенчески воплотившееся в Агамемноне и его злосчастном потомстве – Оресте, Электре, Ифигении. Как бы несчастный Эдип ни изворачивался, как бы ни пытался изменить свой отногенез и освободить его от филогенетической предопределенности, оказывается, что в самом генетическом коде его судьбы, в ДНК его личности изначально утверждено и неизбежно предначертано – «убить отца и спать с матерью»; а все поступки, которые эта героическая личность вроде бы свободно и в высшей степени интеллектуально совершает (Сфинкса перемудрить только он смог!), выходит, совершает не Эдип, а его роковая ДНК, которая, словно молекулы тела, собирает и организует различные моменты эдиповой судьбы, ведя их к ортогенетически направленной трагедии; и кажется, будь Эдип поглупее, не ощущай он себя таким решительным и свободным, ДНК могла бы дать осечку, Аполлон обмишурился бы и проклятие бы не сработало, но – черта с два, господа! – эдипова ДНК так запрограммирована, что строптивость, интеллект и непредсказуемость Эдипа в ней не только учтены, но они-то и толкают его к предначертанному, они-то и конструируют белки его злосчастья и грядущих страданий.
Уже древние греческие поэты мыслили филогенетически. Стоит ли говорить о новых и новейших? Фауст Гете. Не кажется ли вам, что в одном этом образе воплощен совокупный филогенез человеческой истории и культуры – от самых древних его, животных и даже геологических пластов, (один герой Достоевского помнится, утверждал, что слышал арию, которую у Гете пропел минерал)', от самых хтонических бездн и до таких эволюционных высот, которые мы даже вообразить себе не сможем, ни звука не услышим, не то что целой арии? Я не уверен, что эту грядущую музыку слышал Гете, но в Фаусте она, подозреваю, заключена и таится до поры до времени. И не только в «Фаусте». В «Дон Кихоте». В «Братьях Карамазовых». Во всех великих литературных произведениях.
Вспомните замечательного писателя XX века, ученика Гете и Достоевского, Томаса Манна. «Иосиф и его братья». Колодец памяти и мифа… И неясно, с кем все происходит – с библейским Иосифом? или с тем Иосифом, который жил в Египте задолго до записанной Библии? или с нами, живущими четыре тысячи лет с тех пор?.. – но ясно, что сопряжены мы и связаны в этом колодце так тесно и больно, что все мы словно одно лицо неповторимо повторяющейся жизни, а если нас развязать и отпустить на свободу, то никакой свободы не будет, потому что вне этого мифа-колодца, вне этой связи, и боли, и тесноты нагроможденных друг на друга исторических существ, жизни нет… и зачем тебе свобода, если ты в колодце не томился, в Египте не рабствовал, братьев-убийц не простил? что ты в этой свободе поймешь, как ты ею насладишься, если нет в тебе Иосифа Прекрасного?.. Вы читали роман? Так прочтите или вспомните, и Томас Манн вам скажет о том, что мне не удалось и не удастся…
В живописи эта эволюционная перспектива-ретроспектива еще нагляднее… За спиной Джоконды – помните? – цепи гор, возникающих из туманных испарений, как бы очерчивая и оформляя первобытный хаос. Нет, это не фон для человеческого портрета. Это исток Джоконды, а сама Джоконда – живой плод этих никем и никогда не виданных гор, этого влажного изначального тумана, от которого к нам течет река и бежит дорога; Джоконда эти горы одухотворяет, туман очеловечивает, а они – охлаждают ее, отдаляют от нас эту не то женщину, не то дьяволицу, не то богиню, делая ее бесстрастнее, холоднее, над-человечнее; чем дольше и пристальнее всматриваешься в Джоконду, тем больше она отодвигается в туман и горы, но если заставить себя оторвать взгляд от этой улыбки, этих глаз, рук и тела, если отдать себя ретроспективе, проследовать по песчаной дороге к горам и туману, какое-то теплое чувство охватывает, словно ты что-то начинаешь понимать, и это неясное понимание кажется самым дорогим на свете, дороже всех прежде добытых тобой знаний, и, вновь взглянув на улыбающуюся женщину, ты в первый момент не видишь в ней ничего загадочного, и нежной является она тебе, живой и теплой. Потом, правда, тайна возвращается, а вместе с ней холод и одиночество… «Джоконда» – не портрет, Джоконда – не женщина. Великий Улыбающийся Маг подарил нам картину всеобщей жизни, но люди прозрели в ней женский портрет и приписали ученому человеку Леонардо да Винчи…
В испанском городе Фигерасе в «театре-музее» Сальвадора Дали висит картина, на которой горы и туман буквально помещены в тело женщины: на месте левой груди у нее открывается окно в одну геологическую эпоху, на месте правой груди – в другую. И всем творчеством Дали, как мне кажется, можно иллюстрировать труды Владимира Вернадского: сюрреализм, по сути дела, не что иное как постоянное соположение, сочленение, взаимное перетекание, превращение и в итоге сопереживание и сосуществование геосферы, биосферы и ноосферы… Я, может быть, шучу. Но Сальвадор Дали, с которым мне выпал счастливый случай однажды встретиться и даже разговаривать, к моей шутке отнесся с большим пониманием и попросил записать имя и фамилию Вернадского на клочке бумаги. «Русские понимают меня лучше других», – заметил он, едва ли меня имея в виду (русской по происхождению была его жена, его главная модель, его великая муза и единственная богиня – Гала).
К этим «филогенетическим штудиям» добавим, что, по крайней мере со времен Шекспира, внутреннее развитие образов, художественный онтогенез персонажей становится правилом литературы, как перспектива – правилом живописи.
§ 83
Религия. На первый, поверхностный, но, к сожалению, весьма распространенный в широкой публике взгляд, богословское знание не только не дополняет «общую теорию эволюции», но всячески ее опровергает.
Я уверен, что дело тут в двойном невежестве, вернее, в неумении и нежелании слушать друг друга.
Начнем с невежества ученых. Ученые, естественно, противоречат богословам, когда берутся доказывать, скажем, отсутствие Бога, возникновение органического мира из неорганического, происхождение человека от обезьяны. Но прежде всего они противоречат научному знанию: человек очевидно не от обезьяны произошел; возникновение органики из неорганики на Земле пока совершенно не доказано, и, стало быть, ненаучно сие утверждать; научное же опровержение бытия Божия – вовсе методический нонсенс, так как все «божественные вопросы» находятся за рамками научного исследования. На месте богословов с такими горе-учеными я бы вообще не спорил, предоставив их суду их же собственных коллег.
Намного сложнее преодолеть научное невежество в отношении библейских текстов. Некоторые весьма добросовестные в своей области ученые критикуют Библию, совершенно не представляя себе ни языка ее, ни стиля, ни образа мышления. В результате полемика ведется, по сути, не с Библией, а со своим наивно-научным представлением о ней. Нападают, скажем, на библейскую «твердь», доказывая, что она не небо. Но если бы перед нападением ученые заглянули в самые популярные толкования Книги Бытия, то, во-первых, узнали бы, что Библия «не излагает положений науки, а говорит языком сынов человеческих»13, то есть язык так называемого Шестоднева в поверхностном своем слое обращен к представлениям древних евреев. Во-вторых, то, что на русский язык переводится «твердь», в библейском оригинале представлено словом, которое может читаться как «распростертие», и ежели так прочесть, то получится, что на второй день Бог сотворил пространство. – Стоит ли доказывать, что оно, пространство, наивно и не существует? И так почти с каждым ключевым словом в библейском оригинале: «небо» – вовсе не то небо, которое мы себе представляем, когда произносим это слово; «вода» – не наша вода и «свет» – совсем не тот свет, который от Солнца исходит.
Мало того что библейский оригинал семантически богаче русского перевода, – каждое библейское слово мифологично, своей особой и вечной жизнью живет; маленьким желудем посеянное в человеческую психику, оно бессознательно разрастается затем предсознательно ветвистым и осознанно таинственным дубом; не косно-морфологично оно, а животворно-генетично; и ту «твердь», которую древний еврей первого тысячелетия до Рождества Христова только и мог понимать как некое твердое навершие суши, современный читатель, учитывая накопленные за три тысячелетия научные знания, не только может, но, мне кажется, обязан воспринимать «распростертием», пространством, расширившимся до вселенских масштабов; ибо желудь за это время разросся уже величественным дубом, и, с одной стороны, эволюционировала наука, а с другой, расцвела христианская экзегетика. Без этой экзегетики к Библии, похоже, и прикасаться не стоит, если не хотим уподобиться крыловской мартышке, смеющейся над своим собственным отражением.
Во взаимном непонимании и вина взаимная. Много ли мы знаем современных богословских толкований Шестоднева, которые вместили бы в себя все достижения науки XX века: открытия Эйнштейна, Бора, палеонтологов, антропологов, зоологов, астрономов и астрофизиков? По крайней мере, в отечественной православной богословской литературе мне такие фундаментальные экзегетические работы не известны; отдельные вопросы трактуются с большей или меньшей глубиной, но чтобы взять и обозреть весь Шестоднев так, как почти две тысячи лет назад это сделал святой Василий Великий, – не знаю я таких православных богословских подвигов. Мне могут сказать: то, что дозволено святому отцу церкви, как-то боязно предпринимать не «отцу» и не святому. Но эдак ведь рассуждать, этак бояться – значит прежде всего противоречить духовным устремлениям самих же святых отцов, которые, в полной мере понимая необходимость согласования Знания Верующего (богословия) и Знания Испытующего (науки), в свою экзегетику включали все доступное им научное и философское знание, и не их в том вина, что науки тогда пребывали в зачаточном состоянии; святым отцам и в голову не могло прийти, что русские духовные потомки так превознесут их святость, что почти откажутся от творческой христианской экзегезы… Или все это у нас от необразованности и от лени?..
Короче, результат налицо: ученые-эволюционисты, как правило, понятия не имеют об экзегезе Шестоднева, а православные богословы, за редким исключением, почти не касаются проблем эволюционного движения жизни. И даже у тех, которые составляют исключение, можно встретить признание: «Господь создал весь материальный мир в своем законченном и совершенном виде, не требующем какого бы то ни было улучшения или, выражаясь другими словами, дальнейшей эволюции»14.
Предлагаю убояться столь категорического суждения. Во-первых, насколько мне известно, все мировые религии (а также древние египтяне, древние китайцы, древние греки, древние индийцы и древние персы) говорят о постепенном становлении мира, о космогенезе, антропогенезе, иногда даже о зоогенезе. Христианство тут не составляет исключения. Видимый мир Бог творит сразу, разъясняет Василий Великий, но… не сразу мир осуществляется в своей полноте и строе15. Наш почти современник (по сравнению с Василием Великим), Феофан Затворник, пишет: «…Я допускаю лествицу невещественных сил душевного свойства. Взаимное притяжение, химическое сродство, кристаллизация, растения, животные – производятся соответствующими невещественными силами, которые идут, возвышаясь постепенно»16. Это постепенное осуществление мира, эти данные Творцом силы и законы, разве отрицают они эволюционное мышление?
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?