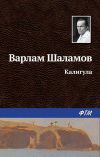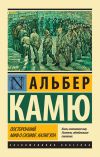Текст книги "Калигула. Недоразумение. Осадное положение. Праведники"
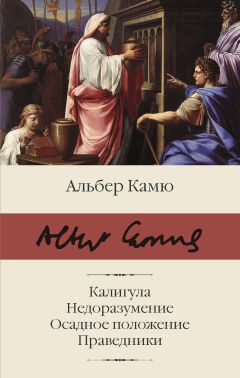
Автор книги: Альбер Камю
Жанр: Драматургия, Поэзия и Драматургия
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 13 (всего у книги 15 страниц)
Каляев. Вот уже год я ни о чем другом не думаю. Для этого мига я и жил до сих пор. Теперь я знаю, что хотел бы умереть на месте, рядом с великим князем. Пролить всю свою кровь до последней капли или вспыхнуть сразу в пламени взрыва и ничего не оставить позади себя. Ты понимаешь, почему я просился бросать бомбу? Умереть за идею – это единственный способ быть достойным ее. Это и есть оправдание.
Дора. Я тоже хочу такой смерти.
Каляев. Да, такому счастью можно позавидовать. Как положено лоточнику, я сплю на тюфяке. Иногда я ворочаюсь на нем по ночам. Меня терзает одна мысль: они сделали из нас убийц. Но я тут же вспоминаю, что и я умру, и сразу успокаиваюсь. Ты знаешь, я улыбаюсь и засыпаю как ребенок.
Дора. Это так, Янек. Убить и умереть. Но по-моему, есть еще большее счастье. (Пауза. Каляев смотрит на нее. Она опускает глаза.) Эшафот.
Каляев (с жаром). Я думал об этом. Умереть в самый миг покушения – тут есть что-то незавершенное. А между покушением и эшафотом целая вечность, может быть, единственная доступная человеку.
Дора (беря его за руки, убеждающим тоном). Пусть эта мысль тебя поддерживает. Мы платим больше, чем должны.
Каляев. Что ты хочешь сказать?
Дора. Мы обязаны казнить, правда? Мы сознательно приносим в жертву одну-единственную жизнь?
Каляев. Да.
Дора. Но идти на покушение, а потом на эшафот – значит отдавать свою жизнь дважды. Мы платим больше, чем должны.
Каляев. Да, это значит умирать дважды. Спасибо, Дора. Никто не может нас в чем-то упрекнуть. Теперь я уверен в себе. (Молчание.) Что с тобой, Дора? Ты не отвечаешь?
Дора. Я хотела бы тебе помочь. Только…
Каляев. Только?
Дора. Нет, это безумие.
Каляев. Ты мне не доверяешь?
Дора. Нет, мой дорогой, я себе не доверяю. С тех пор как погиб Швейцер, меня иногда посещают странные мысли. И потом, не мне говорить тебе, в чем самое трудное.
Каляев. Мне нравится самое трудное. Если ты уважаешь меня, говори.
Дора (глядя на него). Я знаю. Ты храбрый. Это меня и тревожит. Ты смеешься, воодушевляешься, идешь на самопожертвование, ты весь пылаешь. Но через несколько часов придется стряхнуть с себя грезы и действовать. Может быть, лучше сказать об этом заранее… Чтобы избежать шока, паралича…
Каляев. Я не впаду в паралич. Скажи, что думаешь.
Дора. Так вот, покушение, эшафот, умирать дважды – это легче всего. На это твоего мужества достанет. Но передняя линия… (Она умолкает, смотрит на него, как будто колеблясь.) С передней линии ты его увидишь…
Каляев. Кого?
Дора. Великого князя.
Каляев. Самое большее – на секунду.
Дора. Секунду ты будешь на него смотреть! О, Янек, ты должен знать, надо тебя предупредить! Человек есть человек. Может быть, у великого князя добрые глаза. Ты увидишь, как он потирает ухо или весело улыбается. Кто знает, на щеке у него может быть царапина от бритвы. И если он на тебя взглянет в эту минуту…
Каляев. Я не его убиваю. Я убиваю деспотизм.
Дора. Конечно, конечно. Надо убить деспотизм. Я буду делать бомбу и запечатывать трубку, и в этот момент – знаешь, самый опасный, когда все нервы напряжены, – я все же испытаю необъяснимое счастье. Но я не знаю великого князя. И сиди он в это время передо мной, это было бы не так просто. А ты его увидишь близко. Очень близко…
Каляев (яростно). Я его не увижу.
Дора. Как это? Ты закроешь глаза?
Каляев. Нет. Но, даст Бог, в нужный момент ненависть охватит меня и ослепит.
Звонят один раз. Они застывают на месте. Входят Степан и Воинов. Голоса в передней.
Входит Анненков.
Анненков. Это привратник. Великий князь поедет в театр завтра. (Смотрит на них.) Все должно быть готово, Дора.
Дора (глухо). Да.
Медленно уходит.
Каляев (смотрит ей вслед и, обернувшись к Степану, тихо говорит). Я его убью. С радостью!
Занавес
Действие второе
На следующий вечер, в той же комнате.
Анненков у окна, Дора сидит за столом.
Анненков. Они уже там. Степан закурил папироску.
Дора. Когда должен проехать великий князь?
Анненков. С минуты на минуту. Слышишь? Карета? Нет.
Дора. Сядь. Наберись терпения.
Анненков. А бомбы?
Дора. Сядь. Нам больше нечего делать.
Анненков. Только завидовать им.
Дора. Твое место здесь. Ты – командир.
Анненков. Я командир. Но Янек лучше меня, а его, может быть…
Дора. Риск для всех одинаков – для тех, кто бросает бомбу, и для тех, кто ее не бросает.
Анненков. В конечном счете риск одинаков. Но в эту минуту Янек и Воинов на линии огня. Я знаю, что не должен быть с ними. И все-таки я иногда боюсь, что слишком легко согласился на свою роль. В общем, это удобно, когда ты принужден не бросать бомбу.
Дора. А когда бросишь? Главное – ты делаешь то, что нужно, и до конца.
Анненков. Как ты спокойна!
Дора. Я не спокойна, мне страшно. Я с вами вот уже три года, два года как делаю бомбы. Я все исполняла и, хочу надеяться, не забывала ничего.
Анненков. Разумеется, Дора.
Дора. Так вот, все эти три года мне страшно. Такой страх почти не отпускает во сне, а утром охватывает с новой силой. Значит, мне нужно было привыкать. Я научилась быть спокойной в ту самую минуту, когда мне страшнее всего. Тут нечем гордиться.
Анненков. Наоборот, ты должна гордиться. А я ничего в себе не поборол. Знаешь, я тоскую по былой жизни, по веселью и роскоши, по женщинам… Да, я любил женщин, вино и эти бесконечные ночи…
Дора. Я догадывалась, Боря. За это я и люблю тебя. У тебя сердце не омертвело. Даже если оно порой жаждет наслаждения, это лучше, чем ужасная тишина, заглушающая крик.
Анненков. Что ты такое говоришь? Ты? Быть не может.
Дора. Слышишь?
Дора вскакивает. Доносится звук движущегося экипажа, потом стихает.
Нет. Это не он. У меня сердце бьется. Видишь, я еще ничему не научилась.
Анненков (подходит к окну). Внимание. Степан подает знак. Это он.
Действительно, доносится звук движущейся кареты, сначала издалека, потом все ближе и ближе. Она проезжает под окнами и снова удаляется. Долгое молчание.
Анненков. Через несколько секунд…
Прислушиваются.
Анненков. Как долго.
Дора жестом останавливает его. Долгое молчание. Где-то вдали слышен колокольный звон.
Анненков. Это невозможно. Янек уже должен был бросить бомбу… Карета сейчас уже подъехала к театру. А Алексей? Смотри! Степан возвращается назад и бежит к театру.
Дора (кидаясь к нему). Янека схватили. Конечно, его схватили. Надо что-то делать!
Анненков. Погоди. (Прислушивается.) Нет. Кончено.
Дора. Как это случилось? Янек арестован, ничего не успев сделать! Он был ко всему готов, я знаю, – к тюрьме, к суду. Но после того, как убьет великого князя! А не так, не так, нет!
Анненков (глядя на улицу). Воинов! Скорей!
Дора идет открывать. Входит Воинов. Лицо его искажено.
Анненков. Алексей, ну, говори же.
Воинов. Я ничего не знаю. Я ждал первой бомбы. Я видел, как карета завернула за угол, но ничего не случилось. Я совсем потерял голову. Я решил, что ты в последнюю минуту переменил наш план, подождал еще. А потом побежал сюда…
Анненков. А Янек?
Воинов. Я его не видел.
Дора. Его арестовали.
Анненков (по-прежнему глядя на улицу). Вот он! Дора снова идет открывать.
Входит Каляев. Лицо его залито слезами.
Каляев (совершенно потерянный). Братья, простите меня. Я не смог.
Дора подходит к нему и берет его за руку.
Дора. Ничего.
Анненков. Что случилось?
Дора (Каляеву). Ничего. Иногда в последний момент все рушится.
Анненков. Но это невозможно.
Дора. Оставь его. Это не с тобой одним, Янек. Швейцер в первый раз тоже не смог.
Анненков. Янек, ты испугался?
Каляев (вздрагивая). Испугался? Нет. Ты не имеешь права!
Звонят условным звонком. По знаку Анненкова Воинов выходит. Каляев садится в изнеможении. Молчание. Входит Степан.
Анненков. Ну?
Степан. В карете великого князя были дети.
Анненков. Дети?
Степан. Да. Племянник и племянница великого князя.
Анненков. По сведениям Орлова, великий князь должен был ехать один.
Степан. Там была и великая княгиня. Полагаю, слишком много людей для нашего поэта. К счастью, шпики ничего не заметили.
Анненков что-то тихо говорит Степану. Все смотрят на Каляева; он поднимает глаза на Степана.
Каляев (растерянно). Я не мог предвидеть… Дети, особенно дети. Ты видел детей? У них иногда такой серьезный взгляд… Я никогда не мог его вынести… А ведь за мгновение до этого, в темноте, на углу площади, я был счастлив. Когда вдали показались фонари кареты, клянусь тебе, сердце у меня забилось от радости. Чем ближе была карета, тем сильнее оно билось. Оно стучало так громко. Мне хотелось прыгать. Кажется, я смеялся. И повторял «да, да»… Ты понимаешь? (Он отводит глаза от Степана, вид у него снова убитый.) Я побежал к ней. И вот тут я их увидел. Они-то не смеялись. Они сидели совсем прямо и смотрели в пустоту. Какие они были грустные! Затянуты в свои парадные костюмы, руки на коленях, так и застыли по обе стороны дверцы! Я не видел великой княгини. Я видел только их. Если бы они на меня посмотрели, наверно, я бы бросил бомбу. Хотя бы для того, чтобы погасить этот грустный взгляд. Но они все время смотрели прямо перед собой. (Он поднимает глаза на остальных. Еще тише.) И тут – не знаю, что со мной случилось. Рука у меня обмякла. Ноги дрожали. А через секунду было уже поздно. (Молчание. Он сидит потупясь.) Дора, мне приснилось, что в ту минуту зазвонили колокола?
Дора. Нет, Янек, тебе не приснилось.
Она кладет ему руку на плечо. Каляев поднимает голову. Все оборачиваются к нему. Он встает.
Каляев. Посмотрите на меня, братья. Боря, посмотри на меня. Я не трус, я не дрогнул. Я их не ожидал. Все произошло так быстро. Эти два серьезных личика, а в моей руке этот страшный груз. Надо было его бросить в них. Вот так. Прямо в них. Нет! Я не смог. (Он обводит их взглядом одного за другим.) В былые времена, когда я правил пролеткой у нас на Украине, я носился как ветер и ничего не боялся. Ничего на свете, кроме одного: сшибить ребенка. Я представлял себе удар, и как эта хрупкая головка бьется с размаху о мостовую… (Замолкает.) Помогите мне… (Все молчат.) Я хотел покончить с собой. Я вернулся, потому что подумал – я обязан дать вам отчет, вы – мои единственные судьи, вы мне скажете, прав я или неправ, вы не можете ошибиться. Но вы молчите.
Дора подходит к нему ещё ближе, вплотную. Он смотрит на них и продолжает мрачно.
Каляев. Вот что я предлагаю. Если вы решите, что следует убить этих детей, я подожду окончания спектакля и брошу бомбу в карету, один. Я уверен, что не промахнусь. Только решайте, я буду повиноваться Организации.
Степан. Организация приказала тебе убить великого князя.
Каляев. Верно. Но она не требовала от меня убивать детей.
Анненков. Янек прав. Это не было предусмотрено.
Степан. Он был обязан выполнить приказ.
Анненков. Я отвечаю за все. Надо было все предвидеть, чтобы ни у кого не было сомнений, как поступать. Теперь остается только решить, упускаем ли мы эту возможность окончательно или поручаем Янеку дожидаться окончания спектакля. Алексей?
Воинов. Не знаю. Думаю, я поступил бы, как Янек. Но я в себе не уверен. (Тихо.) У меня руки дрожат.
Анненков. Дора?
Дора (горячо). Я бы тоже не стала кидать бомбу. Как же я буду советовать другим сделать то, чего сама не могу?
Степан. Вы отдаете себе отчет, что означает такое решение? Два месяца слежки, смертельной опасности, которой мы подвергались и сумели избежать, два месяца навсегда потеряны. Егора арестовали зря, Рыкова повесили зря. И нужно начинать все сначала? Опять долгие недели бессонницы и всяких ухищрений, постоянного напряжения, прежде чем снова представится удобный случай? Вы с ума сошли?
Анненков. Ты же знаешь, что через два дня великий князь снова поедет в театр.
Степан. Ты сам говорил, за эти два дня нас могут арестовать.
Каляев. Я иду.
Дора. Постой! (Степану.) А ты, Степан, ты мог бы с открытыми глазами выстрелить в ребенка, в упор?
Степан. Мог бы, если бы Организация мне это приказала.
Дора. Тогда почему ты закрыл глаза?
Степан. Я закрыл глаза?
Дора. Да.
Степан. Наверно, для того, чтобы живее вообразить эту сцену и ответить с пониманием дела.
Дора. Открой глаза и пойми, что Организация утратит свое влияние и свою власть, если хоть на минуту допустит, чтобы наши бомбы рвали на куски детей.
Степан. На такие благоглупости у меня широты не хватает. В тот день, когда мы решимся позабыть о детях, мы станем хозяевами мира, и революция восторжествует.
Дора. В тот самый день все человечество возненавидит революцию.
Степан. Неважно, коль скоро мы любим революцию так сильно, что сможем заставить всех ее принять и спасем человечество от него самого и от рабства.
Дора. А если человечество отвергнет революцию? Если весь народ, за который ты борешься, не захочет, чтобы убивали его детей? Тогда и в него стрелять?
Степан. Если надо – да. Пока он не поймет. Я тоже люблю народ.
Дора. У любви не такое лицо.
Степан. Кто это говорит?
Дора. Я, Дора.
Степан. Ты женщина, у тебя превратное представление о любви.
Дора (яростно). Зато у меня точное представление о том, что такое стыд.
Степан. Мне было стыдно за себя однажды, и по чужой вине. Когда меня били кнутом. Меня ведь били кнутом. Вы знаете, что такое кнут? Вера была рядом, она покончила с собой в знак протеста. А я остался жить. Чего мне теперь стыдиться?
Анненков. Степан, мы все здесь любим тебя и уважаем. Но каковы бы ни были твои доводы, я не разрешу тебе утверждать, что все позволено. Сотни наших братьев умерли за то, чтобы люди знали: не все позволено.
Степан. Ничего не запрещено, если служит нашему делу.
Анненков (гневно). По-твоему, позволено поступать в полицию и становиться двойным агентом, как предлагал Евно? Ты бы это сделал?
Степан. Если понадобилось бы – да.
Анненков (вставая). Степан, мы забудем, что ты сейчас сказал, из уважения к тому, что ты сделал для нас и вместе с нами. Только пойми вот что. Мы обсуждаем, бросим ли мы сию минуту бомбу в детей.
Степан. Дети! У вас одно это слово на языке. Так вы ничего не понимаете? Из-за того, что Янек не убил тех двоих, тысячи русских детей будут умирать от голода еще долгие годы. Вы видели, как дети мрут от голода? А я видел. Смерть от бомбы – одно удовольствие по сравнению с такой смертью. Но Янек этого не видел. Он видел только двух дрессированных собачек великого князя. Или вы не люди? Вы живете настоящей минутой? Тогда выбирайте милосердие, которое залечивает одну сегодняшнюю язву, а не революцию, которая излечит все болезни, настоящие и будущие.
Дора. Янек готов убить великого князя, потому что эта смерть может приблизить время, когда русские дети не будут больше умирать от голода. Это само по себе нелегко. Но гибель племянников великого князя не спасет ни одного ребенка от голодной смерти. Даже в разрушении есть свой порядок, свои пределы.
Степан (яростно). Нет таких пределов. Вы просто не верите в революцию. (Все кроме Янека встают.) Вы в нее не верите. Если бы вы верили в нее безусловно, до конца, если бы вы не сомневались, что путем жертв и побед мы построим Россию, стряхнувшую деспотизм, страну свободы, которая распространится затем по всему миру, если б вы не сомневались, что тогда человек, освобожденный от господ и предрассудков, поднимет к небу свой поистине божественный лик, – что значила бы для вас смерть двоих детей? Вы признали бы за собой все права, слышите? Все. А если вы не можете переступить через эту смерть, значит, вы не уверены в своем праве. Вы не верите в революцию.
Молчание. Каляев встает.
Каляев. Степан, я стыжусь себя, и все же я не позволю тебе продолжать. Я согласился убивать, чтобы свергнуть деспотизм. Но за твоими словами я вижу нарождение нового деспотизма. Если он установится, то сделает меня убийцей, а я пытаюсь творить правосудие.
Степан. Какая разница, кто ты такой, – лишь бы правосудие свершилось, пусть даже руками убийц. Мы с тобой ничего не значим.
Каляев. Что-то мы значим, и ты это хорошо знаешь. Ведь ты и сейчас говоришь по велению своей гордости.
Степан. Моя гордость никого, кроме меня, не касается. Но гордость всех людей, их бунт, несправедливость, в которой они живут, – это наше общее дело.
Каляев. Люди живут не только справедливостью.
Степан. Чем же им еще жить, когда у них крадут хлеб?
Каляев. Справедливостью и чистотой.
Степан. Чистота? Может, я и знал ее когда-то. Но я решил забыть о ней и изгладить ее из памяти тысяч людей, чтобы настал день, когда она обретет иной, величайший смысл.
Каляев. Надо быть совершенно уверенным, что этот день наступит. Только тогда можно отрицать все, что дает человеку силы жить.
Степан. Я в этом уверен.
Каляев. Ты не можешь быть уверен. Чтобы выяснить, кто из нас прав, ты или я, понадобится, быть может, гибель трех поколений, многие войны, сокрушительные революции. Когда земля обсохнет от этого кровавого дождя, мы с тобой уже давно истлеем.
Степан. Тогда придут другие, и я им кланяюсь, как братьям.
Каляев (кричит). Другие… Да! Но я люблю тех, кто живет сегодня на одной земле со мной, и кланяюсь я им. Это за них я борюсь и готов умереть. А ради далекого райского града, в появлении которого я не уверен, я не буду стрелять в лицо моим братьям. Я не буду умножать живую несправедливость ради мертвой справедливости. (Тише, но с твердостью.) Братья, я хочу говорить с вами откровенно и сказать то, что мог бы сказать самый простой наш мужик: убивать детей бесчестно. И если когда-нибудь при моей жизни революция окажется несовместима с честью, я отвернусь от революции. Если вы так решите, я сейчас же пойду к театральному подъезду, но брошусь под копыта лошадям.
Степан. Честь – это роскошь, доступная владельцам карет.
Каляев. Нет. Это последнее сокровище бедняков. Ты это отлично знаешь. И ты знаешь, что в революции тоже живет честь. Та, что когда-то заставила тебя распрямиться под кнутом, Степан, а сегодня заставляет тебя говорить.
Степан (кричит). Замолчи. Я запрещаю тебе говорить об этом.
Каляев (с жаром). Почему я должен молчать? Я позволил тебе сказать, что я не верю в революцию. То есть, что я способен убить великого князя понапрасну, что я убийца. Я позволил тебе это сказать и не ударил тебя.
Анненков. Янек!
Степан. Убивать меньше, чем нужно, – это иногда и значит убивать понапрасну.
Анненков. Степан, никто здесь с тобой не согласен. Мы приняли решение.
Степан. Что ж, я подчиняюсь. Но я буду твердить, что террор – не для чувствительных душ. Мы убийцы, и мы это для себя избрали.
Каляев (вне себя). Нет. Я избрал другое – умереть, чтобы убийство не восторжествовало. Я избрал чистоту.
Анненков. Янек, Степан, довольно! Организация постановляет, что убийство этих детей нецелесообразно. Нужно снова браться за слежку. Мы должны быть готовы повторить все через два дня.
Степан. А если дети опять будут там?
Анненков. Мы подождем другого случая.
Степан. А если с великим князем будет великая княгиня?
Каляев. Ее я не пощажу.
Анненков. Слышите?
Стук колес. Каляев невольно бросается к окну. Остальные ждут, не двигаясь. Карета приближается, проезжает под окнами и скрывается из виду.
Воинов (глядя на Дору, которая подходит к нему). Все сначала, Дора…
Степан (с презрением). Да, Алексей, все сначала… Но надо же что-то сделать ради чести!
Занавес
Действие третье
Та же комната, тот же час два дня спустя.
Степан. Где Воинов? Он должен быть здесь.
Анненков. Ему надо выспаться. А у нас есть еще полчаса.
Степан. Я могу пойти узнать.
Анненков. Нет. Надо ограничивать риск.
Молчание.
Анненков. Янек, почему ты молчишь?
Каляев. Мне нечего сказать. Не беспокойся.
Звонят.
Каляев. Вот и он.
Входит Воинов.
Анненков. Ты поспал?
Воинов. Да, немного.
Анненков. Ты спал всю ночь?
Воинов. Нет.
Анненков. Надо было спать. Есть же средства.
Воинов. Я пробовал. Но я слишком устал.
Анненков. У тебя руки дрожат.
Воинов. Нет. (Все смотрят на него.) Что вы на меня смотрите? Разве не может человек устать?
Анненков. Может. Мы думаем о тебе.
Воинов (с внезапной яростью). Надо было подумать обо мне позавчера. Если бы бомбу бросили два дня назад, нам бы уже не от чего было уставать.
Каляев. Прости меня, Алексей! Это из-за меня все стало так трудно.
Воинов (тише). Кто это сказал? Почему – трудно? Я просто устал, вот и все.
Дора. Теперь дело пойдет быстрее. Через час все будет кончено.
Воинов. Да, все будет кончено. Через час…
Он озирается вокруг. Дора подходит к нему и берет его за руку. Он не сопротивляется сначала, потом вдруг резко вырывает руку.
Воинов. Боря, мне нужно с тобой поговорить.
Анненков. Наедине?
Воинов. Наедине.
Они переглядываются. Каляев, Дора и Степан выходят.
Анненков. Ну, что? (Воинов молчит.) Скажи мне, прошу тебя.
Воинов. Мне стыдно, Боря.
Молчание.
Воинов. Мне стыдно. Я должен сказать тебе правду.
Анненков. Ты не хочешь бросать бомбу?
Воинов. Я не смогу ее бросить.
Анненков. Тебе страшно? Дело в этом? Тут нечего стыдиться.
Воинов. Мне страшно, и я этого стыжусь.
Анненков. Но позавчера ты был счастлив и горд. Когда ты уходил, глаза у тебя горели.
Воинов. Мне всегда было страшно. Позавчера я просто собрал все свое мужество. Когда я услышал карету издалека, я себе сказал: «Ну! Всего одна минута!» И стиснул зубы. Все мускулы у меня напряглись. Я хотел бросить бомбу таким рывком, как будто великий князь должен был погибнуть от самого удара. Я ждал первого взрыва, чтобы выплеснуть скопившуюся во мне силу. Но его не было. Карета поравнялась со мной. Как быстро она катилась! Она пронеслась мимо. Тогда я понял, что Янек не бросил бомбу. И тут меня ужасно зазнобило. Я вдруг почувствовал такую слабость, будто я малый ребенок.
Анненков. Это ничего, Алексей. Со временем человек оживает.
Воинов. Два дня прошло, а я не ожил. Я тебе солгал только что, я не спал эту ночь. Сердце билось слишком сильно. О, Боря, я в отчаянии.
Анненков. Не надо отчаиваться. Мы все были такие. Ты не будешь бросать бомбу. Месяц отдыха в Финляндии, и ты снова будешь с нами.
Воинов. Нет. Тут другое. Если я не брошу бомбу сегодня, я никогда ее не брошу.
Анненков. Почему?
Воинов. Я не гожусь для террора. Теперь я это знаю. Будет лучше, если я уйду от вас. Я буду работать по пропаганде, в комитетах.
Анненков. Риск тот же самый.
Воинов. Да, но там можно действовать с закрытыми глазами. Вслепую.
Анненков. Что это значит?
Воинов (лихорадочно). Вслепую. Это нетрудно – ходить на собрания, обсуждать положение и потом выносить смертный приговор. Конечно, рискуешь жизнью, но на ощупь, ничего не видя перед собой. Но стоять одному, когда вечер спускается на город, стоять одному среди тех, кто спешит к миске дымящегося супа, к детям, к женскому теплу, стоять молча, ощущать тяжесть бомбы в руке и знать, что через три минуты, через две минуты, через несколько секунд ты бросишься наперерез мигающей огнями карете – вот что такое террор. И теперь я знаю, что если придется начинать все сначала, то из меня словно вся кровь уйдет. Да, мне стыдно. Я слишком высоко метил. Мне надо работать на своем месте. На самом скромном местечке. Единственном, которого я достоин.
Анненков. Скромных мест нет. Тюрьма и виселица поджидают повсюду.
Воинов. Но их не видишь, как видишь того, кого собираешься убить. Их надо вообразить себе. К счастью, я лишен воображения. (С нервным смехом.) Мне никогда не удавалось всерьез поверить в тайную полицию. Странно для террориста, да? После первого же удара сапогом в живот я в нее поверю. Но не раньше.
Анненков. А когда окажешься в тюрьме? В тюрьме люди знают и видят. Там нет неведения.
Воинов. В тюрьме не надо принимать решений. Да, это главное – не надо принимать решений! Ты больше не должен себе говорить: «Это твое дело, тебе решать, в какой момент броситься вперед». Теперь я уверен, что если меня арестуют, я не буду пытаться бежать. Чтобы бежать, нужна изобретательность, инициатива. Если ты не бежишь, инициативу берут на себя другие. Весь труд достается им.
Анненков. Иной раз их труд состоит в том, чтобы тебя повесить.
Воинов (безнадежно). Иной раз, да. Но мне легче умереть, чем держать в руке свою и чужую жизнь и решать самому, когда швырнуть эти две жизни в огонь. Нет, Боря, единственный путь искупления для меня – это принять себя таким, какой я есть. (Анненков молчит.) Даже трусы могут служить революции. Надо только подобрать им место.
Анненков. Тогда мы все трусы. Но у нас не всегда есть случай это проверить. Ты будешь делать то, что захочешь?
Воинов. Я хотел бы уйти сейчас же. Мне кажется, я не смогу посмотреть им в лицо. Но ты им скажешь.
Анненков. Я им скажу.
Подходит к нему.
Воинов. Скажи Янеку, что это не его вина. И что я его люблю, и вас всех.
Молчание. Анненков обнимает его.
Анненков. Прощай, брат. Все кончится. Россия будет счастливой.
Воинов (убегая) О да! Только бы она была счастливой! Счастливой!
Анненков идет к двери.
Анненков. Входите.
Все входят, вместе с Дорой.
Степан. В чем дело?
Анненков. Воинов не будет бросать бомбу. Он переутомился и был бы ненадежен.
Каляев. Это я виноват, да, Боря?
Анненков. Он велел сказать, что любит тебя.
Каляев. Мы с ним еще встретимся?
Анненков. Быть может. А пока он от нас уходит.
Степан. Почему?
Анненков. Он будет полезнее в комитетах.
Степан. Он об этом попросил? Значит, он испугался?
Анненков. Нет. Я сам все решил.
Степан. За полчаса до покушения ты нас лишаешь человека?
Анненков. За полчаса до покушения мне пришлось решать одному. Обсуждать это слишком поздно. Место Воинова займу я.
Степан. Оно принадлежит мне по праву.
Каляев (Анненкову). Ты командир. Твой долг – оставаться здесь.
Анненков. Иногда долг командира – быть трусом. Но при том условии, что время от времени он испытывает свое мужество. Я принял решение. Степан, ты заменишь меня, пока будет нужно. Пойдем, ты должен знать инструкции.
Уходят. Каляев садится. Дора идет к нему, протягивает руку, потом спохватывается и отдергивает ее.
Дора. Это не твоя вина.
Каляев. Я причинил ему зло, большое зло. Ты знаешь, что он мне говорил в тот день?
Дора. Он все повторял, что счастлив.
Каляев. Да, но еще он мне сказал, что для него нет счастья вне нашего братства. Он говорил, «есть мы, Организация. А больше нет ничего. Это рыцарский орден». Как жалко, Дора!
Дора. Он вернется.
Каляев. Нет. Я представляю себе, что бы я испытывал на его месте. Я был бы в отчаянии.
Дора. А сейчас ты не в отчаянии?
Каляев (с грустью). Сейчас? Я с вами и счастлив, как и он был недавно.
Дора (медленно). Это большое счастье.
Каляев. Это очень большое счастье. Или ты думаешь иначе?
Дора. Я думаю так же. Тогда почему тебе грустно? Два дня назад твое лицо светилось. Ты как будто собирался на большой праздник. А сегодня…
Каляев (встает в сильном волнении). Сегодня я знаю то, чего не знал раньше. Ты была права, это не так просто. Я думал, что убивать легко, что достаточно веры в идею и храбрости. Но я не так силен духом, и теперь я знаю, что в ненависти нет счастья. Сколько зла, сколько зла во мне и в других. Убийство, трусость, несправедливость… Да, я должен, должен его убить… Но я пойду до конца! Дальше ненависти!
Дора. Дальше? Там ничего нет.
Каляев. Там есть любовь.
Дора. Любовь? Нет, ее не нужно.
Каляев. О, Дора, как ты можешь так говорить. Я же знаю тебя…
Дора. Слишком много крови, слишком много жестокости. Те, кто действительно любят справедливость, не имеют права на любовь. Они застывают, как я, с поднятой головой и неподвижным взглядом. К чему любовь таким суровым сердцам? Любовь клонит голову кротко, Янек. А мы жестоковыйны.
Каляев. Мы любим наш народ.
Дора. Да, это правда. Мы его любим любовью безбрежной и безответной. Мы живем далеко от него, мы заперты в наших комнатах, погружены в наши мысли. А любит ли народ нас? Знает ли он, что мы его любим? Народ молчит. О, какая тишина вокруг…
Каляев. Но это и есть любовь – все отдать, всем пожертвовать и не ждать ничего взамен.
Дора. Наверно. Это любовь совершенная, чистая и одинокая, она и вправду меня сжигает. И все же я иногда спрашиваю себя: может быть, любовь – это другое? Не только монолог, бывает порой и ответ? Ты знаешь, я представляю себе – светит солнце, головы кротко клонятся, суровость уходит из сердца, и руки раскрываются для объятий. Ах, Янек, разве нельзя хоть на один час забыть о страшных бедах этого мира и дать себе волю? Один мимолетный час эгоизма – ты можешь это вообразить?
Каляев. Да, Дора. Это называется нежность.
Дора. Ты все понимаешь, мой дорогой, это называется нежность. Но тебе она знакома? Нежно ли ты любишь справедливость? (Каляев молчит.) А твоя любовь к нашему народу – кроткая и тихая или, наоборот, пылает местью и возмущением? (Каляев по-прежнему молчит.) Вот видишь. (Она подходит к нему и спрашивает очень тихо.) А я? Меня ты любишь с нежностью?
Каляев смотрит на нее.
Каляев (помолчав). Ни один человек на свете не будет тебя любить так, как я люблю.
Дора. Я знаю. Но не лучше ли любить, как все люди на свете?
Каляев. Я не один из всех. Я люблю тебя, как дышу.
Дора. Ты любишь меня больше, чем Организацию, больше, чем справедливость?
Каляев. Я вас не разделяю – тебя, Организацию и справедливость.
Дора. Да. Но ответь мне, прошу тебя, ответь. Ты любишь меня в одиночестве, с нежностью, с эгоизмом? Ты любил бы меня, если б я была против справедливости?
Каляев. Если бы ты была против справедливости, а я мог бы тебя любить, значит, я любил бы не тебя.
Дора. Ты не отвечаешь. Скажи только, ты любил бы меня, если б я не была в Организации?
Каляев. Где бы ты была тогда?
Дора. Я помню те времена, когда была курсисткой. Я смеялась. Я была красивой. Я гуляла и мечтала целыми часами. Ты любил бы меня, если б я была легкомысленной и беззаботной?
Каляев (помедлив, очень тихо). Я отчаянно хочу сказать тебе – да.
Дора (кричит). Так скажи да, мой дорогой, если ты это думаешь и если это правда. Да, хотя существуют справедливость, нищета и угнетенный народ. Да, да, прошу тебя, – хотя погибают дети, и людей вешают, и забивают кнутом до смерти…
Каляев. Замолчи, Дора.
Дора. Нет, раз в жизни сердце должно высказаться. Я жду, чтобы ты позвал меня, меня, Дору, позвал через весь этот мир, зараженный несправедливостью…
Каляев (резко). Замолчи. Сердце мое говорит о тебе одной. Но через минуту я должен быть тверд.
Дора (в смятении). Через минуту? Да, я забыла… (Смеется, словно рыдает.) Нет, все хорошо, мой дорогой. Не сердись, я была глупа. Это от усталости. Я тоже не могла бы этого сказать. Я тебя люблю такой же неподвижной любовью, пахнущей справедливостью и тюрьмой. Лето – помнишь, Янек? Нет, вечная зима. Мы не от мира сего, мы праведники. Тепло не для нас. (Отворачиваясь.) О, сжальтесь над праведниками!
Каляев (глядя на нее с отчаянием). Да, таков наш удел, любовь для нас невозможна. Но я убью великого князя, и тогда наступит мир для тебя и для меня.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.