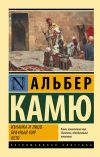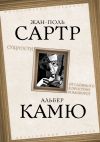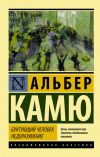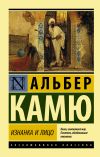Текст книги "Калигула. Недоразумение. Осадное положение. Праведники"
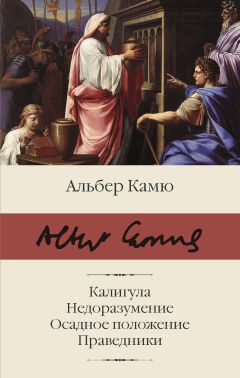
Автор книги: Альбер Камю
Жанр: Драматургия, Поэзия и Драматургия
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 12 (всего у книги 15 страниц)
Диего. Нет, но она сумеет прожить лучше, чем я!
Чума. Ничего подобного, если, конечно, ты бросишь заниматься чужими делами.
Диего. Я вступил на путь, где остановиться уже нельзя, даже если захочешь. Я тебя не пощажу!
Чума (меняет тон). Послушай! Если ты отдаешь мне свою жизнь в обмен на жизнь этой женщины, я вынужден согласиться, и она будет жить. Но я предлагаю тебе другой обмен. Я оставляю ее в живых и даю вам обоим возможность бежать, лишь бы вы не мешали мне навести порядок в этом городе.
Диего. Нет! Я знаю, в чем моя сила.
Чума. В таком случае буду с тобой откровенен. В моей власти должны быть все, иначе я не удержу никого. Если ты ускользнешь от меня, я потеряю весь город. Таков закон. Старый закон, сам не знаю, откуда он взялся.
Диего. Зато я знаю! Он существует испокон веков, он выше, чем ты сам, выше, чем твои виселицы. Это закон природы. Мы победили!
Чума. Нет еще! В моих руках ее жизнь, она моя заложница. Заложники – мой последний козырь. Посмотри на нее! Если есть в мире женское лицо, похожее на саму жизнь, то это ее лицо. Она достойна жизни, и ты хочешь, чтобы она жила. Я вынужден отдать ее тебе. Но только в обмен на твою собственную жизнь или на свободу этого города. Выбирай.
Диего смотрит на Викторию. В глубине сцены – невнятный ропот людей с кляпами во рту. Диего поворачивается к Хору.
Диего. Тяжело умирать!
Чума. Тяжело.
Диего. Но умирать тяжело не только мне.
Чума. Идиот! Десять лет любви такой женщины стоят дороже, чем век свободы всех этих людишек.
Диего. Любовь Виктории лежит в царстве моей собственной жизни. Здесь правлю я сам. А свобода этих людей принадлежит им. Я не могу ею распоряжаться.
Чума. Нельзя добиться счастья, не причиняя зла другим. Такова земная справедливость.
Диего. Я не так устроен, чтобы согласиться на эту справедливость.
Чума. Да кто спрашивает твоего согласия?! Устройство мира не изменится по твоему хотению! Если ты задумал его изменить, брось свои мечты и исходи из того, что есть в действительности.
Диего. Нет. Знаю я эти рецепты! Убивать, чтобы покончить с убийством, прибегать к насилию, чтобы установить справедливость! Это тянется столетиями! Столетиями владыки вроде тебя растравляют язвы нашего мира под тем предлогом, будто исцеляют их, и продолжают как ни в чем не бывало расхваливать свой метод, потому что никто не смеется им в лицо!
Чума. Никто не смеется, потому что я добиваюсь реальных результатов. Я действую эффективно.
Диего. Эффективно! Еще бы! И надежно! Как топор.
Чума. Да ты посмотри на людей! Сразу видно, что для них хороша любая справедливость.
Диего. С тех пор как захлопнулись городские ворота, я только и делаю, что на них смотрю.
Чума. Тогда тебе должно быть ясно, что они в любой момент готовы бросить тебя одного. А в одиночку человек погибает.
Диего. Неправда! Ели бы я был один, все было бы просто. Но они волей-неволей со мной.
Чума. Вот уж, право, прекрасное стадо, только уж очень вонючее!
Диего. Да, они не чисты, я знаю. Но и сам я не чист. К тому же я родился среди них. Я живу для своих сограждан, для своего времени.
Чума. Время рабов!
Диего. Время свободных людей!
Чума. Неужели? Что-то они мне не попадаются, сколько я ни ищу. Где же они?
Диего. У тебя на каторге, на твоих бойнях. А на тронах восседают рабы.
Чума. Одень твоих свободных людей в форму моей полиции, и ты увидишь, во что они превратятся.
Диего. Да, они бывают порой и ничтожными, и жестокими. Поэтому у них прав на власть не больше, чем у тебя. Нет на свете человека настолько безупречного, чтобы доверить ему абсолютную власть. Но эти люди имеют право на сострадание, в котором тебе будет отказано.
Чума. Быть ничтожным – значит быть как они, жалким и суетливым, жить, не умея подняться выше среднего уровня.
Диего. Вот такие, средние, они мне и близки. Если я не буду верен скромной правде, общей и для меня, и для них, то как же смогу я быть верен тому, что есть во мне самого высокого и неповторимого?
Чума. Единственное, чему стоит быть верным, так это своему презрению. (Указывает на поникший хор, без сил сидящий на земле.) Взгляни, их есть за что презирать!
Диего. Я презираю только палачей. Что бы ты ни сделал, эти люди всегда будут выше тебя. Если им и случится кого-нибудь убить, то лишь в минуту безумия. Ты же убиваешь, следуя правилам и логике. Не насмехайся над их поникшей головой – ведь из века в век над ними проносились кометы страха. Не насмехайся над их боязливым видом, потому что из века в век они гибли и их любовь разбивалась. Самое страшное их преступление всегда можно оправдать. Но нельзя оправдать преступления, которые во все времена совершались против них и которые ты в конце концов узаконил, возведя их в систему. (Чума приближается к нему.) Я не опущу глаза!
Чума. Не опустишь, я вижу. Что ж, тогда могу сказать тебе, что ты выдержал и последнее испытание. Если бы ты согласился уступить мне город, то погубил бы и эту женщину, и сам пропал бы вместе с ней. А так у твоего города есть все шансы получить свободу. Видишь, достаточно одного безумца вроде тебя… Безумец, конечно, погибает. Однако благодаря ему рано или поздно все остальные бывают спасены! (Мрачно.) Но остальные не заслуживают спасения.
Диего. Безумец погибает…
Чума. А? Уже передумал? Хотя нет, все идет как положено: классическая секунда колебания! Гордыня возьмет верх.
Диего. Я мечтал о чести. Неужели я обрету ее лишь среди мертвецов?
Чума. Я же говорил, их убивает гордыня! Но все это слишком утомительно для стареющего человека вроде меня. Готовься!
Диего. Я готов!
Чума. Вот мои знаки. Они причиняют боль. (Диего с ужасом смотрит на знаки чумы, снова появившиеся у него на теле.) Так! Помучайся чуть-чуть перед смертью! Таково мое правило. Когда меня жжет ненависть, чужое страдание для меня живительно, как роса. Придется немного постонать, я это люблю. Дай мне насмотреться на твои муки перед тем, как я покину этот город. (Поворачивается к Секретарше.) Теперь дело за вами!
Секретарша. Что ж, если так надо!
Чума. Притомилась уже, а?
Секретарша кивает и в тот же миг преображается. Перед нами старуха в традиционном обличье смерти.
Чума. Я всегда чувствовал, что вам не хватает ненависти. Зато моя ненависть требует свежей жертвы. Поторопитесь мне ее предоставить! А потом начнем все сначала в другом месте.
Секретарша. Ненависть и в самом деле не может служить мне поддержкой, она вообще не входит в мои обязанности. Но в этом отчасти виноваты и вы. Когда так долго копаешься в картотеках, пропадает всякий энтузиазм.
Чума. Это все слова! А если вам так уж нужна поддержка… (Указывает на Диего, который падает на колени.) Что ж, возьмите его во имя радости уничтожения. Это входит в ваши обязанности.
Секретарша. Ладно, уничтожим. Но мне не по себе.
Чума. По какому праву вы оспариваете мои приказы?
Секретарша. По праву памяти. У меня есть кое-какие давние воспоминания. До вас я была свободна и связана лишь со случаем. Тогда никто не презирал меня. Я была завершительницей судеб, придавала всякой жизни законченность, а любви – неизменность. Я всегда была верна себе. А вы заставили меня служить логике и уставу. Я потеряла сноровку, которая бывала подчас спасительна.
Чума. Кто же это просил вас о спасении?
Секретарша. Те, кто слабее своего горя. То есть почти все. С ними мне случалось действовать в согласии, эта была моя форма существования. Сегодня я совершаю над людьми насилие, и все они до последнего вздоха отвергают меня. Вероятно, поэтому я и полюбила того, кого вы приказываете мне убить. Он выбрал меня добровольно. Он меня пожалел на свой лад. Я люблю тех, кто сам назначает мне свидание.
Чума. Поостерегитесь меня раздражать! Мы не нуждаемся в жалости.
Секретарша. Кто же нуждается в жалости, как не те, кто ни в ком не встречает сочувствия! Когда я говорю, что люблю его, это значит – я ему завидую. Для нас, завоевателей, этот убогий вид любви – единственно возможный. Поэтому нас стоит хоть немного пожалеть, и вы отлично это знаете.
Чума. Приказываю вам замолчать!
Секретарша. Вы отлично это знаете! И знаете, что, когда много и долго убиваешь, невольно начинаешь завидовать невинности убитых. Ах, позвольте мне хоть на секунду отбросить надоевшую логику и представить себе, будто я обрела наконец настоящее тело. У меня отвращение к теням. И я завидую этим несчастным, да, да, завидую – всем, даже этой женщине, которая получит жизнь лишь затем, чтобы кричать, как раненый зверь! Она по крайней мере найдет опору в своем страдании.
Диего почти упал. Чума поднимает его.
Чума. Встань, человек! Конец не наступит, если она не совершит того, что положено. А она, как видишь, расчувствовалась. Но не беспокойся! Она сделает свое дело, таковы ее закон и обязанность. Машина слегка заскрипела, вот и все. Пока она совсем не испортилась, радуйся, глупец, я отдаю тебе этот город!
Хор издает возгласы ликования. Чума поворачивается к Хору.
Чума. Да, я ухожу. Но не торжествуйте, я собой доволен. Здесь, как и везде, мы поработали неплохо. Я люблю, когда обо мне много говорят, и знаю, что теперь вы не забудете меня никогда. Взгляните на меня! Взгляните в последний раз на единственную подлинную силу в этом мире! Признайте своего истинного владыку и научитесь бояться! (Смеется.) Раньше вы якобы боялись Бога и посылаемых им случайностей. Но ваш Бог – анархист, он действовал бессистемно. Ему хотелось быть могущественным и добрым одновременно. В этом нет ни логики, ни прямоты. Зато я откровенно выбрал для себя одно могущество. Я выбрал подавление – как видите, это посерьезнее, чем его ад.
Тысячелетиями я устилал трупами ваши поля и города. Мои трупы удобряли пески Ливии и Эфиопии. Моими стараниями земля Персии и поныне тучна от кровавого пота мертвых тел. В Афинах благодаря мне не угасал очистительный огонь, я усеял пляжи сотнями погребальных костров, усыпал греческие моря пеплом человеческих тел, так что волны поседели. Бедные боги, их мутило от отвращения! А когда на смену языческим храмам пришли христианские соборы, мои черные всадники наполнили их воющей людской массой. На пяти континентах из века в век я хладнокровно убивал не покладая рук.
Это, конечно, неплохо, в этом была своя идея. Но идея, так сказать, в зародыше… Мертвец, если хотите знать мое мнение, – это, конечно, приятно, но от него нет никакой пользы. Короче, он не стоит даже раба. Идеал – получить как можно больше рабов с помощью минимума правильно отобранных мертвецов. Сегодня эта техника доведена до совершенства. Уничтожив или сломив нужное количество людей, мы поставим на колени целые народы. Никакая красота, никакое величие не в силах нам противостоять! Мы восторжествуем надо всем!
Секретарша. Надо всем, кроме человеческой гордости.
Чума. Чувство гордости может и притупиться… Человек умнее, чем кажется. (Вдали звучат трубы и слышится шум.) Слышите? Это идут мои благодетели. Возвращаются ваши прежние хозяева, равнодушные к чужим ранам, одуревшие от бездействия и забывчивости. Вы снова изо дня в день будете видеть, как глупость торжествует без борьбы. Жестокость рождает возмущение, а глупость – упадок духа. Слава дуракам, ибо они подготавливают мой приход! Они дают мне силу и надежду! Возможно, настанет такой день, когда всякая жертва покажется вам напрасной и нескончаемый крик вашего гнусного бунта наконец стихнет. В этот день я воцарюсь безраздельно среди навсегда замолчавших рабов. (Смеется.) Нужно лишь терпение, не так ли? Но будьте покойны, у меня низкий лоб упрямца. (Отходит в глубину сцены).
Секретарша. Я старше вас и знаю, что их любовь тоже упряма.
Чума. Любовь? Что это такое? (Уходит.)
Секретарша. Встань, женщина! Я устала. Пора кончать.
Виктория встает. Диего в ту же секунду падает. Секретарша отступает в темноту. Виктория бросается к Диего.
Виктория. Ах, Диего, что ты сделал с нашим счастьем?
Диего. Прощай, Виктория. Я рад.
Виктория. Не говори так, любимый. Это мужские слова, ужасные мужские слова. (Плачет.) Никто не имеет права радоваться смерти.
Диего. Я рад, Виктория. Я сделал то, что должен был сделать.
Виктория. Нет! Ты должен был предпочесть меня самому небу! Между мной и всем миром надо было выбирать меня.
Диего. Я свел счеты со смертью, в этом моя сила. Но эта сила пожирает все, она не оставляет места для счастья.
Виктория. На что мне твоя сила? Я любила в тебе человека.
Диего. Меня иссушила эта борьба. Я больше не человек, и это правильно, что я умираю.
Виктория (бросается к нему). Тогда возьми меня с собой!
Диего. Нет, ты нужна этому миру. Ему нужны наши женщины, чтобы снова научиться жить. А мы никогда ничего не умели, разве что умирать.
Виктория. О, это было бы для тебя слишком просто – молча любить и терпеть все, что выпало на нашу долю! Лучше бы ты продолжал бояться!
Диего (смотрит на Викторию). Я люблю тебя всей душой.
Виктория (кричит). Этого мало! О, этого мало! Что бы я стала делать с одной твоей душой!
Секретарша протягивает руку к Диего. Пантомима агонии. Женщины спешат к Виктории и обступают ее.
Женщины. Горе ему! Горе всем, кто бежит от тепла наших тел! И мука для нас, покинутых, годами нести на своих плечах этот мир, который их гордыня силится переделать. Ах! Если нельзя спасти все, то научимся же спасать хотя бы дом, где живет любовь! Пусть приходит чума или война, мы запрем все двери и вместе с вами, плечом к плечу, будем защищаться до конца. Тогда вместо одинокой смерти, украшенной идеями, начиненной словами, вы встречали бы смерть вместе с нами в неистовом объятии любви! Но для мужчин идея превыше всего! Они покидают мать, отрываются от любимой и бегут неведомо куда, изнемогая от несуществующих ран, зарезанные без кинжала. Охотники за тенями, одинокие певцы под немым небом, вы призываете людей к недостижимому объединению и идете, каждый особняком, к последнему одиночеству, к смерти в пустыне!
Диего умирает.
Женщины причитают. Ветер начинает дуть сильнее.
Секретарша. Не плачьте! Земля мягка для тех, кто ее крепко любил. (Уходит.)
Виктория и женщины уносят Диего. Шум в глубине сцены усиливается. Звучит музыка. На городских укреплениях кричит Нада.
Нада. Вот они! Вот они, прежние, вчерашние, вечные, никуда не ведущие, истуканы, успокоители, любители удобств и лизания пяток – в общем, сама традиция, устоявшаяся, процветающая, свежевыбритая. Вздохнем же с облегчением: можно все начинать сначала! С нуля! Вот они, ловкие портняжки, умеющие кроить из пустоты! Все вы будете одеты по мерке. Но не беспокойтесь, их принцип самый верный. Вместо того чтобы затыкать рты кричащим от горя, они затыкают собственные уши. Мы были немы, теперь будем глухи. (Фанфары.) Смотрите все! Возвращаются творцы истории. Они позаботятся о героях. Отправят их в холодок. Под могильные плиты. Не ропщите: над плитами остается отнюдь не самое избранное общество.
В глубине сцены совершаются какие-то официальные церемонии.
Поглядите-ка! Что бы вы думали, они там делают? Награждают друг друга! Пиршество ненависти продолжается, истощенная земля покрыта лесом виселиц, кровь тех, кого вы именуете праведниками, еще пылает на стенах, а они увешивают себя орденами! Ликуйте, сейчас начнутся торжественные речи награжденных! Но пока они не взошли на трибуну, я хочу коротко сказать свою. Тот, кого я против воли любил, умер напрасно!
Рыбак бросается на Наду. Стража останавливает его.
Видишь, рыбак, правительства приходят и уходят, а полиция остается. Есть в мире справедливость!
Хор. Нет, справедливости нет, есть пределы. И те, кто якобы не ограничивает нас ни в чем, как и те, кто для всего устанавливает ограничения, одинаково переходят пределы. Распахните же ворота, пусть соленый ветер очистит наш город!
Ворота распахиваются. Ветер дует все сильней и сильней.
Нада. Справедливость есть, та, что вызывает у меня отвращение. Да, вы начнете все сначала. Но это меня уже не касается. Не рассчитывайте на меня в качестве идеального виновника. Я не мастер постных мин. О старый мир, пора уходить, твои палачи устали, их ненависть остыла. Я знаю слишком много, даже презрение уже отжило свой век. Прощайте, добрые люди, когда-нибудь вы поймете, что нельзя хорошо жить, чувствуя, что человек – ничто, а божий лик ужасен.
Под порывы штормового ветра Нада бежит по молу и бросается в море. Рыбак бежит за ним.
Рыбак. Упал! Разъяренные волны бьют его и душат своими гривами. Его лживый рот заполняется солью, голос его скоро наконец умолкнет совсем. Взгляните, бушующее море окрасилось в цвет анемон. Оно мстит за нас. Его гнев – это наш гнев. Оно трубит сбор всех людей моря, сбор всех одиноких. О вода, о море, отечество повстанцев, вот твой народ, и он никогда не отступит. Высокий вал, рожденный горечью вод, унесет навеки ваши страшные города.
Занавес
Праведники[7]7
© Перевод Ю. Гинзбург.
[Закрыть]
Пьеса в пяти действиях
Действующие лица
Дора Дулебова
Великая княгиня
Иван Каляев
Степан Федоров
Борис Анненков
Алексей Воинов
Скуратов
Фока
Надзиратель
Действие первое
Конспиративная квартира террористов. Утро.
Занавес поднимается при полном молчании. На сцене Дора и Анненков. Они неподвижны. В дверь звонят один раз. Анненков жестом останавливает Дору, которая как будто хочет что-то сказать. Раздаются два звонка, один за другим.
Анненков. Это он.
Уходит. Дора ждет, по-прежнему не двигаясь с места. Анненков возвращается со Степаном, обнимая его за плечи.
Это он! Вот и Степан.
Дора (подходит к Степану и берет его за руку). Какое счастье, Степан!
Степан. Здравствуй, Дора.
Дора (глядя на него). Три года прошло.
Степан. Да, три года. В тот день, когда меня арестовали, я шел к вам.
Дора. Мы тебя ждали. Время тянулось, и сердце у меня сжималось все сильнее. Мы боялись взглянуть друг на друга.
Анненков. Пришлось снова менять явку.
Степан. Я знаю.
Дора. А как там, Степан?
Степан. Там?
Дора. На каторге?
Степан. Оттуда можно бежать.
Анненков. Да. Мы радовались, что тебе удалось добраться до Швейцарии.
Степан. Швейцария – это тоже каторга, Боря.
Анненков. Почему? Там-то, по крайней мере, люди свободны.
Степан. Свобода – это каторга до тех пор, пока хоть один человек на земле остается рабом. Я был свободен, но все время думал о России, о ее рабах.
Пауза.
Анненков. Я очень рад, Степан, что партия послала тебя сюда.
Степан. Так надо было. Я задыхался. И вот наконец я могу действовать!.. (Смотрит на Анненкова.) Мы его убьем, правда?
Анненков. Я в этом уверен.
Степан. Мы убьем этого палача. Ты – командир, Боря, и я буду тебе подчиняться.
Анненков. Я не требую от тебя таких обещаний, Степан. Мы здесь все братья.
Степан. Нужна дисциплина. Я это понял на каторге. Партия социалистов-революционеров нуждается в дисциплине. Научившись дисциплине, мы убьем великого князя и свергнем тиранию.
Дора (подходя к нему). Присядь, Степан. Ты, наверно, устал после долгой дороги.
Степан. Я никогда не устаю.
Пауза. Дора садится.
Степан. Все готово, Боря?
Анненков (другим тоном). Уже месяц двое наших следят за передвижениями великого князя. Дора собрала все необходимое.
Степан. Прокламация написана?
Анненков. Да. Вся Россия будет знать, что великий князь казнен при взрыве бомбы боевой организацией партии социалистов-революционеров, чтобы ускорить освобождение русского народа. Императорский двор также узнает, что мы решили осуществлять террор, пока земля не будет отдана народу. Да, да, Степан, все готово! Час близится.
Степан. Что я должен делать?
Анненков. Для начала помогай Доре. Ты заменишь Швейцера, который с ней работал.
Степан. Он погиб?
Анненков. Да.
Степан. Как?
Дора. Несчастный случай.
Степан смотрит на Дору. Она отводит глаза.
Степан. А потом?
Анненков. А потом посмотрим. Ты должен быть готов нас заменить в случае провала и поддерживать связь с Центральным комитетом.
Степан. А кто наши товарищи?
Анненков. С Воиновым ты встречался в Швейцарии. Я ему доверяю, хотя он еще очень молод. Янека ты не знаешь.
Степан. Янек?
Анненков. Каляев. Еще мы его называем Поэтом.
Степан. Это не имя для террориста.
Анненков (смеясь). Янек противоположного мнения. Он говорит, что поэзия – революционерка.
Степан. Революционерка одна бомба. (Пауза.) Дора, как ты думаешь, я сумею тебе помогать?
Дора. Да. Надо только быть осторожным, чтобы не разбить трубку.
Степан. А если она разобьется?
Дора. Так погиб Швейцер. (Пауза.) Почему ты улыбаешься. Степан?
Степан. Я улыбаюсь?
Дора. Да.
Степан. Со мной такое иногда бывает. (Пауза. Степан как будто задумался.) Дора, одной бомбы хватит, чтобы взорвать этот дом?
Дора. Одной – нет. Но повредить его она может.
Степан. А сколько нужно, чтобы взорвать Москву?
Анненков. Ты сошел с ума! Что ты имеешь в виду?
Степан. Ничего.
Звонят один раз. Они ждут, прислушиваясь. Звонят два раза. Анненков выходит в переднюю и возвращается с Воиновым.
Воинов. Степан!
Степан. Здравствуй.
Они пожимают друг другу руки. Воинов подходит к Доре и целует ее.
Анненков. Все прошло хорошо, Алексей?
Воинов. Да.
Анненков. Ты изучил дорогу от дворца до театра?
Воинов. Теперь я могу ее нарисовать. Смотри. (Рисует.) Повороты, узкие улицы, заторы… Карета проедет под нашими окнами.
Анненков. А что означают эти два крестика?
Воинов. Вот тут лошади замедлят шаг, а это театр, где они остановятся. По-моему, это самые удобные места.
Анненков. Дай-ка!
Степан. А шпики?
Воинов (помедлив). Их там много.
Степан. Тебя это тревожит?
Воинов. Мне не по себе.
Анненков. С ними всем не по себе. Не терзайся.
Воинов. Я ничего не боюсь. Просто я не люблю лгать, вот и все.
Степан. Лгут все. Лгать умело – вот что от нас требуется.
Воинов. Это нелегко. Когда я был студентом, приятели надо мной смеялись, потому что я не умел притворяться. Я говорил то, что думал. В конце концов меня отчислили из университета.
Степан. За что?
Воинов. На занятиях по истории профессор меня спросил, как Петр Великий воздвиг Санкт-Петербург.
Степан. Хороший вопрос.
Воинов. Я ответил – кнутом и кровью. И меня выгнали.
Степан. А потом?
Воинов. Я понял, что мало разоблачать несправедливость. Надо отдать жизнь на борьбу с ней. И теперь я счастлив.
Степан. Но ты все-таки лжешь?
Воинов. Я лгу. Но я перестану лгать в тот день, когда брошу бомбу.
Звонят – два раза, потом один. Дора бросается к двери.
Анненков. Это Янек.
Степан. Звонок не тот.
Анненков. Янеку нравится его менять. У него свой звонок.
Степан пожимает плечами. Слышно, как Дора с кем-то говорит в передней. Входят Дора и Каляев, держась за руки. Каляев смеется.
Дора. Янек, это Степан. Он заменит Швейцера.
Каляев. Добро пожаловать, брат.
Степан. Спасибо.
Дора и Каляев усаживаются лицом к остальным.
Анненков. Янек, ты уверен, что узнаешь карету?
Каляев. Да, у меня дважды была возможность насмотреться на нее вволю. Я ее узнаю из тысячи, как только она появится на горизонте! Я все разглядел до мелочей. Вот, к примеру, на одном из стекол левого фонаря есть щербинка.
Воинов. А шпики?
Каляев. Их тучи. Но мы с ними старые друзья. Они покупают у меня папиросы. (Смеется.)
Анненков. Павел подтвердил свои сообщения?
Каляев. На этой неделе великий князь поедет в театр. С минуты на минуту Павел узнает точный день и передаст записку привратнику. (Оборачивается к Доре, смеясь.) Нам повезло, Дора.
Дора (глядя на него). Ты больше не лоточник? Теперь ты аристократ. Ты так прекрасен. Ты не жалеешь о своем тулупе?
Каляев (смеясь). Правда, я им очень гордился. (Степану и Анненкову.) Два месяца подряд я наблюдал лоточников, а потом больше месяца репетировал у себя в комнате. Мои коллеги ни разу ничего не заподозрили. Они про меня говорили: «Бойкий малый, царских коней продаст». И они сами старались мне подражать.
Дора. Ты, конечно, смеялся.
Каляев. Ты же знаешь, я не могу удержаться. Переодевание, незнакомая жизнь… Мне все было интересно.
Дора. А я не люблю переодеваний. (Теребя на себе платье.) Да еще этот роскошный туалет! Боря мог бы найти мне что-нибудь другое. Я как актриса! А у меня душа простая.
Каляев (смеется). Ты такая красивая в этом платье.
Дора. Красивая! Я бы хотела быть красивой. Но об этом не надо думать.
Каляев. Почему? У тебя всегда грустные глаза, Дора. А нужно быть веселой, гордой. Красота существует, радость существует… «Тот безмятежный край, где сердце тебя звало…»
Дора (улыбаясь). «Где лето вечное царит…»
Каляев. О! Дора, ты помнишь эти стихи. Ты улыбаешься? Я так счастлив…
Степан (обрывая его). Мы теряем время. Боря, наверно, надо предупредить привратника?
Каляев смотрит на него с удивлением.
Анненков. Да. Дора, будь добра, спустись. И не забудь чаевые. А потом Воинов поможет тебе снести весь материал в комнату.
Они выходят в разные двери. Степан решительным шагом направляется к Анненкову.
Степан. Я хочу бросить бомбу.
Анненков. Нет, Степан. Участники уже назначены.
Степан. Прошу тебя. Ты знаешь, что это для меня значит.
Анненков. Нет. Правило есть правило. (Пауза.) Я сам не бросаю бомбу и буду ждать здесь. Правила суровы.
Степан. Кто бросит первую бомбу?
Каляев. Я. А Воинов вторую.
Степан. Ты?
Каляев. Тебя это удивляет? Значит, ты мне не доверяешь!
Степан. Нужен опыт.
Каляев. Опыт? Ты отлично знаешь, что бомбу бросают только один раз, а потом… Никто не бросал ее дважды.
Степан. Нужна твердая рука.
Каляев (протягивая к нему руку). Смотри. Разве она дрогнет?
Степан отворачивается.
Каляев. Она не дрогнет. Как? Тиран окажется передо мной, а я стану колебаться? Как ты можешь так думать? Даже если моя рука дрогнет, я знаю верное средство убить великого князя.
Анненков. Какое?
Каляев. Броситься под копыта его лошадей.
Степан пожимает плечами и усаживается в глубине сцены.
Анненков. Нет, этого не требуется. Надо будет попытаться бежать. Ты нужен организации, ты должен беречь себя.
Каляев. Я подчиняюсь, Боря! Какая честь, какая честь для меня! О, я буду ее достоин.
Анненков. Степан, ты останешься на улице, пока Янек и Воинов будут подстерегать карету. Ты будешь время от времени проходить под нашими окнами, мы условимся о знаке. Мы с Дорой будем ждать здесь той минуты, когда надо будет разбрасывать прокламацию. Если нам хоть немного повезет, великий князь будет убит.
Каляев (восторженно). Да, я убью его! Какое счастье, если все пройдет удачно! Великий князь – это пустяки. Надо метить выше!
Анненков. Для начала – великий князь.
Каляев. А если не получится, Боря? Знаешь, тогда надо поступать, как японцы.
Анненков. Что ты хочешь сказать?
Каляев. Во время войны японцы не сдавались в плен. Они кончали с собой.
Анненков. Нет. Не думай о самоубийстве.
Каляев. О чем же думать?
Анненков. О том, чтобы снова браться за террор.
Степан (говорит со своего места в глубине сцены). Чтобы кончать с собой, надо очень себя любить. Настоящий революционер не может любить себя.
Каляев (резко оборачиваясь). Настоящий революционер? Почему ты так ко мне относишься? Что я тебе сделал?
Степан. Я не люблю тех, кто приходит в революцию от скуки.
Анненков. Степан!
Степан (встает и идет к ним). Да, я груб. Но для меня ненависть – не игра. Мы здесь не для того, чтобы любоваться друг другом. Мы здесь для того, чтобы сделать дело.
Каляев (мягко). Почему ты меня оскорбляешь? Откуда ты взял, что мне скучно?
Степан. Не знаю. Ты меняешь условные знаки, тебе нравится играть роль лоточника, ты читаешь стихи, хочешь броситься под ноги лошадям, а вот теперь – самоубийство… (Смотрит на него.) Я тебе не доверяю.
Каляев (сдерживая себя). Ты ведь не знаешь меня, брат. Я люблю жизнь. Мне не скучно. Я пришел в революцию потому, что люблю жизнь.
Степан. Я люблю не жизнь, а справедливость, которая выше жизни.
Каляев (с видимым усилием). Каждый служит справедливости как может. Мы разные, это надо принять. Мы должны любить друг друга, если можем.
Степан. Нет, не можем.
Каляев (взрываясь). Тогда зачем ты с нами?
Степан. Я приехал убивать людей, а не любить их или уважать их отличия от меня.
Каляев (яростно). Ты не убьешь человека в одиночку и без цели. Ты убьешь его вместе с нами и во имя русского народа. Вот в чем твое оправдание.
Степан (тем же тоном). Я в нем не нуждаюсь. Я был оправдан раз и навсегда однажды ночью, три года назад, на каторге. И я не потерплю…
Анненков. Довольно! Вы сошли с ума? Вы помните, кто мы такие? Мы братья, мы крепко спаяны, все наши помыслы – о казни тиранов ради освобождения родины! Мы убиваем вместе, и ничто не может нас разъединить. (Молчание. Он смотрит на них.) Пойдем, Степан, надо договориться об условных знаках…
Степан уходит.
Анненков (Каляеву). Не обращай внимания. Степан настрадался. Я с ним поговорю.
Каляев (очень побледневший). Он меня оскорбил, Боря.
Входит Дора.
Дора (увидев Каляева). Что случилось?
Анненков. Ничего.
Уходит.
Дора (Каляеву). Что случилось?
Каляев. У нас сразу же была стычка. Он меня не любит.
Дора молча садится. Пауза.
Дора. Я думаю, он никого не любит. Когда все кончится, ему будет легче. Не надо грустить.
Каляев. Мне грустно. Мне нужно, чтобы вы все меня любили. Я все бросил для нашей Организации. Разве можно вынести, что мои братья отворачиваются от меня? Иногда мне кажется, что они меня не понимают. Это моя вина? Я неловок, я знаю…
Дора. Они тебя любят и понимают. Степан – другой человек.
Каляев. Нет. Я знаю, о чем он думает. Это и Швейцер уже говорил: «Слишком особенный для революционера». Я так хотел бы им объяснить, что я вовсе не особенный. Им кажется, что я сумасбродный, взбалмошный. Но я так же, как они, верю в идею, как они, я готов принести себя в жертву. И я тоже могу быть сдержанным и скрытным, и делать дело. Просто мне жизнь все еще кажется чудесной. Я люблю красоту и радость! Поэтому я и ненавижу деспотизм. Как им объяснить? Ну конечно, революция! Но революция ради жизни, ради того, чтобы помочь жизни, ты понимаешь?
Дора (порывисто). Да… (Помолчав, тихо.) И все-таки мы собираемся убивать.
Каляев. Кто, мы?.. А, ты имеешь в виду… Это другое. Нет, это совсем другое! И потом, мы ведь убиваем, чтобы построить такой мир, где никто больше не будет убивать! Мы готовы стать преступниками, чтобы землю наконец заселили безвинные.
Дора. А если выйдет не так?
Каляев. Замолчи, ты же знаешь, что это невозможно. Тогда Степан оказался бы прав. И надо было бы плюнуть в лицо красоте.
Дора. Я в Организации дольше, чем ты. Я знаю, что все не так просто. Но у тебя есть вера… Вера нам всем нужна.
Каляев. Вера? Нет. Веру имел только один.
Дора. У тебя есть сила духа. Ты все отбросишь, чтобы дойти до цели. Почему ты попросился бросить бомбу первым?
Каляев. Разве можно говорить о терроре, не участвуя в нем?
Дора. Нет.
Каляев. Надо быть на передней линии.
Дора (задумавшись). Да. Есть передняя линия, и есть последний миг. Мы должны об этом думать. Там понадобятся и мужество, и пылкость, которые требуются от нас… от тебя.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.