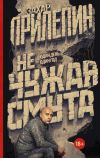Текст книги "Непереводимая игра слов"
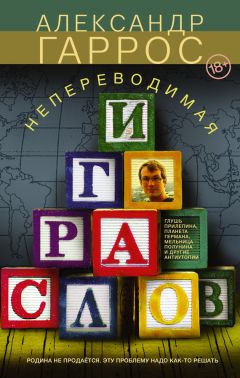
Автор книги: Александр Гаррос
Жанр: Публицистика: прочее, Публицистика
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 24 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Очередь подходит, и Прилепин – не самый большой полиглот – заказывает барменше виски: «Дабл-дабл!». Помявшись, она приносит стакан с двумя двадцатиграммовыми дринками. Прилепин обреченно вздыхает и, глядя на нее ласковыми прозрачными глазами берсерка, уточняет заказ: «Ноу. Дабл-дабл-дабл-дабл!» – а я думаю невпопад, что все-таки Прилепин наверняка проецирует на тогдашнего себя свои нынешние ощущения, что трудно было в шестнадцать лет совсем уж не подпасть под обаяние какой-никакой революции, под гипноз наглядно обретшей пластичность Истории. Впрочем, я не бродил тогда по московским улицам: я аккурат с девятнадцатого по двадцать первое ехал в автобусе из Риги в Данию по школьному обмену и, забираясь в автобус, услышал от родителей одноклассников, что «в Москве путч», а выбравшись из автобуса, узнал от встречающих датчан, что «в Москве победила демократия». В том же автобусе ехал мой одноклассник Леша Евдокимов, с которым мы годы спустя написали на пару несколько книжек, а сейчас он уже соло пишет остросоциальные романы, и последний опубликованный был про путинские нулевые, а новый, еще недописанный, – про отношения с советскими восьмидесятыми; опять та же значимая щель, в которую ухает, не зацепившись, год-91, – и, конечно, я и Евдокимову задаю свой вопрос.
«– Культурного эха у девяносто первого нет, как мне представляется, по причинам объективным и субъективным, причем прямо между собой связанным, – говорит он мне. – Объективное обстоятельство: для появления художественно состоятельных вещей нужна разница потенциалов, напряжение между полюсами. В семнадцатом году была ощутима разница между торжеством хаоса и зверства – и совершенно искренними надеждами очень многих на построение справедливого, прежде небывалого общества. Между реальной кровью, разрухой и ужасом – и ожиданием Царства Божия в новой редакции…
– А в девяносто первом эта разница, – уточняю я, – полагаешь, отсутствовала?
– Полагаю, да. В девяносто первом никакого драматического противоречия не было. А было – в чем я совершенно уверен – чистое торжество энтропии, обрушение конструкции. Вместо справедливого общества и Царства Божия в девяносто первом была равно разделяемая номенклатурой, интеллигенцией и народом мечта Мальчиша-Плохиша о бочке варенья и корзине печенья. Только номенклатура целенаправленно ее осуществила, окончательно развалив государство; интеллигенция обеспечила процесс идеологически, объяснив народу, что это делается для того, чтобы он, народ, зажил, как в Америке, в белом «Линкольне» на берегу собственного бассейна с ликером «Амаретто» во рту; а народ радостно купился… Впоследствии никому – и в особенности интеллигенции, отвечающей за художественную рефлексию, – вспоминать о произошедшем не хотелось. Это субъективная составляющая. Не говоря уже о том, что именно тогда, в девяносто первом, интеллигенция и перестала быть интеллигенцией, то есть группой, отвечающей за сохранение в обществе представлений о непрагматических ценностях. Надо сказать, она не всегда лицемерила – многие тогда, в преддверии и во время гайдаровских реформ, действительно верили в то, что любые идеалы помимо чемодана у.е. – это коммунистическое вранье, что богатый всегда прав и что нерентабельная наука и неконвертируемое в быструю прибыль искусство должны издохнуть как неконкурентоспособное наследие Совка. Это самое неконвертируемое искусство и впрямь тогда практически издохло, а интеллигенция занялась изданием глянцевой периодики и конферансом на бандитских фуршетах.
– И что из этого следует? Следует ли, к примеру, ностальгия по советскому проекту, которая сейчас, похоже, в моде у интеллектуалов?
– Знаешь, я же неплохо помню, что представлял собой Совок на практике, и ни тени ностальгии не ощущаю. Просто помимо плана бытового, на котором всё было весьма по-скотски, он обладал планом идеальным, что позволяло искренне писать и читать утопии типа стругацкого «Мира Полудня». Этот идеальный план деградировал долго и в конце концов исчез еще до девяносто первого – просто в девяносто первом мы окончательно избавились от необходимости делать вид, что он существует. Но если я и вижу повод для художественного, так сказать, осмысления – то в самом процессе, а не в обстоятельствах его завершения. Неинтересно писать про девяносто первый. Противно и стыдно».
С тем, что в девяносто первом драматического зазора между упованиями и реальностью не было, наверняка многие захотят поспорить. Да и самому мне кажется, что он все-таки был – только схлопнулся исключительно быстро и жестко. И вот именно в этом схлопывании, в его скорости и безапелляционности, в том, как покорно оно было съедено и переварено, и есть, я полагаю, ответ на вопрос, почему про 1991-й не пишут романов и не снимают кино.
Штука в том, что Россия – это, натурально, failed state, «несостоявшееся государство». Звучит оскорбительно: обычно этот лейбл пришпиливается к каким-нибудь вольноотпущенным колониям, так и не сумевшим обзавестись полновесной державностью и скатившимся в трайбализм и гражданскую войну. Но ведь и речь о той России, которая брезжила (пусть идеалистически и наивно, пусть нечетко и противоречиво) в головах тысяч людей, приходивших двадцать лет назад к Белому дому, и миллионов, переживавших происходящее дистанционно. О России как утопии. О России как по-настоящему новом, с чистого листа, проекте. Вот эта Россия – она действительно failed. Она не состоялась и не случилась, она не состоится и не случится уже никогда.
Мало найдется охотников вспоминать и творчески осмысливать ситуацию, в которой ты выглядишь, во-первых, наивным идиотом, во-вторых, слюнтяем, в-третьих, предателем (как минимум самого себя). А примерно в такой ситуации часть общества, «отвечающая за художественную рефлексию», и оказалась в девяносто первом и сразу после. Это неприятно, это фрустрирует, это хочется забыть, вытеснить на периферию сознания. Какие уж тут романы. Воспоминание о том, как ураганили в зрелые девяностые или пилили в сытые нулевые, куда комфортнее: ухарское ли и гусарское, злое ли и трезвое – оно спасительно цинично, оно лишено стыдного, жалкого, лоховского привкуса обмана и самообмана. А что failed – то failed, шалтая-болтая не соберешь заново, нечего тут вспоминать, и осмысливать нечего.
Только ведь и это еще не всё, думаю я, бродя по Лондону, в который чуть сюрреалистическим образом временно инсталлировано немного московской матрицы – то редактор «тех самых «Итогов»» Сергей Пархоменко ловит кэб на углу у Гайд-парка, то автор мегабестселлеров Борис Акунин прогуливается вдоль Темзы, то живой классик Владимир Маканин сидит в пабе над полпинтой «Гиннесса», и от Людмилы Улицкой до Полины Дашковой – ровно два перекрестка; да ладно гости-сочинители – не в этом ли городе справлял только что юбилей архитектор перестройки М. С. Горбачев, не в нем ли равно квартируют опальный демиург новой России Березовский и лояльный демиург Абрамович, лишившийся бизнеса Чичваркин и не вполне лишившиеся его Лужков с Батуриной, плюс тысячи и тысячи русских демиургов, падших ангелов, штатных демонов и мелких бесов всевозможного пошиба?.. Это еще не всё, думаю я, потому что невелика сама по себе беда – если виртуальный проект новой России, грубо сводимый к сомнительной идее инсталлировать условно лондонскую (нью-йоркскую, парижскую) матрицу в Москву, двадцать лет назад распался на пиксели от лобового столкновения с реальностью. Невелика беда, если бы за эти два десятилетия ему на смену явились другие проекты, другие видения будущего, способные всерьез оккупировать мозги и души – и начать форматировать реальность под себя. Но в том-то и беда, что больше никаких проектов и видений не явилось – одни только мыльные пузыри и пиар-фантомы, в настоящесть и серьезность которых ни на секунду не верят даже те, кто их выдувает и генерирует.
Неизжитый «комплекс-91» потому и не изжит, что до сих пор нечем провести замещающую терапию. Про 1991 год действительно стыдно писать романы и снимать кино, потому что по-прежнему нечему занять место давно просроченного стыда.
Когдатошний «год обмана» сделался самовоспроизводящимся генетическим кодом, и искусство, хитрый диагност, двадцатилетним своим молчанием говорит с нами про эту дурную наследственную болезнь.
Чем Гитлер хуже Сталина?
Проклятие эффективности: как работает русская матрица (2010)
Самая сокрушительная война XX века, ставшая самой крупной катастрофой за всю историю человечества, была войной двух тоталитарных империй, похожих друг на друга, как родные братья. От пропаганды до эстетики, от чудовищной практики концлагерей и массовых репрессий до богоподобного статуса тиранов – по внешним признакам две системы были практически неотличимы. Как же получается, что десятилетия спустя глава одного из этих государств – общепризнанный преступник и массовый убийца, другой же для миллионов людей всё еще если не мудрый вождь, то «эффективный менеджер» и без пяти минут «имя России»? Сможем ли мы когда-нибудь что-то с этим сделать?
Осень 2007-го, Западная Украина, Закарпатье. Я еду из депрессивного Мукачева в депрессивный Рахив на раздолбанной «двадцатьчетверке». За рулем мукачевский пасечник, угрюмый, вислоусый, тощий, словно скрученный из серых обтрепанных веревок мужик. В Мукачеве я, кинув у него дома рюкзак (надо было дождаться, пока «Волгу» загрузят медом), час болтался по городу, всё более уверенно прощаясь с оставленным в рюкзаке ноутбуком. Через час рюкзак с ноутбуком оказался на месте, багажник «Волги» еще заполнялся янтарными банками, а меня сводило от приступов острого, как перитонит, стыда и неопределимой тоски: пасечник дал мне полистать старый, еще шестидесятых, фотоальбом. На снимках был неузнаваемый, но несомненный он – сотрудник НИИ, мускулистый, голый по пояс советский полубог; улыбаясь победительно, как Шон Коннери, он позировал на горных лыжах, а на нем висли загорелые – видно даже сквозь черно-белое зерно – нимфы с фигурами порнозвезд.
Мы едем молча – я, пасечник и его мама, женщина уж точно за сто, с чертами и достоинством мумии египетской царицы. Поздний вечер 31 октября, Хэллоуин. В темноте за окном «Волги» изредка багровеют тусклые кострища: на кладбищах горят свечи. Выйди сейчас из-за поворота зомби, не удивится никто. Трансильвания лежит вокруг, беспокоя ознобными мурашками вампирских легенд.
Внезапно я вздрагиваю – пасечник нарушает молчание: «А вот здесь у нас географический центр Европы».
За центром Европы садится попутчица. Она компенсирует наше долгое молчание, говоря непрерывно и за всех на дивном наваристом суржике: в смеси русского и украинского плавают венгерские и румынские шматки. «Вот я вчера ходила в Румынию, так там же пенсии ж повысили…» – начинает она. Или: «Вот я вчера ходила в Венгрию…»; с пятачка вокруг хэллоуиновского центра Европы в Венгрию или Румынию действительно можно сходить пешком. Заканчивается каждая история одинаковым рефреном: «Ох, мой бедный, бедный народ!». Скоро оказывается, что попутчица успела побывать и в Китае; неужто вчера ходила?! – нет, летала по челночным делам. Видела мавзолей Мао Цзэдуна. «Из хрусталя зроблен», – констатирует попутчица.
С мавзолея Мао монолог переключается на Сталина. «Вин великий чоловик, – говорит попутчица веско. – Вин импэрию зробил».
И тут пасечник-водитель, чей божественный расцвет пришелся на отринувшие Сталина шестидесятые, и его видавшая проклятый царизм, польскую вильность и бог еще знает что мама впервые синхронно и опять-таки веско кивают.
За поворотом вырастает красный свечной сполох, гравий, стучащий по днищу «Волги», выдает грозное барабанное тремоло. Я испытываю пронзительное ощущение недоброй колдовской силы момента: Ночь Всех Святых и час живых мертвецов, кладбища, подсвеченные красным, глухой и нищий центр Европы, точка лобового столкновения этносов, государств, красных стрел на штабных картах, до Румынии, Венгрии, Словакии – дистанция пешеходной прогулки, опустившийся, несбывшийся советский бог горбится за рулем своей медовой колесницы-развалюхи – и надо всем этим вдруг ощутимо встает (откуда, как?) плотный призрак Генералиссимуса. Умершего больше полусотни лет назад чоловика, зробившего импэрию, мертвую уже два десятка лет.
* * *
С тех пор я вспоминал эту историю многажды – и чем ближе к сегодняшнему дню, тем чаще возникали поводы: то газетный спор, то телевизионное ток-шоу, то Сталина выдвинут на конкурс «Имя Россия» (и только продюсерские уловки позволят заменить во всенародном телешоу Иосифа Виссарионовича на политкорректного Александра Невского), то на станции московского метро восстановят историческое посвящение вождю, то столичная мэрия вознамерится использовать лик Генералиссимуса в плакатах по случаю 65-летия Победы, то на очередном форуме возникнет ожесточенная баталия вокруг вождей Рейха и СССР. И когда на сайте проекта «Сноб» состоялась дискуссия на тему «Чем Сталин отличается от Гитлера?» – я тоже первым делом вспомнил это: фантомное Закарпатье, тускло озаренное кладбищенскими свечами Никогде (как назвал бы это дока по страшным сказкам Нил Гейман), стук гравия и «вин импэрию зробил».
Чем Гитлер отличается от Сталина – хороший вопрос. Если набрать «Гитлер Сталин» в русской поисковой системе «Яндекс», результат будет – три миллиона ссылок. Если распечатать и прибавить все книги и статьи, посвященные сравнению вождей, можно несколько раз опоясать Землю или протянуть мостик до Луны. Это бесконечный пазл, который можно три миллиона раз собирать заново, тасуя банальности и апокрифы, отыскивая в любом сходстве различие и обнаруживая во всяком различии тождество.
Сталин – сын сапожника из грузинского Гори, неудачливый семинарист, с малых лет ушедший в революцию, мотавший срок на каторге и грабивший для революционной кассы банки; Гитлер – сын мелкого таможенника (а впрочем, отец сначала тоже был сапожником) из австрийского Браунау, косивший от призыва, а потом добровольцем пошедший на фронт. Сталин в юности писал стихи (плохие), а молодой Гитлер пытался стать художником (ему недурно удавались пейзажи альпийских долин и архитектурные зарисовки, а вот портрет не получался совсем; на экзаменах в Венскую академию художеств его завернули, посоветовав переквалифицироваться в архитекторы; он и последовал совету, в каком-то смысле – стал архитектором нового мира, ну и фантазии Шпеера весьма привечал). Гитлер любил Вагнера, а Сталин мог декламировать наизусть рассказы Чехова; впрочем, оба много читали. Сталин благосклонно относился к воплощениям своего образа в кинематографе, а Гитлер запретил себя играть; оба, однако, ценили кино.
Гитлер брал уроки у актеров и был блестящим публичным оратором, мастером заводить стадионные аудитории, Сталин предпочитал драматургов и общение с глазу на глаз, умея очаровать визави, даже если это Герберт Уэллс; впрочем, Гитлер магнетически действовал на собеседников в частной беседе, а речи Сталина, косноязычные, основанные (считают специалисты) на примитивных тавтологиях, оказывали сокрушительное воздействие на умнейших людей эпохи даже через трескучие радиодинамики. Гитлер любил военную форму, и Сталин тоже (френч). Сталин возглавлял самую атеистическую державу мира, а Гитлер не раз расписывался в приверженности к христианству; впрочем, Сталин явно вынес из семинарии привязанность к библейской форме, если не сути, а Гитлер попов презирал и планировал в Тысячелетнем Рейхе полностью заменить старую церковь новой, основанной на германской мифологии и его личных откровениях.
Гитлер благоговел перед оккультным знанием («Нацизм есть магия плюс танковые дивизии», – отчеканили Бержье и Повель), внимал Хаусхоферу и Зеботтендорфу, структурировал СС по принципу тайного ордена, а Сталин к тайноведению был демонстративно равнодушен, эзотериков сгноил в лагерях; впрочем, любой заштатный конспиролог вывалит на вас груду легенд о том, что Сталин был учеником Гурджиева, и Зеботтендорф с Хаусхофером тоже ходили в подмастерьях армянского мага, так что у обеих тоталитарных империй XX века общий оккультный генезис. У Сталина были усы, и у Гитлера были усы; но фасон у них разный (и это от участников дискуссии в «Снобе» не ускользнуло, да).
И так далее. Можно до бесконечности.
* * *
Разумеется, на деле вопрос «Чем Сталин отличается от Гитлера?» лишь корректно-эвфемистичная форма другого вопроса: можем ли мы уверенно и однозначно сказать, что вождь СССР Иосиф Виссарионович Сталин – такой же кровавый тиран, что и вождь германского Рейха Адольф Алоизович Гитлер, признанный тираном и убийцей как в зале суда, так и судом общества? Да или нет?
Короткий ответ «да, конечно», принятый западным массовым сознанием (на мелкие статистические погрешности в лице неонацистов или узкоспециализированных историков можно закрыть глаза), в России и вообще экс-Союзе прямого эффекта не имеет. Иначе откуда бы все эти телевизионные пережевывания, газетные схватки, форумные баталии, все эти люди, сходящиеся стенка на стенку по поводу того, можно ли считать Иосифа Виссарионовича «эффективным менеджером».
Среди причин этого есть более явные, а есть – менее, хотя утешительной нет ни одной.
Вот довольно явная: спокойное, само собой разумеющееся «да, конечно» возможно, когда ответ этот – стабильная данность на уровне главки в школьном учебнике; когда вопрос и не предполагает реальной рефлексии, не стоит в актуальной повестке дня. Если стоит и предполагает – всё сразу становится не так просто не только в вопросе сопоставления фюрера и вождя, но и с каждым из них в отдельности. И здесь русская либеральная публицистика, да и вообще отечественный либеральный дискурс, демонстрируют характерную слабость. Один вариант – сказать «монстры», «маньяки», «исчадия ада», приравнивая Адольфа или Иосифа к Чикатило или Джеку-Потрошителю. Другой – сказать «ничтожества», как это сделал замечательный писатель Аксенов еще тридцать лет назад в замечательном романе «Остров Крым»: там у него протагонист Андрей Лучников как раз и сочиняет журналистский мегахит «Ничтожество» к юбилею Сталина, раскрывая глубочайшую бездарность вождя, а заодно и фюрера («пока двое слабоумных душили друг друга…»). Сталин и Гитлер, по Аксенову, – ничтожества, агрессивные и узколобые паразиты, выброшенные наверх социобиологическим взрывом, омерзительный результат отрицательной селекции.
Неубедительно, увы, и то и другое. Маньяк, руководимый фазами луны и собственной сексуальной неполноценностью, может разобрать на запчасти полсотни человек – но едва ли в состоянии построить и контролировать машину угнетения и подавления имперских масштабов; тут нужны воля и талант незаурядного манипулятора. Ничтожество может убить или запугать даже и многих – но едва ли в состоянии создать и эксплуатировать систему, с помощью смерти и страха реализующую глобальные задачи; тут требуются терпение и дар холодного игрока.
Сводить Гитлера к персонажу чаплинского «Великого диктатора», а Сталина – к образу по-горски мстительного гопника, есть глупость – простительная, пока работает логика войны (а шестидесятники, в сущности, и воевали со сталинской, «ретростремительной» тенденцией в СССР); пока высмеять и унизить врага и тем нанести ему урон – важнее всего прочего. (Оба вождя, к слову, неплохо это сознавали и хорошо умели, судя по их пропаганде.) Но логика войны не работает, когда требуется уже не унижать и высмеивать, а – понимать.
* * *
Пытаясь понять, приходишь к тому, например, что пугающее сходство Сталина и Гитлера, а также выстроенных ими тоталитаризмов – еще и следствие того, что у вождей были схожие амплуа в одной и той же общемировой постановке. Что это за постановка, удачно определил писатель и художник Кантор: обе мировые войны и период между ними, заметил он, – это растянутое на десятилетия кровавое состязание между разными формами народовластия с целью выявления наиболее эффективной.
Откуда «народовластие» – понятно: не о власти народов речь, но о новых формах власти над народами.
Эти новые формы потребовались – и тут придется повторить банальную, но важную вещь – уже потому, что промышленные и социокультурные революции вбросили огромные массы людей в поле активной жизни государств. Это были люди, доселе в созидании истории не участвовавшие. Требовалось найти им место (потом оказалось, что для этого придется половину их убить). Требовались способы манипуляции этими людьми. Требовалась новая элита, способная ими править, – больше того, нужен был механизм ее ротации и пополнения; старый, сословный, феодальный по сути годиться перестал. Отсюда травматическая модернизация, две огромные, внешне бессмысленные войны, цепная реакция революций и контрреволюций, эпидемия «летальных идей».
Сталинизм и гитлеризм – участники «матча народовластий», оказавшиеся наиболее чудовищными еще и потому, что играли они на самых проблемных участках. Там, где для новых механизмов было меньше всего готовых деталей, – а так и было в архаичной и обескровленной России и в Германии, которую унизили и поставили на версальский счетчик.
И Штаты столь явно выиграли от всей мясорубки первой половины XX века не только в силу удачной заокеанской прописки – но и потому, что были изначально футуристическим проектом, притом удачным; востребованная новым временем социальная машинерия монтировалась там загодя.
Тогдашние мечтатели – и кремлевский, и берлинский – сходство своих ролей в пьесе сознавали вполне. Сталин несколько раз крайне уважительно отзывался о Гитлере – Гитлер же в застольных беседах упоминал Сталина многократно, не стесняясь эпитетов вроде «гениальный», причем даже во время войны. Существуют свидетельства: Гитлер вопреки логике событий сорок пятого надеялся на сепаратный мир – со Сталиным! А Сталин уже в конце сороковых высказывал сожаление, что Гитлер стал его противником – а не союзником! Иосиф был очень впечатлен молниеносными и жесткими партийными чистками Адольфа, внимательно изучил и применил опыт «Ночи длинных ножей»; Адольф и вовсе был прилежным учеником, скопировал у Иосифа множество репрессивных технологий, сравнивал его властную манеру с методами Карла Великого и даже о стахановском движении отзывался тепло.
Всё это, впрочем, констатация сходств. В чем же различия вождей, сделавшие Адольфа общепризнанным преступником и иконой агрессивных маргиналов, а Иосифа – знаковой фигурой и предметом общественной дискуссии?
* * *
В отличие от Гитлера, Сталин – звено исторической непрерывности. Правление его, содержательно ужасающее (миллионы невинных жертв, прямое и косвенное истребление элиты нации и так далее), формально успешно уже только потому, что органически слито и с тем, что было до, и с тем, что стало после. Это простая, хоть и раздражающая констатация: содержательная часть истории в массовом сознании всегда проигрывает формальной. Так погубивший миллионы Сталин в зеркале национального восприятия не может быть равен погубившему миллионы Гитлеру уже потому, что Гитлер проиграл войну, страну и покончил с собой, а Сталин выиграл войну и умер своей смертью (конспирологическая версия об отравлении Берией ничего не меняет), страну же оставил в вихляющей, но прежней колее. Потому, что Гитлер – это завершенная история; а Сталин – сюжет открытый, часть растянутого на десятки, не сказать сотни, лет русско-советского метасюжета. Первое психологически (и практически!) куда легче вычленить, объявить чужеродным и отторгнуть, нежели второе.
Одно это отодвигает в область фантазий милую либеральному сообществу идею процесса а-ля Нюрнберг над советским коммунизмом вообще и Сталиным в особенности, который надо-де было провести году в девяносто первом и тем однозначно маркировать усатого вождя и его наследие как Зло. Успешный суд возможен только над проигравшим и только если его проводят победители. Нюрнберг и последующие денацификация с люстрацией оказались сравнительно успешны, потому что Гитлер был мертв, его уцелевшие близкие соратники – посажены в клетку, Германия – растерта в щебенку, за судьями стояли оккупационные штыки и мстительная воля победивших наций, а у немцев не осталось другого способа жить дальше, кроме отсечения куска прошлого, большого, но не фатально большого даже по меркам средней человеческой жизни.
Надо ли говорить, что в России ни в девяносто первом, ни в любом последующем году ни одно из этих условий (за исключением того, что Сталин тоже уже был мертв) соблюдено не было и быть не могло.
* * *
Но и это не главное препятствие для постановки окончательного знака равенства между вождями. Произнося «Гитлер» или «Сталин», мы помимо во-ли подразумеваем мифологему, идеологему, бренд. В этом бренде конкретного человека никак не больше, чем идеи, которую он олицетворяет, и неважно даже, насколько по праву. Поэтому парадоксальным образом даже тот факт, что «ультраправый» Гитлер был реальным революционером (пускай и «консервативным», в терминах Юлиуса Эволы), а «левый» Сталин осуществлял, по сути, контрреволюцию (заменив идею мировой революции на реставрацию Российской империи в социалистической редакции), – факт этот не в силах ни уравнять, ни даже окончательно сблизить бренды «Гитлер-нацизм» и «Сталин-коммунизм». Просто потому, что коммунистическая идея сама по себе зримо не равна национал-социалистической: воплощения удивительно схожи, но векторы идей глядят в диаметрально противоположные стороны.
Нацизм основан на имманентности. На возвращении к самому безусловному и дремучему разделению по имманентному признаку – биологическому. Коммунизм – на отрицании имманентности, на постулате равенства всех и вся.
Вектор нацизма обращен в прошлое – к племенным, звериным разделениям на своих и чужих, к языческой темной магии и жестоким дохристианским богам. Вектор коммунизма – в будущее, где все без вычета люди должны стать как Бог. Поэтому коммунизм есть футуристический проект – и отсвет этого потенциального футуризма падает также на проект реально воплотившийся, советский, сколь бы беспросветным ни было это земное воплощение. А отказаться от возможного моста в будущее всегда сложнее, чем от временного возвращения в мифологическое прошлое.
Эта же подспудная правда проецируется и на войну, упорно мешая окончательно уравнять двух участников «матча народовластий». Да, на Восточном фронте бились две очень схожие силы, и за одной стояли Освенцим, гестапо и карательные рейды СС, а за другой – ГУЛАГ, СМЕРШ и чистки НКВД на занятых территориях, про миллион изнасилованных немок умолчим вовсе. Одна сила грезила Великой Германией на завоеванных землях; другая – учредила соцлагерь на освобожденных. Больше того, если по части жестокости к чужим сумрачный тевтонский гений все-таки даст русскому медведю порядочно очков вперед, то по части жестокости к своим империя Сталина однозначно выигрывает у империи Гитлера. Брошенные в топку фольксштурм и гитлерюгенд бледнеют перед штрафбатами, заградотрядами и приравниванием любого пленного к изменнику; и когда Гитлер в финальном помрачении хотел увести за собой в Валгаллу всех германцев, затопив для верности служившее массовым бомбоубежищем берлинское метро, – советские маршалы, ломая оборону Берлина, клали тысячи и тысячи лишних солдатских жизней, будучи вполне в своем уме.
Силы были так схожи, что почти равны. Но видение будущего за силами стояло разное. В нацизме находилось место только сверхчеловеческому и нечеловеческому; коммунизм допускал просто человеческое.
* * *
Победа СССР и союзников над нацистской Германией – больше, чем победа одних народовластий над другим. И полностью отделить Сталина от факта этой победы невозможно; но возможно было бы отделить Сталина от ее празднования. По совести, 9 Мая стоило бы быть днем великой скорби по напрасным жертвам огромнейшей мясорубки в человеческой истории и великого уважения к тем, кто прошел до конца и сумел остановить мясорубку, а не днем варварского торжества одного милитаризованного тоталитаризма над другим.
В реальности, однако, наблюдается нечто противоположное. Не только День Победы (что в путинской, что в путинско-медведевской России) всё сильнее сближается с позднесоветским эталоном – но и Сталин становится не менее, а всё более востребованным персонажем. И не потому, что дать компетентный и однозначный ответ на «вопрос Сталина» нелегко – в конце концов, всё вышесказанное как раз об этом; но сам «вопрос Сталина» не только не уходит из широкого общественного пространства в ведение профессионалов – он оказывается всё более актуальным, насущным. И тенденция эта на удивление синхронна другой – разговорам о необходимости модернизации, «новой перестройки», тотальной реформы современного российского государства с его коррупцией, «ментовским беспределом», экономическим застоем, террористической угрозой и нравственным коллапсом.
Парадокс здесь – лишь кажущийся.
Да, Сталин – двойник Гитлера, носитель яркого и универсального психотипа тирана. Но это лишь один вариант сопоставления. А есть и другой. Сталин – еще и воплощение специфической российской матрицы власти. Специфической – потому что в России она воспроизводится циклически, а ретроспективно (когда боль проходит, а достигнутое через боль остается) выглядит наиболее результативной; «эффективный менеджер», как же.
Чтобы отследить генеалогию Сталина по этой линии, не обязательно быть историком, кандидатуры напрашиваются: Иван Грозный, Петр Великий – не зря же первый в сталинские времена был осторожно реабилитирован, второй – практически канонизирован. А персонально Сталин так и вовсе чрезвычайно благоволил Грозному, давил на Эйзенштейна, снимавшего свой фильм про царя Иоанна, – существует прекрасная запись беседы вождя с режиссером в феврале сорок седьмого, где Сталин, походя укорив Петра за подверженность иностранному влиянию, Грозного аттестует превосходно, говорит о его прозорливости, об оправданности его жестокости, о том, что надо было быть еще жестче: «пять боярских семей недорезал!».
Грозный – крайняя, патологическая точка линии, Петр – напротив, условно оптимальная; схожие черты, однако, очевидны. Постановка и упорное достижение великих целей, невзирая на цену вопроса. Пренебрежение ценностью индивидуальной жизни. Извращенный демократизм – когда всяк равно уязвим, невзирая на место в социальной иерархии. И как высшая публичная точка этого демократизма – до чего опасно завораживающи исторические параллели! – ритуальное сыноубийство. В пограничном, радикальном эпизоде Грозного это припадок священного безумия; в петровском оптимуме – как бы реализация высших государственных интересов. В случае Сталина это благородный отказ освобождать сына Якова из немецкого плена (якобы в обмен на Паулюса), и хотя знаменитая фраза «Я солдат на генералов не меняю», да и весь антураж истории проходят по разряду апокрифов, сохраняется ритуальная сила жеста – жутковатой пародии на Писание, символизирующей высшую справедливость и тем самым богоподобие диктатора.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?