Текст книги "Введение в прикладную культурно-историческую психологию"
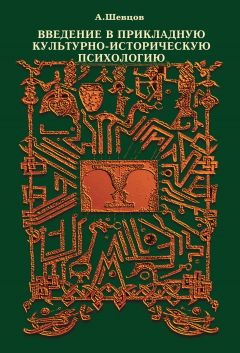
Автор книги: Александр Шевцов
Жанр: Прочая образовательная литература, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 12 (всего у книги 48 страниц) [доступный отрывок для чтения: 16 страниц]
«С о к р а т. Относительно речей знаешь ли ты, как всего более угодить богу делом или словом?
Ф е д р. Нет, а ты?
С о к р а т. Я могу только передать, что об этом слышали наши предки, они-то знали, правда ли это. Если бы мы сами могли доискаться до этого, разве нам было бы дело до человеческих предположений?» (Там же, 274b – c).
С одной стороны, там, где разум наш не справляется, приходится пользоваться подпорками обычного мышления, но, с другой стороны, чем же на самом деле является вся жизнь Сократа, а вместе с ним и Платона, как не попыткой доискаться до божественной истины? Что мы увидели в Платоновских текстах глазом психолога? С одной стороны, постоянные описания длинных цепей обычного мышления, с другой стороны, напряженнейшую попытку вывести из этого материала закономерности так называемого понятийного мышления, а точнее работы разума.
Разум, разум! Вот что искали Сократ и Платон всю жизнь. Всего пара приемов, которые отличают думание или разумение от работы ума по образцам, то есть обычного мышления. Вот и весь итог жизни Сократа и всей его битвы за разум. Еще пару нащупал Платон, но нащупав их, он сделал еще одно открытие, которое и прославило его в веках. Он открыл идеализм.
Вот о нем следующий разговор.
«Правая» наука души(Разум)
Как это ни странно на первый взгляд, но именно в учении Платона об «идеях» и «эйдосах», думается мне, скрываются глубинные возможности для психологии.
Начнем с того, что бытовое понятие «идеализма» на уровне «платонической любви» мы отбросим как дикую ошибку истории. Это всего лишь злой умысел Аристотеля и неверное понимание платонизма, основанное на формальной логике. Все это хорошо показано Лосевым в «Критике платонизма у Аристотеля» (Лосев, Критика…). Я с ним совершенно согласен со своей точки зрения.
Конечно, нам опять придется заглянуть в тексты Платона.
Однако объем этой работы никак не позволит мне сделать это хоть сколько-нибудь показательно. Поэтому обойтись без мнений ученых никак не получится. Тут первым стоит тот же Алексей Федорович Лосев (1893–1988), посвятивший теме «эйдосов» огромный раздел в «Очерках античного символизма и мифологии», если не считать множества других упоминаний и размышлений. Хочу я или не хочу, но сегодня опираться в исследовании этой темы необходимо на Лосева.
Но что такое учение Платона об «эйдосах», для психолога по Лосеву изучать не так-то просто. Его «Очерки» писались в начале двадцатых в общем-то еще молодым ученым. Молодым не как философ или филолог, а как человек.
Лосев той, долагерной, поры, для меня вообще не ученый. Если подойти к его работам с точки зрения исследования парадигм, т. е. сквозь вопрос: А что он хочет? – становится ясно: он всего лишь использует тот материал, что ему ближе всего, для творения произведений вполне художественных. Он поэт или художник, лепящий свои скульптуры из материала античной истории и философии, как современные модернисты варят их из металла, старых автомобилей или бутылок. Художественная ценность от этого ничуть не ниже. Материал добротен на удивление. Но вот где тут наука, а где «видение» – надо разделять.
Лосев писал уже из лагеря своей жене в 1932 году о состоянии, в котором создавались его ранние работы: «В те годы я стихийно рос как философ, и трудно было (да и нужно ли?) держать себя в обручах советской цензуры». «Я задыхался от невозможности выразиться и высказаться. Этим и объясняются контрабандные вставки в мои сочинения после цензуры, и в том числе (и в особенности) в “Диалектику мифа”.Я знал, что это опасно, но желание выразить себя, свою расцветающую индивидуальность для философа и писателя превозмогает всякие соображения об опасности» (Цит. по Тахо-Годи, с.24).
По поводу этих слов у меня возникает вопрос, связывающий их с психологией сообществ: считают ли представители научного сообщества упомянутую Лосевым цензуру одной из составных частей или одним из орудий своего сообщества? Или же открещиваются от нее как от явления «политического»? Я предполагаю, скорее, второе. Однако, кто сидел в цензуре, когда нужно было цензурировать научные работы? И чем принципиально, с психологической точки зрения, отличается состояние цензора от состояния ученого, выступающего «научным редактором»? Разве и тот, и другой не поставлены сообществом ради соблюдения и отстаивания его интересов? И когда «научный редактор» возмущается ненаучностью чьего-либо сочинения, что в нем возмущается? Что приходит в возмущение, если попытаться описать эту среду, способную быть спокойной или возмущаться, столкнувшись с чем-то ей инородным, иным, не соответствующим узнаваемым образцам, не соответствующим «давно ставшим общими местам»?
Работы Лосева – это стихия его личности, сращенная с крепчайшим научным исследованием. Это один из последних всплесков русского серебряного века. Нечто подобное наблюдается в начале серебряного века у любимого учителя Лосева Вячеслава Иванова в «Дионисе и прадионисийстве», а чуть позже в «Поэтике» Ольги Фрейденберг. Я назвал бы это направление антично-поэтическим жанром, творимым людьми, влюбленными в Древнюю Грецию, как в сказку, в которую они хотели бы сбежать из ужасного настоящего.
Именно такой образ Лосева вижу я, когда читаю его определение понятия «эйдос»: «…что получится, если мы попытаемся указанные выше три элемента – видение, живое единство и символическую существенность – соединить воедино и схватить эти три пункта в одном созерцании, в одном акте, – так, чтобы из этого получилось действительно общее и единое зерно всех возможных значений “эйдоса”? Мне кажется, что “эйдос” и “идея” есть л и ц о предмета, л и к живого существа» (Лосев. «Очерки…», с.233).
Это мифологическое видение. Оно постоянно присутствовало у Лосева даже в быту. Тахо-Годи прекрасно рассказывает об этом: «Есть мифы повседневной жизни: о цвете, свете, лунном освещении, электричестве, свечах, мифы прямо бытовые. Но особенное значение Лосев придает мифам социального порядка. Мифы пролетарской идеологии ничем не отличаются от мифов “капиталистических гадов и шакалов”; коммунистическая идеология создает свой миф о возможности безрелигиозного общества, хотя свою идеологию пролетариат возводит на степень мифа. <…> Широко распространявшиеся через газеты, журналы, лозунги идеи об усилении классовой борьбы при успехах социализма порождают миф о страшном мире, в котором “призрак ходит по Европе, призрак коммунизма”, “где-то копошатся гады контрреволюции”, “воют шакалы империализма”, “оскаливает зубы гидра буржуазии”, “зияют пастью финансовые акулы”.<…> “Картинка! – восклицает автор. – И после этого говорят, что тут нет никакой мифологии”» (Тахо-Годи, с.23).
Видение мира как мифа свойственно Лосеву-художнику. Но если его отделить, то выступает Лосев-ученый. И тут уже можно говорить определеннее. С одной стороны, Лосев – великолепный философ и филолог. Его исследование употребления Платоном слов «эйдос» и «идея» просто потрясает титанической добротностью труда. С другой стороны, именно на фоне этой потрясающей бережности и внимательности к слову античному, поражает в Лосеве чуть ли не нарочитая небрежность к слову русскому. Язык его загажен иностранными словами, которые употребляются к тому же в расхожем, бытовом значении, как например, «популярное сознание», тот же «анализ» вместо «исследование». Чуть позже наш глаз будет резать слово «момент», пришиваемое Лосевым к определениям «эйдоса».
При недостаточном знакомстве с творчеством Лосева может сложиться впечатление, что у него не было возможности изучать психологию всерьез, а сам он представляет собою тип этакого «чистого» философа, считающего, что философ изначально знает психологию даже лучше, чем психолог, и может говорить о психологии свысока, только потому, что психология еще совсем недавно выделилась из философии. Подобный подход, свойственный философам начала века, которые еще росли в научной среде, где психолог чаще всего был еще и профессором философии, я бы назвал поверхностно-философским снобизмом. Примером его я считаю попытку видного философа той поры профессора Н.О.Лосского во «Введении в философию» восемнадцатого года издания опровергать психологические наблюдения Д.Милля с позиций формальной логики. К сожалению, подробнее об этом говорить нет места.(Лосский, с.50–51).
Думается мне, что уже ко времени создания Лосевым своих ранних работ психология очень сильно отличалась от того, что думали о ней философы. В психологии накопился колоссальный материал исследований и было сделано огромное количество гипотетических предположений, большая часть которых оказалась несостоятельной. Однако отрицательное исследование на каких-то этапах развития науки важнее умозрительных утверждений, не соответствующих действительности. В психологии была уже вполне определенная парадигма, отличная от той, с которой психология выходила из философии, и которую, на мой взгляд, уже не видели за еще узнаваемыми чертами «чистые» философы. Не думаю, что сегодня, и даже в двадцатые годы, чистый философ может быть уверен, что он знает психологию не на бытовом уровне.
Однако все это не относится к Лосеву. Тахо-Годи пишет, что Лосев «был неизменным участником Психологического Общества при Императорском Московском Университете. Именно там, на последнем заседании 1921 г. (после этого оно было закрыто) <…> читал доклад «”Эйдос” и “идея” у Платона»» (Тахо-Годи, с. 7). Это значит, что он очень хорошо знал и парадигму и состояние, в котором русская и мировая психологии находились к двадцатым годам. Но самое для меня главное – это то, что он был близок к профессору Челпанову, видному философу и психологу, во многом стоявшему на культурно-исторических позициях. Одно это заставляет быть очень осторожным с оценками Лосева-психолога. Внимательное же изучение его работ неожиданно показывает, что он достаточно внимательно, несмотря на изоляцию России, следил за достижениями западной мысли и в психологии. По крайней мере, его возмущение по поводу пренебрежения «чистыми» философами психологической теорией гештальта показывает, что он был знаком и с этим разделом психологии мышления, которое Коул относит, скорее, к культурно-исторической парадигме. Приведу одно из таких Лосевских отступлений.
«Насколько глубоко въелся в европейскую философию, а главное, в европейское мироощущение рационализм и мертвящие схемы математического естествознания вместе с т. н. “формальной логикой”, что нам теперь уж совсем трудно понять самую простую вещь, а именно, что можно видеть общее, что “одно”, собственно, и не воспринимаемо, и не мыслимо без “иного”. В виде какого-то открытия звучит учение современных немецких психологов о Gestaltqualitaten (образных качествах – А.Ш.). Удивляются этому учению и даже оспаривают его; думают, что восприятие нарисованного треугольника вполне равносильно и адекватно сумме восприятий от трех линий; предполагается, что сумма трех восприятий и есть восприятие треугольника; и считают самостоятельный и ни на какие слагаемые не сводимый акт восприятия треугольника как чего-то целого – “мистическим туманом” и “мистическими выдумками”» (Лосев, «Очерки…», с.238).
Более того, некоторые факты дают основания считать, что Лосев потому “ворчит” на психологию, что сам он, по сути, занят, среди прочего, созданием именно новой психологии! И с высоты найденного недоволен положением дел в науке. Для меня это выглядит чрезвычайно естественным для любого, кто действительно хочет понять Платона. Правда, при этом Лосев выпадает из существующей на то время психологической парадигмы, точнее, парадигм. Но Лосев выпадает и из всех парадигм. Иногда в свое, иногда в будущее. Мне кажется, и психология мышления на том уровне, на каком ее попытался дать Лосев, еще во многом недоступна современной психологии.
Все это я считаю необходимым учитывать, знакомясь с теорией “эйдосов” по Лосеву.
Самое краткое определение «идеализма» Лосев дает в небольшой работке «История античной философии». Приведу его рассуждение целиком: «Обычно систему Платона именуют <…> идеализмом. Но термин “идея” имеет множество разных значений и в античной философии, и в другие историко-философские периоды, и даже у самого Платона. Для существенной характеристики платонизма он так же неудобен, как и термин “спекуляция”, и тоже ввиду разнообразных (и часто нефилософских) значений этого термина. Более подходящим термином был бы такой термин, как “эйдология” или “эйдологизм”, поскольку греческий термин “эйдос” хотя и значит то же самое, что идея, но не вызывает никаких ненаучных ассоциаций.
Итак, если по методу философия ранней классики есть интуитивизм, а средней – дискурсионизм, то зрелая классика античной философии была ноуменальным спекулятивизмом, или эйдологизмом, то есть не интуицией чувственно-материального космоса и не дискурсией над ним, но его диалектикой» (Лосев, 1989, с. 67–68).
«Но тогда что же такое платоновские идеи? – задается Лосев вопросом в “Истории античной эстетики”. – <…> Под влиянием новоевропейской абстрактной метафизики давно уже было забыто, что самое слово “идея» имеет своим корнем “вид”.Идея – то, что видно в вещи. В греческом языке это слово очень часто служит для обозначения внешнего вида вещи, наружности человека и пр. С таким значением оно попадается даже у Платона. Но если всмотреться в сущность вещи, в ее существо, в ее смысл, то он тоже будет “виден” и глазу и, главным образом, уму. Вот эта видимая умом (или, как говорили греки, “умная”) сущность вещи, ее внутренне-внешний лик, и есть идея вещи» (Лосев, История античной эстетики, 1994, с.150).
Но самое подробное и исчерпывающее определение эйдологии Лосев дает в «Очерках античного символизма и мифологии». Добавлять что-либо к его определению в КИ-психологическом введении просто бессмысленно.
Поэтому я просто сделаю краткий беглый обзор его основных мыслей.
«Платон <…> как бы говорит нам: именно, эйдос не вещь, и эйдология – не метафизика; эйдос – не формальное обобщение и не может вступать ни в какую чисто формально-логическую связь с другими вещами и понятиями; эйдос – наивысшая обобщенная, конкретная сущность вещи; и к нему неприложимы никакие не только вещные, но формально-логические квалификации.
Однако Платон делает предмет еще более тонким и показывает ряд еще более тонких метафизических привнесений, весьма легко создаваемых популярной мыслью в области учения об эйдосах. Именно, Сократ (т. е. Платон), отвечая на предыдущие возражения о делимости и неделимости и о бесконечно-восходящей лестнице эйдосов (Имеется в виду диалог “Парменид” – А.Ш.), говорит, что эйдос надо признать просто известной мыслью, ноэмой, которая как таковая находится в душе»…(Лосев, «Очерки…», с.185).
«Сократ, говоря, что эйдос есть ноэма, хотел остеречь от вещного и формально-логического истолкования, вовсе не желая растворить эйдос в психическом бытии. Парменид же понимает опять это метафизически: выходит, что если эйдос есть мысль, то он сам состоит из мысли, как из некоей материи, и сам должен мыслить. Следовательно, отвергнувши вещно-нормативное и формально-логическое истолкование учения об эйдосе, Платон отвергает здесь и психологическое истолкование.
Но и этим не кончается дело. Что же такое эйдос в отношении к вещам, если он не обусловливающая субстанция, не понятие и не психический феномен? Остается чисто феноменологическое определение, которое тут же Платоном и предлагается: эйдос есть идеальная картина вещи, образец ее…
Следовательно, <…> эйдос не существует ни во внешней природе как вещь, ни в психике как мысль, ни в логике как понятие» (Там же, с.186).
«Платоновские эйдосы суть идеальные картины, идеальные корреляты чувственных предметов; и к ним неприменимы никакие категории причинности, одушевленности и вообще фактического существования» (с.192).
Повторю еще раз: когда Лосев что-то уверенно заявляет про психологию, он имеет перед собой некий образ этого понятия. Например, говоря о «трех типах душевного устроения по Платону», он добавляет: «…заметим, что разделение на три “части” ничего общего не имеет с современным психологическим делением на три сферы, ибо то, что мы называем умом, сердцем и волей, одинаково содержится в каждой из трех платоновских “частей”»… (с.208). О чем он говорит, как о трех частях «современной психологии», может сходу понять только историк психологии. Мне кажется, что он имеет в виду под «психикой» нечто, что давалось в гимназических учебниках психологии.
Для того, чтобы внести ясность, разберемся с понятием «ноэмы», раз уж «идея есть ноэма, только не психологическая». Только через ноэму можно понять всю Лосевскую теорию эйдосов.
Краткое определение ноэмы он дает здесь же, в «Очерках», как бы противореча себе самому: «Ноэма – это мысль как психический феномен, результат мышления в психологическом смысле» (Там же, с.188).
Следовательно, условно говоря, среда обитания идей – мышление в психологическом смысле. Но: «В этой общей ноэме выделяется “идея”, которая в виду интегральности своей природы функционирует как идеально-мыслительный коррелят предмета» (Там же).
Иными словами, идея – это мысль, но не такая, какой ее на сегодня знает психология. Это за-мысль, это пространство будущей психологии, которую и разрабатывает Лосев в своей эйдологии. Для того, чтобы окончательно определиться, возьмем подробное определение ноэмы, данное им в «Философии имени».
«На символической ноэме или на чистой ноэме склонно останавливаться популярное сознание. В самом деле, что же еще надо для анализа слова и имени, кроме звука и значения? Так и определяется в большинстве ходячих университетских курсов слово – как звуковой комплекс, объединенный каким-нибудь определенным значением. На первый взгляд, тут нечего возразить. На деле же это – невероятная поверхностность взгляда, затрудняющая всякий более или менее углубленный подход к делу. Лингвисты и психологи не понимают, что такое определение подошло бы к любому предмету и процессу из физического мира. Разве кашляние, сморкание, лай, мяукание, гром, скрипение дверьми, членораздельные звуки попугаев и обезьян и тысячи других подобных явлений нельзя определить как звуковые комплексы, объединенные известным определенным значением? Разве нельзя так определить музыку? Скажут, что в слове имеется в виду «логическое» значение, а в громе его нет. Но ведь и в человеческих словах отнюдь не всегда имеется в виду «логическое» значение, равным образом как и гром – разве не есть предмет с определенным «логическим» значением? Мы должны оставить обывателей пользоваться своей некритической наукой, чтобы направить наши взоры на подлинную и совершенно своеобразную стихию слова, и мы не должны бояться сложности анализа, раз уже взялись за изучение одной из сложнейших вещей в мире.
Чистая ноэма есть как раз то, что в обывательском сознании, т. е. в школьной грамматике и психологии, некритично трактуется как “значение слова” – без дальнейших околичностей. Однако попробуем реально представить себе, что наше мышление оперирует только ноэмами. Представим себе, что ноэма – сущность слова и последнее его основание. Это значило бы, что наша мысль, выработавши известные образы, устремляется к ним и ими ограничивается. Произнося слово, мы продолжали бы ограничиваться самими собой, своими психическими процессами и их результатами, как душевнобольной, не видя и не замечая окружающего мира, вперяет свой взор в картины собственной фантазии и в них находит своеобразный предмет для мысли и чувства, предмет, запрещающий выходить ему из сферы собственного узко-личного бытия. Впрочем, и здесь, вероятно, различается образ предмета от самого образного предмета. Предположивши, что произносимое нами слово есть только ноэма, “то, что мыслится о” чем-нибудь, мы не выходим за пределы процессов мышления как таковых и их результатов. А между тем тайна слова заключается именно в общении с предметом и в общении с другими людьми. Слово есть выхождение из узких рамок замкнутой индивидуальности. Оно – мост между “субъектом” и “объектом”.Живое слово таит в себе интимное отношение к предмету и существенное знание его сокровенных глубин. Имя предмета – не просто наша ноэма, как и не просто сам предмет. Имя предмета – арена встречи воспринимающего и воспринимаемого, вернее, познающего и познаваемого» (Лосев, Философия имени, с.37–38).
«Ясно, прежде всего, что сама ноэма указывает на противостояние в слове предметной сущности и воспринимающего эту сущность “субъекта”. <…>…попробуем разобраться в этой темной и запутанной сфере слова, да и мышления вообще.
Уже заранее ясно, что предметная сущность, как бы ее ни понимать, не может участвовать в слове как таковая целиком. Иначе бы предмет перестал быть предметом и перестал бы противостоять не-предмету. Необходимо признать, что предметная сущность одною своею стороною непосредственно участвует в стихии слова, образуя ее и являясь в ней существенным моментом, другая же сторона остается вне слова» (Там же, с.39).
«Ноэма – значение произнесенного определенного слова, произнесенного хотя и определенным лицом и в определенное время, но без всех тех индивидуальных вариаций, которые присущи этому лицу. Это, так сказать, общепринятое значение слова. Но чистая ноэма еще не есть ни сам предмет, ни его адекватная идея или образ. <…> Что же это такое? Ясно, прежде всего, что это есть некий принцип бесконечного варьирования значения слова, противоположный принципу постоянной предметной однозначности слова. Другими словами, ноэма есть результат некоего более внутреннего слоя, являющегося ареной для взаимоопределения предметной сущности и чего-то иного, переводящего предметную сущность как таковую в сферу слова. Ноэма есть свет смысла, освещающий, т. е.осмысливающий, звуки и от значения звуков как таковых совершенно отличный. Мы уже отбросили и звуки и всю фонему. Но теперь оказывается, что самый смысловой свет, превращающий звуки в слово, однородный в сравнении с разнообразием звуковых смыслов, входящих в фонему, является, однако, сам по себе довольно сложной природы; в нем сталкиваются два разнородных начала, результатом чего и является семема <…> произнесенного слова. Однако и после исключения семематизма осталось – в ноэме – вне-субъективная и вне-индивидуальная стихия понимания. <…> В ноэме должна быть арена этой встречи адекватного понимания с адекватно понимаемым. Назовем эту арену полного формулирования смысла в слове идеей, считая, что это слой – дальнейший…» (Там же, с.41).
«Но что такое идея? Идею предмета тоже должен кто-то иметь. И этот “кто-то” также должен отличаться от предмета, который он видит и понимает. <…> В чем же тогда разница между ноэмой и идеей слова? <…> Тут мы, может быть, ближе, чем где-нибудь, подошли к уяснению изучаемой дистинкции. Ноэма предполагает инобытие предмета, и идея предполагает инобытие предмета. Но идея предмета предполагает только одну чистую инаковость предмета как таковую и больше ничего. Идея предмета и есть самый предмет целиком, но только перенесенный в инобытие» (Там же, с.46).
И последнее:
«Если под инобытием мыслится человеческое или иное сознание, то идея в этом смысле есть полное и адекватное присутствие предмета в этом сознании, полное и адекватное понимание предмета» (Там же).
Иначе говоря, мышление человека (в широком значении включающее в себя и «бытовое мышление», и разум) является чрезвычайно сложным явлением и состоит из нескольких уровней, среди которых есть уровни управления, смыслополагания, понятий и значений. И все это с множеством тонкостей и оттенков.
При этом «идеи», «эйдосы» или образы присутствуют в сознании, которое есть «инобытие».
Вот тут надо внести уточнения. Тут, на мой взгляд, Лосев не точен. Инобытие – это не место, куда переносятся предметы. Это их иное состояние, иное бытие. Если это так, тогда сознание – не инобытие, а место, где возможно инобытие предметов, не инобытие, а пространство для инобытия. Инобытие же внешних, воспринятых органами восприятия, предметов – это бытие их в виде образов. А сознание, на первый взгляд, есть нечто вроде пространства, где эти образы пребывают.
Но тут стоит обратить внимание на то, что у этого «пространства» есть свойства, отличные от пространства математики. Геометрическое пространство обладает разве что двумя свойствами: способностью вмещать или содержать в себе предметы и способностью быть измеряемым количественно. Пространство «сознания» явно обладает отличиями. Вмещая образы, оно при этом обладает не количественными, а качественными свойствами. И эти свойства как раз и заключаются в том, что оно обеспечивает это самое инобытие.
Что значит обеспечивать, я пока разбирать не берусь. Но похоже, что это не только «особый режим хранения». Очень даже вероятно, что именно сознание и придает воспринятым предметам это качество инобытийности. Проще говоря, это сознание и создает все эти образы из предметов.
А вот это означает, что сознание – не просто пространство, а некая среда, обладающая и качествами и способностями производить некие действия.
Вот, пожалуй, и достаточно об идеализме Платона и эйдологии Лосева. Ясно, что это тема психологическая, ясно, что прямо и непосредственно относящаяся к культурно-исторической психологии, несмотря на то, что Платоном были заложены и некоторые основы естественнонаучного метода. Совершенно определенно, что для того, чтобы разобраться в эйдологии, нужно провести исследование скрытой парадигмы Лосева, которая рождалась под воздействием, с одной стороны, мистического христианства, а с другой, послереволюционной советской действительности.
Кроме того, совершенно очевидно, необходимо отдельное сопоставительное исследование разных направлений русской культурно-исторической психологии.
Для моих же целей будет достаточно добавить только одно. Лосев так боится «популярного понимания» своих идей, что старательно избегает переводить слово «эйдос» русским словом образ, а принятые сейчас в психологии понятия «картина мира» или «образ мира» звучат у него как «космос».
Лишь когда задача объяснить себя оказывается очень трудна, как в случае с ноэмой, слово «образ» начинает прорезаться в его языке. Уходя от бытового понимания этого слова, мы все же не можем уйти от него совсем, если хотим понять свое русское мышление. Более того, в рамках культурно-исторического подхода даже вредно было бы полностью исключить бытовое значение этого слова из научного использования. Платон, как показывает сам Лосев в своих «Очерках», использовал слова «эйдос» и «идея» вполне в бытовом значении, так и не сделав их терминами.
Поэтому основной вклад Платона в «правую» науку души мы вполне можем назвать Наукой об образах.
Кроме того, безусловно, надо сказать и о том, в чем Платон пошел в психологии дальше Сократа.
Сократ, как это было показано, по сути, заложил основы духовного целительства или психотерапии. Платон искренне придерживается этого направления, но думает о том, что еще не охватил учитель.
Ксенофонт, как вы помните, передает рассказ Сократа о том, почему он, озабоченный падением нравов и ослаблением Афинского государства, сам не идет в политики и не занимается государственным управлением. Мнение его просто: если знаешь, как управлять хорошо и хочешь, чтобы это знание воплотилось, передай свое знание как можно большему числу хороших учеников, чтобы государственными деятелями стали они.
Все главные заботы Платона, как и Сократа, были связаны с горечью от ослабления и упадка Древнегреческого государства. Это вообще отмечается исследователями, как черта греческого мировоззрения IV века до нашей эры. В Афинах же она проявлялась особенно ярко из-за поражения, нанесенного им Спартой. Всю свою жизнь Платон винил предшествующие правительства Афин за то, что они, думая о силе, не позаботились о воспитании и о правильной нравственности молодежи. Всю свою жизнь он пытался и создать образ наилучшего из государств, и воплотить его. Он даже вмешивался со своими идеями в настоящую государственную жизнь отдельных греческих полисов. Но все это шло прахом.
И вот эти неудачи попыток входить в управление самому, как мне кажется, заставили его воплотить свою боль в произведения, которыми зачитывались все и которые с IV века занимают место так любимых ранее греками трагедии и комедии. Платон сделал то, о чем говорил Сократ: он предпочел учить управлению, но не управлять.
Но уж раз разговор снова зашел об управлении, я хочу сделать отступление и рассказать, как Платон понимал основу управления – справедливость, и насколько он близок в этом к Сократу.
Если вопрос о справедливости в понимании Сократа я разбирал по самым ранним диалогам, где, как считается, его образ передан очень точно, то о Платоне я предпочту говорить по диалогу «Государство», который можно считать одним из итогов его жизни.
«…когда кому-нибудь приходит мысль о смерти, на человека находит страх и охватывает его раздумье о том, что раньше и на ум ему не приходило.
Сказания, передаваемые об Аиде, – а именно, что там придется подвергнуться наказанию тому, кто здесь поступал несправедливо, – он до той поры осмеивал, а тут они переворачивают его душу: что, если это правда?» (Платон, т.3, «Государство. Книга первая», 330d – e).
Итак, Платон опять начинает рассуждения от исходной точки смерти, которую можно назвать единственной абсолютной определенностью человеческой жизни, а значит, абсолютно верным основанием рассуждения. Это первое основание его «метода».
Затем следуют слова, которые дают поразительную характеристику этому подходу: «Да и сам он – от старческой ли немощи или оттого, что уже ближе стоит к тому миру, – как-то больше прозревает» (Там же, 330е).
Откуда прозрение? Мы ничего не можем сказать о воздействии «того мира», опыт показывает, что «старческая немощь» скорее оглупляет и снижает. И остается только одно: уже одна постановка вопроса о смерти во главу угла рассмотрения жизни делает мышление яснее.
Это, безусловно, связано с изменением целеустроения. Пропадает дробность и вместе с ней разбросанность мышления по множеству направлений и участков. Целеустроение через смерть, надо это отметить, не создает четкую иерархию (гору) целей в виде треугольника с определенной вершиной. Вершина такого треугольника как бы распахнута в бесконечность, поскольку перед нами всегда остается открытым вопрос: а что там за смертью? Далее мы можем воображать себе любые небесные или подземные миры, как это и показывает Платон в других работах, но не воображать чего-то за – мы не можем. Даже имея веру в конечность человеческого существования, мы не можем ее доказать, и значит, всегда остается место сомнению или надежде, что там что-то будет.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































