Текст книги "Введение в прикладную культурно-историческую психологию"
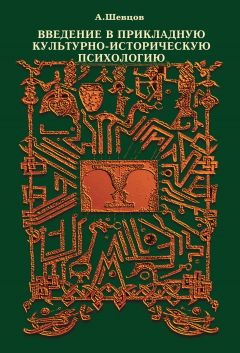
Автор книги: Александр Шевцов
Жанр: Прочая образовательная литература, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 14 (всего у книги 48 страниц) [доступный отрывок для чтения: 16 страниц]
Глава 3
Психология Сократа и Платона
Слово «психология» появляется только в XVI веке. Так что у Платона его нет. Не встречается и понятие «наука о Душе». Впервые его употребит только ученик Платона Аристотель в трактате «О Душе». И тем не менее, психология начинается именно с Сократа.
Приведу слова Вернера Йегера из прекрасной работы «о воспитании древнего грека» – «Пайдейи»:
«Однако, что же такое “душа”, или (если пользоваться греческим термином) “псюхе”, в понимании Сократа? <…> Прежде всего бросается в глаза, что у Платона и других сократиков Сократ произносит это слово как заклинание – страстно и проникновенно. Здесь впервые в литературе Западного мира мы встречаемся с понятием «души», которое и теперь обозначается тем же самым словом. Современные психологи не связывают с этим словом представления о какой-то “реальной субстанции”. Слово “душа” для нас, вследствие своего культурно-исторического генезиса, всегда имеет этический и религиозный характер. Оно связано в нашем представлении с христианством так же, как и слова “литургия” и “забота о душе”/ Однако это высокое значение она обретает впервые в увещевательных беседах Сократа.<…>
В прекрасном эссе Бернета развитие понятия “души” прослежено на всем протяжении истории духовной культуры Греции. В исследовании показано, что ни гомеровский эпический “эйдолон” (пребывающая в Аиде тень человека), ни упоминаемая ионийцами “воздушная душа”, ни орфический “даймон”, ни “псюхе” аттической трагедии не приблизились по смыслу к тому новому понятию, которое вкладывает в это слово Сократ» (Йегер, с. 70).
Сократ не первым употребил слово «псюхе», но он первым внес то понимание, которое используется и бытовым мышлением, во многом из-за христианского воздействия, и психологией, которая, правда, предпочитает называть это «психикой».
Введение понятия «психика» было вынужденным. Бытовое понимание того, что есть Душа, было столь сложным, противоречивым и навязчиво сильным в умах психологов, что им просто необходимо было освежить свое видение, отстраниться и взглянуть на предмет своей науки со стороны, по-новому. Для того, чтобы дать описание предмета такой науки, как психология, существуют два пути. Один из них, назову его «коротким революционным путем», кажется легким – сразу, одним движением отринуть весь груз бытового мышления и создать свой язык описания. Тут, похоже, убиваются два зайца. Во-первых, бытовое, «засалившее» глаза явление описывается с другой точки, можно сказать, под другим углом зрения. Во-вторых, сразу же создается тайный язык своего сообщества. К сожалению, тайный язык «своих» рождается проще, чем полноценно сопоставимое с бытовым научное описание явления.
Естественно, описывая «короткий революционный путь», я не могу обойтись без главного революционера В. Ленина, который психологом не был. Или был, но бытовым психологом, попросту говоря, человеком, способным управлять другими через их душевные струны. Сообщество русских психофизиологов начала века он сразу же и однозначно взял под управление одним коротким заявлением, которое потом десятилетия сковывает Русскую психологию:
«Метафизик-психолог рассуждал о том, что такое душа? Нелеп тут был уже прием. Нельзя рассуждать о душе, не объяснив, в частности, психических процессов: прогресс тут должен состоять именно в том, чтобы бросить общие теории и философские построения о том, что такое душа, и суметь поставить на научную почву изучение фактов, характеризующих те или другие психические процессы» (Цит. по Петровский, с.13).
Второй путь – это путь не для молодых и нетерпеливых, каким было рождающееся сообщество психологов, когда оно перешло на «научный» язык. Второй путь – это разобраться, как делал сам Сократ, что же люди понимают под теми словами, которые употребляют. Скажем, какое значение вкладывали сами Сократ и Платон в слово Душа. Я бы назвал это путем культурно-исторической психологии.
Чтобы пояснить эту мысль, составлю из всем знакомых, привычных бытовых выражений коротенький образ понятия «душа». Выражения эти я наугад выбрал из различных диалогов Платона.
Мы признаем «живыми существами всех тех, кто имеет душу» (Евтидем, 302е). С Души можно «снять пелену мрака, ее окутывающую» (Алкивиад, 150е). Душа может быть расположена к чему-то, например, «к мудрости» (Гиппий Меньший, 364). Душу можно «исцелить, искоренив невежество <…> души» (Там же, 373). Душа может быть «достойнее» или «искуснее» других душ (Там же, 375b), также она может быть в чем-то «весьма искушена» (Там же, 375с). И вообще: «собственную душу разве не желали бы иметь самую лучшую?» (Там же). «Достойный человек – это тот, кто имеет достойную душу, скверный же человек имеет душу недостойную» (Там же, 376b). Душа может колебаться в том, что ты не знаешь (Алкивиад I, 117b). У души есть «природные свойства» (Там же, 123е). Науки могут быть разными, в том числе «полезными для души юношей» (Лахет, 185е). Души можно врачевать и быть искусным «во врачевании душ» (Там же). Душу можно кому-то «вверить – для хорошего или дурного» (Протагор, 312с). Но при этом можно «подвергнуть свою душу опасности» (Там же, 313). Душу мы обычно «ставим выше, чем тело» (Там же). И так далее, и тому подобное…
Продолжать подобное перечисление черт того понятия, которое обозначается словом «душа», как кажется, можно до бесконечности. На самом деле это не так. Это описание исчерпаемо и сводимо к определенному набору основных черт. Вполне возможно, что некоторые из этих «основных черт» относятся к разным явлениям: допустим, к сознанию, мышлению и к Душе как таковой. Но при этом, скорее всего, окажется, что и эти явления между собой тесно и естественно связаны, раз их связывает язык. Язык – это все-таки воплощение тысячелетних наблюдений за явлениями природы и общества. Считать, что он ошибается, можно, но сначала неплохо было бы понять его.
Вот такое исследование я и хотел бы начать, хотя бы вкратце, насколько это позволяет «Введение». Хотя сделать подобное исследование исчерпывающим можно только в отдельной и достаточно большой работе. Насколько мне известно, психологи пока подобное исследование начал собственной науки не предпринимали. В основном этим занимались философы. Впрочем, я могу ошибаться.
Сократовская наука о душе – назову ее так, – это наука прикладная, наука правильной жизни. Поэтому она начинается с итога жизни – со Смерти, как вершинной точки всех рассуждений. Сюда сходятся все нити твоего мировоззрения, и отсюда тянутся все струны Души, всё управляющее твоим поведением, мыслями и надеждами.
Поэтому первое и исходное по смыслу упоминание Души Сократом находится в обычно считающемся самым ранним из всех диалогов Платона – «Апологии Сократа». Его стоит привести подробнее, чем я сделал раньше, поскольку из него вытекает вся платоническая Наука о Душе:
«Ведь никто же не знает ни того, что такое смерть, ни того, не есть ли она для человека величайшее из благ, а все боятся ее, как будто знают наверное, что она есть величайшее из зол. Но не самое ли это позорное невежество – думать, что знаешь то, чего не знаешь? Что же меня касается, о мужи, то, пожалуй, я и тут отличаюсь от большинства людей только одним: если я кому-нибудь и кажусь мудрее других, то разве только тем, что, недостаточно зная об Аиде, так и думаю, что не знаю. А что нарушать закон и не слушаться того, кто лучше меня, будь это бог или человек, нехорошо и постыдно – это вот я знаю. Никогда поэтому не буду я бояться и избегать того, что может оказаться и благом, более, чем того, что наверное есть зло. Так что если бы вы меня отпустили, не поверив Аниту, который сказал, что или мне вообще не следовало приходить сюда, а уж если пришел, то невозможно не казнить меня, и внушал вам, что если я уйду от наказания, то сыновья ваши, занимаясь тем, чему учит Сократ, развратятся уже вконец все до единого, – даже если бы вы меня отпустили и при этом сказали мне: на этот раз, Сократ, мы не согласимся с Анитом и отпустим тебя, с тем, однако, чтобы ты больше не занимался этим исследованием и оставил философию, а если еще раз будешь в этом уличен, то должен будешь умереть, – так вот, говорю я, если бы вы меня отпустили на этом условии, то я бы вам сказал: “Желать вам всякого добра – я желаю, о мужи афиняне, и люблю вас, а слушаться буду скорее бога, чем вас, и пока есть во мне дыхание и способность, не перестану философствовать, уговаривать и убеждать всякого из вас, кого только встречу, говоря то самое, что обыкновенно говорю: о лучший из мужей, гражданин города Афин, величайшего из городов и больше всех прославленного за мудрость и силу, не стыдно ли тебе, что ты заботишься о деньгах, чтобы их у тебя было как можно больше, о славе и о почестях, а о разумности, об истине и о душе своей, чтобы она была как можно лучше, не заботишься и не помышляешь?” И если кто из вас станет возражать и утверждать, что он об этом заботится, то я не оставлю его и не уйду от него тотчас же, а буду его расспрашивать, пытать, опровергать и, если мне покажется, что в нем нет доблести, а он только говорит, что есть, буду попрекать его за то, что он самое дорогое не ценит ни во что, а плохое ценит дороже всего. Так я буду поступать со всяким, кого только встречу, с молодым и старым, с чужеземцами и с вами, с вами особенно, потому что вы мне ближе по крови. Могу вас уверить, что так велит бог, и я думаю, что во всем городе нет у вас большего блага, чем это мое служение богу. Ведь я только и делаю, что хожу и убеждаю каждого из вас, молодого и старого, заботиться раньше и сильнее не о телах ваших или о деньгах, но о душе, чтобы она была как можно лучше, говоря вам: не от денег рождается доблесть, а от доблести бывают у людей и деньги и все прочие блага, как в частной жизни, так и в общественной. Да, если бы такими словами я развращал юношей, то слова эти были бы вредными. А кто утверждает, что я говорю что-нибудь другое, а не это, тот несет вздор. Вот почему я могу вам сказать, афиняне: послушаетесь вы Анита или нет, отпустите меня или нет – поступать иначе, чем я поступаю, я не буду, даже если бы мне предстояло умирать много раз» (Платон, т.1 «Апология Сократа», 29–30с).
Прежде, чем перейти к собственному исследованию, хочу привести слова В.Йегера, прямо относящиеся к этому отрывку:
«Сократ требует заботиться не о доходах, а о душе. С этого «увещевания» он начинает свою речь и к нему же возвращается в конце. В этой речи нет доказательств, что ценность души больше, чем телесные радости и жизненные блага. Предполагается, что эта мысль понятна без дальнейших объяснений, хотя люди и пренебрегают ею в повседневной жизни. Для современного человека в словах о важности души нет ничего оригинального, и звучат они несколько тривиально. Но были ли они такими же само собой разумеющимися для грека того времени, как для нас, воспитанных на христианской традиции, насчитывающей уже две тысячи лет? В “Протагоре” Сократ излагает свою мысль в беседе с молодым человеком, начиная с утверждения, что душа его молодого собеседника находится в опасности. Мотив опасности вообще характерен для Сократа и всегда связан у него с призывом заботиться о душе. Манера говорить у Сократа напоминает врача, но он заботится не о теле пациента, а о его душе. В сочинениях сократиков мы очень часто встречаем увещевания, касающиеся забот о душе. Мы сталкиваемся здесь с тем, что было для Сократа самой главной задачей, связанной с его призванием, а именно – с воспитанием. Воспитание сограждан становится для него служением богу. Религиозный характер учения Сократа основан на том, что воспитание – это, прежде всего, забота о душе. Душа для Сократа представляет божественное в человеке. Сократ характеризует заботу о душе как попечение о познании ценностей и истины. Душа столь же отделена от тела, как и от различных внешних благ. На этом основана сократовская шкала ценностей, а вместе с ней и все учение о благах; душевные блага занимают в ней первое место, телесные – второе, а внешние блага, например, собственность или власть, – последнее.
Пропасть отделяет эту шкалу ценностей, которую Сократ считает само собой разумеющейся, от господствующих в народе взглядов, прекрасно выраженных в греческой застольной песне:
“Здоровье – это высший дар богов.
Второе место в жизни – красота,
Богатство – дальше, правильно добытое,
А молодость с друзьями провести —
Четвертое из самых высших благ”.
Внутренний мир человека предстает в философии Сократа как нечто новое.“Арете”, о которой он говорит, – главная добродетель души» (Йегер, с.69–70).
Представления Платона и Сократа о Душе придется разделить на две или даже три части. Одна из них – это бытовое, обычное основание – господствующие в народе взгляды, как говорит Йегер. Ни о какой «пропасти» не может быть и речи, если учитывать тот язык, которым пользуется Сократ. Вторая – заимствования из других философов или мыслителей. И третья – их собственные мысли, которыми они дополнили это основание. Вот они-то, конечно, отличаются от всего остального.
Для того, чтобы сделать такое разделение полноценным, надо бы провести отдельное исследование представлений о душе, живших в бытовом греческом мышлении той эпохи. Это мне не под силу. К тому же подобные исследования уже делались. Лосев, к примеру, в «Античной мифологии в ее историческом развитии» говорит о том, что основным источником платоновских представлений о загробном мире был Гомер. А у Гомера в представлениях о душе он различает шесть разных историко-культурных напластований. Еще одним безусловным источником является орфизм, и в целом же, как считает Лосев: «…очевидно, что мы имеем дело у Платона с орфико-пифагорейской традицией относительно судьбы души после смерти и ее нового рождения на земле» (Платон, т.1, Примечания, с.813).
Иначе говоря, средний слой, то есть слой заимствований из других философий, как, кстати, и слой собственных мыслей Платона о судьбе Души, прекрасно исследован.
Поэтому все, что мне остается, это исследовать самые общие представления Платона и Сократа о Душе, исходя из соответствий бытового русского языка. Тут вопрос решается даже не за счет единых индоевропейских корней обоих народов, а за счет того, что я работаю с переводом платоновских текстов на русский язык, и переводчики совершенно непроизвольно подыскивали каждому греческому понятию русское соответствие. Мне, как психологу, такое понятийное двуязычие кажется на этом уровне исследования даже более ценным, чем погружение в языковую среду Древней Греции.
Все это означает, что моей задачей явится попытка дать описание тому явлению, которое Сократ, а за ним Платон называют Душой, через русский язык. Иными словами, это исследование Души в понимании Сократа и Платона есть в не меньшей мере исследование традиционного русского понимания понятия «душа».
Могу заранее сказать, что исследователи обнаружили в Платоновском понимании Души немало противоречий. Может быть, это связано с тем, что с годами менялись представления Платона, а может, в них отразились одновременно бытующие в греческой культуре разные взгляды. В любом случае, если делать такое исследование полноценным, необходимо было бы собрать все имеющиеся в диалогах языковые выражения, определяющие понятие «душа», а также все, что позволяет отделить его от других понятий, что мне сейчас явно не по возможностям.
Итак, «о разумности, об истине и о душе своей, чтобы она была как можно лучше, не заботишься». Что можно почерпнуть из этого первого отрывка. Душа – это то, о чем надо заботиться и, значит, можно заботиться. Традиционная культура вполне осознанно разделяет Душу и Тело. Но то, что при этом разделяется еще и Душа и некое «Я», которое заботится о Душе, она чаще всего не осознает, хотя использует как понятие.
Далее, Душа – точнее, Душа, о которой заботились, воспитывали и образовывали, а тем самым, можно предположить, сделали правильной, – Правильная или Воспитанная Душа входит в понятие «доблести» вместе с двумя другими составляющими – Разумностью и Истиной.
Я уже рассказывал о том, что Аретэ, передаваемое словом «доблесть», чаще переводится как «добродетель». К примеру, именно его использует переводчик того же куска текста в «Пайдейе» Йегера. В таком случае текст, как кажется, звучит осмысленнее. Впрочем, в разных культурах так много различных пониманий того, что есть добродетели, что есть смысл сохранять или Аретэ, или делать уточнение: в Сократовское понимание добродетели входят Душа, Разумность и Истина. Хоть это и не сказано прямо, но все построение речи Сократа позволяет сделать такое допущение.
Конечно, Истина как таковая не может входить в понятие человеческой доблести или добродетели, что бы под этими словами ни понималось. Входит или Знание Истины, то есть действительности, или приверженность Истине, то есть правдивость. Это все, что доступно человеку. Правдивость, скорее, относится к чертам, которые надо нарабатывать, то есть относится к Воспитанию Души. Следовательно, мы можем выделить три составляющие того, что Сократ считает Доблестью или Человеческим достоинством: Разумность, Знание действительности и Правильно Воспитанная, Образованная Душа.
Что касается Знания действительности, то Душа и к нему имеет отношение, потому что она оказывается хранилищем памяти, что значит, Знаний. В «Теэтете» есть такой рассказ:
«С о к р а т. Так вот, чтобы понять меня, вообрази, что в наших душах есть восковая дощечка; у кого-то она побольше, у кого-то поменьше, у одного – из более чистого воска, у другого – из более грязного или у некоторых он более жесткий, а у других помягче, но есть у кого и в меру.
Т е э т е т. Вообразил.
С о к р а т. Скажем теперь, что это дар матери Муз, Мнемосины (Памяти – А.Ш.), и, подкладывая его под наши ощущения и мысли, мы делаем в нем оттиск того, что хотим запомнить из виденного, слышанного или самими нами придуманного, как бы оставляя на нем отпечатки перстней. И то, что застывает в этом воске, мы помним и знаем, пока сохраняется изображение этого, когда же оно стирается или нет уже места для новых отпечатков, тогда мы забываем и больше уже не знаем» (Платон, т.2, «Теэтет», 191d-e).
Поскольку все это рассуждение о том, что есть ложное мнение и что есть знание или мнение истинное, то сомнений в причастности Души к Истине быть не может. А если учесть, что разговор идет о том, что значит думать и рассуждать, то и Разумность оказывается с Душой тесно связанной. Аристотель, который говорил про Платона, что тот делил Душу на разумную и неразумную части, сам впоследствии обойдет эту сложность явления, именуемого Душой, тем, что будет говорить о трех душах: растительной, чувствующей и разумной. Так же поступают и многие традиционные культуры, например, народная русская. Передо мной пока вопрос объяснения этих сложностей не стоит, поскольку моей задачей является краткое описание явления.
В русской культуре есть поговорка: Я читаю его душу, как открытую книгу. Нечто сходное бытовало и в греческой культуре. Мысль о том, что Душа есть хранилище знаний, была использована Платоном в одном из поздних диалогов – «Филебе». Там появляется знаменитый образ Души-книги:
«Мне представляется, что наша душа походит <…> на своего рода книгу. <…> Память, направленная на то же, на что направлены ощущения, и связанные с этими ощущениями впечатления кажутся мне как бы записывающими в нашей душе соответствующие речи. И когда такое впечатление записывает правильно, то от этого у нас получаются истинное мнение и истинные речи; когда же этот наш писец сделает ложную запись, получаются речи, противоположные истине. <…> Допусти же, что в наших душах в то же самое время обретается и другой мастер.<…> Живописец, который вслед за писцом чертит в душе образы названного» (Платон, т.3 «Филеб», 39–b).
Именно в образе второго мастера – живописца, творящего образы, на мой взгляд, скрывается механика того, что есть Разум. Но об этом впоследствии придется говорить отдельно и доказательно.
Мифологические представления Платона о загробном существовании Души, содержащиеся в «Федре», я разбирал ранее. Их я опущу, а приведу еще один пример представлений о Душе из «Горгия». Этот рассказ сам Платон, устами Сократа, относит к бытовому мышлению, «сказке», хотя оно, скорее, как раз один из примеров мифологического заимствования сразу и из Гомера, и из Пиндара, и, пожалуй, других. И хотя в нем явно ощущаются собственные мысли Платона, основа рассказа, безусловно, соответствует и традиционным народным представлениям:
«Тогда внемли, как говорится, прекрасному преданию, которое ты, верно, сочтешь сказкою, а я полагаю истиной, а потому и рассказывать буду так, как рассказывают про истинные события.
Гомер сообщает, что Зевс, Посейдон и Плутон поделили власть, которую приняли в наследство от отца. А при Кроне был закон – он сохраняется у богов и до сего дня, – чтобы тот из людей, кто проживет жизнь в справедливости и благочестии, удалялся после смерти на Острова блаженных и там обитал, неизменно счастливый, вдали от всех зол, а кто жил несправедливо и безбожно, чтобы уходил в место кары и возмездия, в темницу, которую называют Тартаром. Во времена Крона и в начала царства Зевса суд вершили живые над живыми, разбирая дело в тот самый день, когда подсудимому предстояло скончаться. Плохо выносились эти приговоры, и вот Плутон и правители с Островов блаженных пришли и пожаловались Зевсу, что и в Тартар, и на их Острова являются люди, которым там не место. А Зевс им отвечает: “Я решительно это прекращу! Сейчас, – говорит он, – приговоры выносят плохо, но отчего? Оттого, что подсудимых судят одетыми. Оттого, что их судят живыми. Многие скверны душой, но одеты в красивое тело, в благородство происхождения, в богатство, и, когда открывается суд, вокруг них толпятся многочисленные свидетели, заверяя, что они жили в согласии со справедливостью. Судей это приводит в смущение, да вдобавок и они одеты – душа их заслонена глазами, ушами и вообще телом от головы до пят. Все это для них помеха – и собственные одежды, и одежды тех, кого они судят. Первым делом, – продолжает Зевс, – люди не должны больше знать дня своей смерти наперед, как теперь. Это надо прекратить, и Прометею уже сказано, чтобы он лишил их дара предвидения. Затем надо, чтобы всех их судили нагими, а для этого пусть их судят после смерти. И судья пусть будет нагой, и мертвый, и пусть одною лишь душою взирает на душу – только на душу! – неожиданно умершего, который разом лишился всех родичей и оставил на земле все блестящее свое убранство – лишь тогда суд будет справедлив.
Я знал это раньше вашего и потому уже назначил судьями собственных сыновей: двоих от Азии – Миноса и Радаманта, и одного от Европы – Эака. Когда они умрут, то будут вершить суд на лугу, у распутья, от которого уходят две дороги: одна – к Островам Блаженных, другая – в Тартар. Умерших из Азии будет судить Радамант, из Европы – Эак, а Миносу я дам почетное право быть третейским судьею, когда те не смогут решить сами, и приговор, каким путем следовать каждому из умерших, будет безупречно справедливым”.
Вот рассказ, который я сам слышал, Калликл, и я верю, что это правда. И вот примерно какой следует из него вывод. Смерть, на мой взгляд, не что иное, как разделение двух вещей – души и тела, и когда они таким образом разделятся, каждая сохраняет почти то же состояние, какое было при жизни человека. Тело сохраняет и природные свойства, и все следы лечения и недугов: например, если кто при жизни был крупный – от природы ли, или от обильной пищи, или от того и другого вместе, – его тело и после смерти останется крупным, если тучный – останется тучным и так дальше. Если кто носил длинные волосы, они будут длинными и у трупа, а если был негодяем и его драли плетьми, и тело было мечено следами ударов – рубцами от бича или иных каких-нибудь ран, их можно увидеть и на трупе, эти метки. И если человек при жизни сломал или вывихнул руку или ногу, это заметно и на мертвом теле. Одним словом, все или почти все признаки, какие тело приобрело при жизни, заметны некоторое время и после смерти. То же самое, как мне кажется, происходит и с душою, Калликл. Когда душа освободится от тела и обнажится, делаются заметны все природные ее свойства и все следы, которые оставило в душе человека каждое из его дел.
И вот умершие приходят к судье, те, что из Азии, – к Радаманту, и Радамант останавливает их и рассматривает душу каждого, не зная, кто перед ним, и часто, глядя на Великого царя или иного какого-нибудь царя или властителя, обнаруживает, что нет здорового места в этой душе, что вся она иссечена бичом и покрыта рубцами от ложных клятв и несправедливых поступков, – рубцами, которые всякий раз отпечатывало на ней поведение этого человека, – вся искривлена ложью и бахвальством, и нет в ней ничего прямого, потому что она никогда не знала истины. Он видит, что своеволие, роскошь, высокомерие и невоздержанность в поступках наполнили душу беспорядком и безобразием, и, убедившись в этом, с позором отсылает ее прямо в темницу, где ее ожидают муки, которых она заслуживает.
Каждому, кто несет наказание, предстоит, если он наказан правильно, либо сделаться лучшим и таким образом извлечь для себя пользу, либо стать примером для остальных, чтобы лучшими сделались они, видя его муки, и исполнившись страха. Кара от богов и от людей оказывается на благо тем, кто совершает проступки, которые можно искупить, но и здесь, и в Аиде они должны пройти через боль и страдания: иным способом невозможно очистить себя от несправедливости. Кто же повинен в самых тяжелых и по этой причине неискупимых злодействах, те служат примером и предупреждением: сами они никакой пользы из этого не извлекают (ведь они не исцелимы!), зато другие извлекают, видя величайшие, самые горькие и ужасные муки, которые вечно терпят за свои проступки злодеи – настоящие пугала, выставленные в подземной темнице на обозрение и в назидание всем вновь прибывающим.<…>
И вот, как я уже сказал, когда Радамант увидит перед собой такого умершего, он не знает о нем ничего, ни имени его, ни рода, лишь одно ему видно – что это негодяй; и Радамант отправляет его в Тартар, пометив, исцелимым или безнадежным кажется ему этот умерший. Придя в Тартар, виновный терпит то, чего заслужил. Иногда, однако ж, судья видит иную душу, которая жила благочестиво и в согласии с правдой, – душу простого мужа или еще какого-нибудь человека, но чаще всего, поверь мне, Калликл, это бывает душа философа, который всю свою жизнь занимался собственными делами, не мешаясь попусту в чужие. Радамант отдает ему дань восхищения и посылает на Острова блаженных.<…>
Меня эти рассказы убеждают, Калликл, и я озабочен тем, чтобы душа моя предстала перед судьею как можно более здравой. Равнодушный к тому, что ценит большинство людей, – к почестям и наградам, – я ищу только истину и стараюсь действительно стать как можно лучше, чтобы так жить, а когда придет смерть, так умереть.<…>
Но, пожалуй, мой рассказ кажется тебе баснею вроде тех, что плетут старухи, и ты слушаешь его с презрением. В этом не было бы ничего удивительного, если бы наши разыскания привели к иным выводам, лучшим и более истинным. Но теперь ты видишь сам, что, хоть вас и трое и хотя мудрее вас – тебя, Пола и Горгия – нет никого в целой Греции, вы не в состоянии доказать, что надо жить какою-то иной жизнью, нежели та, о которой я говорил и которая, надо надеяться, будет полезна для нас и в Аиде. Наоборот, как много было доводов, а все опрокинуты, и только один стоит твердо – что чинить несправедливость опаснее, чем терпеть, и что не казаться хорошим дjлжно человеку, но быть хорошим и в частных делах, и в общественных, и это главная в жизни забота» (Платон, т. 1, «Горгий», 523–527b).
Когда Сократ говорит: «Меня эти рассказы убеждают», – за этими словами сразу же встает образ думающего человека, который избрал верить. Есть две возможности: Душа после смерти или живет, или не живет. Хочется верить, что живет, и ты волен избрать то, что захочешь. Доказать, что не живет, никто не может, этим и завершается рассуждение Сократа.
При этом и он, и Платон очень хорошо знают цену всем мифам о загробном существовании Души, поэтому и звучит постоянно осторожное уподобление ими этого мифа старушечьим басням. Очевидно, поэтому же в разных диалогах встречается несколько рассказов о том, как предположительно должна жить душа после смерти. Суть их – в поиске закономерностей, которые должны определять посмертное существование Души. Попросту говоря, Платон задается вопросом: Если я избираю верить в то, что Душа живет после смерти, то могу ли я, исходя из того, что мне известно в этой жизни, сделать какие-то предположения о том, как она живет там? То есть, как буду жить я после смерти?
Что он делает, чтобы ответить на этот вопрос? Во-первых, перебирает все, что «известно» человечеству о посмертном существовании. Сводит воедино все известные ему мифы, которые выглядят хоть как-то допустимыми, исходя из разумных соображений и здравого смысла. Создает из них несколько образов посмертного существования и пытается додумать их на основании правила: вспомнить то, что там, исходя из того, что есть здесь.
В общем-то нам совершенно не важно, как в действительности все устроено там и что об этом думает Платон. Если мы действительно живем после смерти, а к тому же еще и многократно перевоплощаемся, то мы там уже бывали или готовы к этому по самой своей природе. Для меня, как психолога, рассказы о посмертном бытии души – это лишь условность, та вершинная цель, которая определяет ценности этой жизни. Суть подобных мифов вовсе не в том, чтобы действительно подготовить к жизни там. Это ты лично можешь использовать их для своей подготовки, но общество использует их для того, чтобы управлять поведением своих членов. Именно отсюда: главная жизненная забота – быть хорошим мальчиком!
Первобытное общество – это общество магии, а магия – это наука управления Силой. Сила правит миром во времена, описываемые сказками всего человечества. Герои сказок, как герои мифов, – богатыри, люди, которым Боги дали Силу, сделав их тем самым полубогами. Но и на них есть узда. Как видим, Сократ или Платон изобретают ее за полтысячелетия до христианства. Это страх перед тем, что недоступно прямой проверке. Ты не можешь оспорить возможность загробной жизни ни теоретически, ни проверкой. И вопрос о том, верить или не верить, оказывается на поверку вопросом о том, быть хорошим или не быть, вести себя правильно или не вести, быть справедливым, то есть ведающим эти правила, или не быть.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































