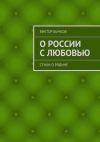Текст книги "Ж–2–20–32"

Автор книги: Александр Яблонский
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 9 страниц)
Повезло бывшим и нынешним «кремлевским горцам-декламаторам».
###
Впрочем, условные рефлексы координируются со словами не только у русского человека. На Западе также по мере восхождения по политической лестнице мозговая система активно перестраивается и уже не воспринимает действительность, как таковую. Только слова.
###
Придумали мантру: «принуждение к миру». Горячечный бред. Все симптомы. Сами поверили. Другим внушили. «Ах, обмануть меня не трудно. /Я сам обманываться рад», – пропели хором нынешние чемберленчики.
Никто не хочет учиться в мюнхенской школе.
###
Поразительно, как глобальное потепление повлияло на усиление морозов зимой и женскую плодовитость в литературе круглый год.
###
Древняя мудрость: нет некрасивых женщин, есть мало водки. Когда же изобилие водки не помогает, и безнадежно увядшая дама понимает, что все подтяжки, гелевые инъекции и силиконовые имплантации, равно как и коньяк с пивом, влитые в клюв клиента, бессильны, она становится лидером феминистского движения, начинает ненавидеть евреев и сравнивать Израиль с Тишинским рынком.
Также и в обществе. По мере осознания персонального и государственного тупика, делаешься патриотом. От безысходности пророчествуешь о «деградации Запада», Россию почитаешь, как «,генератор смыслов и ориентиров» (Дм. Быков) – чего мелочиться: генератор, который «покажет миру свет, как в 1917-м». Ежели с шевелюрой напряженка, откручиваешь зеркала внешнего обзора на посольских машинах нейтральных стран, называешь Мадонну «старой блядью», продолжаешь ненавидеть евреев, всех остальных, понаехавших на Тишинский рынок, и, конечно, Америку, не забывая складывать туда свои скромные накопления.
###
Кстати, о рынках. Хорошо знаком с Мальцевским (в студенчестве после сдачи экзамена по специальности разгружал по ночам эстонскую картошку и азербайджанские фрукты) и с Кузнечным. На московских не бывал. Однако после откровений отечественных литераторов надо будет собраться.
Если на Тишинском рынке, как в Израиле, больше всего в мире научных работ на душу населения (109 на каждые 10 ООО чел.), если Тишинский рынок занимает первое место в мире по количеству компьютеров на душу населения, второе место после США по капиталовложениям в предприятия, четвертое место в мире после США, России и Китая по мощности военно-воздушного флота и имеет самую мощную группировку вне США самолетов Ф-16, если на Тишинском рынке разработаны первый сотовый телефон и основы операционных систем Windows NT, ХР и Pentium MMX, если на Тишинском рынке самое большое в мире количество музеев на душу населения и этот рынок занимает второе место в мире по количеству выпущенных новых книг на душу населения, если Тишинский рынок – единственная страна в мире, где постоянно расширяется площадь зеленых насаждений, коль скоро благо с л овенный рынок лидирует по количеству ученых и технологов, занятых на рабочих местах (145 на каждые 10 ООО, тогда как в США – 85, в Японии – 70, Германии – 58 и т. д.), если там одна из лучших в мире систем здравоохранения и крупнейшие новации в медицине происходят именно на Тишинском рынке, – если это так, братцы, НАДО ЕХАТЬ!
На Тишинский.
###
Вообще-то, слово «патриот» – хорошее слово. Любовь к Отечеству, включенная, по Владимиру Соловьеву, в любовь к человечеству, – потребность нормального человека. «Благо целого человечества включает в себя истинное благо каждой его части». И соткана любовь к Отечеству из любви к каждому человеку этого Отечества.
По поводу же «последнего прибежища негодяев», это – накипь. Патриотизм «безнравственен, вреден и постыден» (Л. Толстой) тогда, когда он замешан на отрицании или ненависти ко всему чужому. Это, по преимуществу, «патриотическая забава» черни, вне зависимости, как высоко она забралась и в какой стране живет. Однако то, что патриотизм – путь к рабству, здесь Л. Толстой прав.
###
Все пытаюсь представить, насколько комфортно и свободно живется в генераторе смыслов и ориентиров.
###
Чан в диаметре был около двух метров. Глубиной – мне по плечо. Два таких чана были вмурованы в огромную печь. В них варили суп для роты и курсантов.
Периодически их остужали и чистили. Наряд на кухню был, казалось бы, подарком судьбы (это не сортир чистить). Повар – пожилой добродушный мужик в тельняшке – не скупился подваливать кашу с маслом и куском хека на тарелки дневальных по кухне. Однако хек застревал в глотке, когда выяснялось, что сегодня твоя очередь чистить суповой чан. Мыть в теплой мыльной воде бесчисленные алюминиевые вечно жирные перекрученные ложки и вилки – не великое удовольствие, но залезать в остывающий теплый чан, стены которого покрыты толстым слоем жира, ошметками картошки, сала и свиной кожи – это «верх мечтаний»!
…Впрочем, коль скоро планида так распорядилась, раздеваюсь, как полагается, до трусов и соскальзываю в чан. Тут же растягиваюсь на дне. Не горячо и не больно. Противно. Если учесть, что в баню водят раз в неделю, то придется всё это добро носить на себе несколько дней.
Периодически падая и вытираясь специальной тряпкой, бывшей в молодости полотенцем, такой же прожиренной и склизкой, как мое тело, трусы и стены чана, начинаю чистить чан. Качество чистки никого не интересует. Офицеры брезгливо заглядывают в чан издалека.
Вот работаю я, балансируя, как Чарли Чаплин, матюгаюсь в душе, падаю, матюгаюсь вслух, соскабливаю жир, выбрасываю, соскабливаю, жировая пленка не уменьшается, матюгаюсь вслух, падаю, молчу, тупею, отключаюсь, соскабливаю… В это время в столовую вваливается рота. Привели из клуба. «Эй,
Яблонский! Тебя сейчас в кино показывали!» Просыпаюсь, падаю, матюгаюсь вслух. Верить этим козлам нельзя. Им разыграть, что два пальца… Я сам такой. На днях ефрейтора Кукина на свиданье с невестой вызвал. Бедняга полчаса усы приглаживал, сапоги надраивал, одеколон у дежурного офицера выпросил… Потом ещё полчаса за мной гонялся, воняя «Шипром».
Новая партия, громыхая кирзой: «Эй, Яблонский, тебя, мать твою, в кино показывали!». Сговорились поучить «молодого». Знакомо. Не реагирую. Придумываю ответную гадость. Можно, скажем, главному крикуну ночью сапог к полу гвоздем прибить. Пусть попрыгает на подъеме.
Вдруг подходит старлей и так уважительно: «Слушайте, Яблонский, вас тут на экране показывали!» Старлей шуток не знает, не понимает, не уважает. Он специалист по Уставу и международному положению. Вытягиваюсь в струнку. Черные трусы от тяжести жира медленно сползают. От удивления организма, резинке зацепиться не за что. «Как показывали?» – Старлей вопроса не понимает. За него отвечает Колодяжный, он у нас самый хохол-юморист: «Как показывали? – Целиком! Без трусов!» Все хохочут. Я тоже. Добродушный интеллигентный Жуковский объясняет: «Там мужик с волосами тебе грамоту вручал».
Складывается. Мужик с волосами – ректор Консерватории н.а. СССР П.А. Серебряков. Седая грива внешне сближала его с основателем Консерватории. Снимают потому, что юбилей. Почему попал я, понятия не имею. Может, ростом вышел или приглянулась шевелюра, а может, к этому моменту (моя фамилия на «Я») оператор, наконец, заправил пленку. «Тебя показали, а потом какая-то девица играла. Симпатичная такая». Все понял. Когда-то был в нее влюблен.
…Наша Консерватория открыта Антоном Рубинштейном 8 сентября 1862 года. Так что в 1961 году мы были сотым приемом и, соответственно, в 1966-м – сотым выпуском (что и привлекло внимание Ленинградской кинохроники). Столетие Консерватории в 1962-м праздновали пышно. Торжества, концерты, заседания. Все пианисты пели хором «Патетическую ораторию» Свиридова. С ней выступали даже на сцене Кировского театра. Там перед выступлением мы с Ромочкой погорячились в буфете, поэтому в репризе во время генеральной паузы к ужасу дирижера – В. Чернушенко – заорали «Бей бык бег» или что-то в этом роде. Орали радостно в оглушающей тишине. Потом был заключительный торжественный концерт в Большом зале Филармонии со всеми звездами – выпускниками нашей Alma Mater и неизбежным Первым концертом Чайковского.
Когда за пульт встал очередной выдающийся выпускник, кажется, Одиссей Ахиллесович Димитриади, мы с девушкой на цыпочках вышли из зала, через буфет (другого пути в Филармонию я тогда не знал) направились к выходу и побрели по чудному сентябрьскому Ленинграду. Около «Авроры» при наглом блеске рекламы я ее поцеловал. Это был, пожалуй, самый волшебный поцелуй в моей жизни. Не поцелуй-прелюдия, поцелуй-кульминация. Причем неожиданная для обеих сторон.
По следовавший за этим поцелуем роман бушевал целый год.
…Трусы сползали, все смеялись, рассаживаясь по столам и гремя синюшной алюминиевой посудой. Дневальные разносили перловую кашу на воде, хлеб, компот. Я стоял в остывшем чане. Жир на его стенках, моем теле и на трусах схватило гибкой коркой. Про меня забыли. Слава Богу, так как стал дрожать подбородок, и удушающая беспросветная тоска окутала мое настоящее и будущее. Надо бы заплакать. Но я увидел свои лоснящиеся бледные и худые ноги, расползающиеся по дну чана, погладил жирной ладонью по шару гладко выбритой головы, представил себя при шевелюре в черном костюме в кадрах «Ленинградской кинохроники», заключительные аккорды Пятого концерта Бетховена в исполнении той самой девушки, которую я поцеловал около «Авроры». Представил своих друзей Рому, Серегу, Женьку, их жен или невест, хмельных, свободных, беспечных, начинающих новую творческую жизнь. И я – молодой аспирант – излагаю идею своей диссертации. Представил, вспомнил… Подтянул окончательно окаменевшие черные трусы. И вдруг стало весело. Кажется, рассмеялся. Попытался выбраться из чана. Не получилось. Растянулся и затрепетал на дне. Оказалось, копошиться в застывшем жиру значительно менее продуктивно, нежели в теплом. И ощущения несравненно омерзительнее. Сделал ещё одну попытку. Мне помогли, протянули руки. И тут я понял, что все в жизни имеет свое окончание.
Закончилось мое служение родине в суповом чане. Через три дня поведут в баню, и закончатся ароматы суповых отходов на моем теле. Потом закончится служба в роте Почетного караула (которую вспоминаю с теплом) и начнется служба в Оркестре. Там нравы посвободнее – армейская богема, как-никак. Затем закончится армия, как таковая, и начнется гражданская привольная жизнь. Какая, не ясно, одному Богу известно… Наверняка, счастливая. То, что закончится сама жизнь, я даже не догадывался.
Совсем недавно стал подозревать.
###
«Российская власть должна держать свой народ в состоянии постоянного изумления». М.Е. Салтыков-Щедрин.
Давно не встречал такого точного и тонкого понимания сегодняшнего момента.
Были когда-то мудрые вице-губернаторы на Руси.
###
Рабочий день бесконечен, жизнь мимолетна.
Эту формулу я сам случайно вывел, играя 6-й час подряд в Boston Ballet’е.
###
Легко все свалить на большевиков и чекистов. Как было бы все просто. Однако…
Ещё Чаадаев сформулировал:
«Мы живем <… > среди плоского застоя». «Мир пересоздавался, а мы прозябали в наших лачугах из бревен и глины».
Чаадаев – западник. Даже хуже. «Сумасшедший». «Мы (русские)… не входим в состав человечества…»
Ему, тем не менее, вторит один из ярчайших лидеров славянофильства Иван Аксаков:
«Ох, как тяжко жить в России, этом смердючем центре физического и морального разврата, подлости, вранья и злодейства».
Далее можно припомнить воз и маленькую тележку подобных определений особенностей России.
От основоположника славянофильства, убежденного монархиста, знатока истории Православия Алексея Хомякова:
«В судах черна неправдой черной
И игом рабства клеймена;
Безбожной лести, лжи тлетворной,
И лени мертвой и покорной,
И всякой мерзости полна».
до великого символиста Александра Блока:
«Грешить бесстыдно, непробудно,
Счет потерять ночам и дням,
И, с головой от хмеля трудной,
Пройти сторонкой в божий храм»
… и т. д.
От Лермонтова:
«Прощай, немытая Россия,
Страна рабов, страна господ…»
до Демьяна Бедного:
«Страна погромов и парадов,
Дворцов и – рядом – свальных куч,
Страна изысканных нарядов
И прелых, каторжных онуч.
Страна невиданных просторов,
Страна безмерной темноты,
Страна культурных разговоров,
Страна звериной темноты…»
От Некрасова:
«Ты и убогая, ты и обильная…»
до Андрея Белого:
«Роковая страна, ледяная,
Проклятая железной судьбой!
Мать-Россия, о родина злая,
Кто же так подшутил над тобой?»
От Аввакума:
«Выпросилу Бога светлую Россию сатана…»
до Николая Бердяева:
Россия – «страна неслыханного сервилизма и жуткой покорности. Страна, лишенная сознания прав личности и не защищающая достоинства личности, страна инертного консерватизма, порабощения религиозной жизни государством»…
Вот и Достоевский: «… тысячу раз дивился на способность <…> русского человека, по преимуществу, лелеять в душе своей высочайший идеал рядом с величайшей подлостью, и все совершенно искренне».
И так далее.
Казалось бы, как комфортно иметь аргументацию таких союзников в решении покинуть свою страну. – «Как сладостно отчизну ненавидеть/ И жадно ждать ее уничтоженья…», – писал Владимир Печерин, один из первых русских невозвращенцев, диссидентов, «эмигрант на все времена» («и тяжелый крест изгнанья добровольно я подъял»). Для него Россия была «Некрополисом», то есть «городом мертвых», страной без перспектив развития. Он самым радикальным образом оборвал духовную связь с Россией, ее верой, историей и культурой, хотя Родину любил и помнил {«Есть народная святыня!/ Есть заветный край родной»). И были его философия, его аргументация убедительными, в чем-то созвучными чаадаевским размышлениям, и нет, пожалуй, более мощной опоры для оправдания своего решения. А опора эта необходима, поиск ее естественен.
Эмиграция – не подарок. Даже самая благополучная. Роман Гуль прав: «свобода без родины <…> очень тяжела, может быть, даже страшна». («Я унес Россию»). Нормальный эмигрант, особенно русский, нуждается в непрерывном оправдании своего решения. Тщательно обдуманного, давно осуществленного, необратимого и, в принципе, правильного. Но саднящего, порой кровоточащего, порой ноющего и не затягивающегося тиной забвения.
Чем неразрывнее пуповинная связь с Родиной, тем органичнее потребность ещё и ещё раз задуматься. Здесь главное: не плюй в тот колодец, из которого столько испил. По большей мере, живительного. Тебя родительного! (Языковое расширение, прямо как у Солженицына).
###
Эмиграция – потому что времена года не сказываются. На Родине – сказываются. А здесь – нет.
Там, к примеру, в июне пьётся легко, радостно, светло. Любое количество примешь, а душа, все равно, ввысь стремится. Одна заря торопит другую, и Пушкин, и Ахматова, и ноги сами к Неве несут. У Петропавловки целуются, у Летнего целуются. Сам бы всех расцеловал. В конце ноября, особенно в декабре – похмелье тяжелое, не пьешь, а нажираешься. Застолье набухает дракой, матерная лексика приобретает тупую свинцовую тяжесть. А в январе – «Москва златоглавая» – после бани особенно, снег хрустит, рухнул на снежную бабу, опухшей рожей вмазался в снег. Пьяные друзья пытаются поднять, сами падают, прохожие шарахаются. Хорошо! И дети смотрят, радуются. В голове: «Гимназистки румяные, от мороза чуть пьяные…». Снег белый. Морозно. Зато конец февраля, март – хочется вешаться. Снег серый, лимонный, фиолетовый. Воняет мокрой псиной и гарью. Пьешь в одиночку. Видеть нет сил. Ни друзей, ни врагов, ни прохожих. Ленин – козел. Да и я сам не лучше. Одна надежда – Великий Пост, авось выживу, и поможет Он мне, грешному. А в апреле – почки раскрываются. После Пасхи на душе светло. Разговеешься, и на улицу. Три дня пьешь, и ни в одном глазу. На улице липовые, березовые почки насобираешь полные карманы, и домой. На кухне, в коридоре раскидаешь рассыпчатым узором.
Под утро жена встанет, выйдет в нужное место, а в прихожей на полу муж спит. В пальто, на молодых почках. Радостно.
###
И ещё. Страна рабов, страна господ, погромов и парадов, сервилизма, вранья и злодейства – именно она дала всех тех (и многих других), кто этот диагноз поставил и ставит, кем Россия гордится и тех, кто, в сущности, оправдывает ее существование.
Когда б вы знали, из какого сора
Растут стихи, не ведая стыда.
Не только стихи.
Гении.
###
Именно эта «немытая» Россия дала миру уникальное явление: параллельную культуру в диаспоре.
###
Вру! Параллельных культур не бывает. Национальная культура едина. Иногда расползается по белу свету.
###
О «колбасной эмиграции». Это про меня. Кроме постов – Великого Поста, Филиппова, Петрова и Успенского – колбасу употребляю. Любительская колбаса имеет вкус детства. Слышу мамин голос: «Двести грамм любительской, пожалуйста. Тонкими ломтиками, если не затруднит».
###
Кстати, о колбасе. Пошли помидоры. Огурцы заканчиваются, что будет с «синенькими», пока не ясно. Петрушка, кинза, лук и сельдерей доживают. Редис ушел в ботву. Время помидоров.
У меня всего пол-участка. 10 долларов в год за рент. Плюс
бесплатный навоз. В прошлом году был конский – the top. В этом – коровяк.
Не хочу хвастаться, но все говорят: таких вкусных помидоров ни у кого нет. Это не романы писать. Продуктивнее, полезнее, результативнее. Жене больше нравится.
Закончится огород, начнутся грибы. Потом снег.
Закончатся и грибы, и снег.
###
Ненавижу разговаривать по телефону. Договориться о встрече, поздравить с юбилеем, спросить о здоровье и, не вслушиваясь в ответ, повесить трубку. Только с Ромой мог часами говорить, советоваться, спорить. И казалось, никогда наши диалоги не закончатся. И не представлял свою жизнь без него. Как-никак с сентября 1961 года.
Уже сколько лет прошло, как я один. Оказалось, жив. Но уже не та жизнь.
###
Юрий Лотман на вопрос, почему он не эмигрирует, ответил: «Я специалист по русской культуре. А место врача – в чумном бараке».
По поводу чумного барака – точно. И место врача именно там, если ты врач. И то, что Ю.М. Лотман не погиб в этом чумном бараке ни физически, ни нравственно, – есть исключение, ибо правило, все же, – Дымов. Однако истинно: врач не может бросить своих больных, даже безнадежных.
Как не могли оставить своих питомцев Януш Корчак, Стефания Вельчинска и другие воспитатели. Пошли с детьми в печь. Хотя автор «Короля Матиуша» мог спастись.
Как добровольно и сознательно пошел (в прямом смысле этого слова) со своим балкарским народом в изгнание К. Кулиев. Добровольно: потому что кто-то из предков его был этническим кабардинцем, которых Ус соизволил помиловать, в отличие от балкарцев. Пошел!
О том же, казалось бы, и Ахматова: «Я была тогда с моим народом / Там, где мой народ, к несчастью, был». Правда, здесь есть существенная деталь: «И если зажмут мой измученный рот, / Которым кричит стомиллионный народ…». Ахматова – на то она и АХМАТОВА! – не только с народом в чумном бараке, но она голос, ГЛАС этого народа. Она – его летописец страстный и трезвый. Она – кричащая совесть этого народа.
В этом ее коренное отличие от всех остальных сторонников идеи «быть с народом». Эту идею сформулировал A.B. Пеше-хонов: «бежать от ужасов большевизма противно чести». Истинный народник должен «разделить участь своего народа». (Алексей Васильевич пытался претворить в жизнь свое убеждение. Просился обратно в СССР. Однако народ, в лице своих лучших представителей, «разделить» свою участь Пешехонову не разрешил.)
Эти принципы разделяют многие светлые и благородные умы. Типичные и лучшие представители «ордена» русской интеллигенции. От Петра Лаврова до Станислава Рассадина, Л.К. Чуковской {«Русский писатель ни при каких обстоятельствах не должен покидать Родину/»), А. Галича (до изгнания), Д. Самойлова, конечно, А.И. Солженицына и др. (Станислав Борисович, видимо, без иронии писал о «народе, ради которого клянется жить русская интеллигенция». – «Книга прощаний», 2004, с. 99). Кому клянется, какая интеллигенция? Кто ради кого живет?! Волосы дыбом, но рука не поднимается вступить с ними в спор. Слишком мощная когорта славных имен.
При всем при этом не отделаться от сидящего занозой вопроса: а нужен ли народу этот нравственный подвиг?
Не прав ли Пушкин: ни к чему народам мирным «дары свободы», и не разбудит их «чести клич», «наследство их из рода в роды /Ярмо с гремушками и бич»? (1823 г. Южная ссылка). Как прав Влад. Раевский («первый» и наиболее радикальный декабрист): «Как истукан немой народ / Под игом дремлет в тайном страхе» (1822 г. Тираспольская крепость-тюрьма). (Вспоминаю несчастную и, по-своему, счастливую, милую безропотную Тосю…)
Иначе повернул проблему Н. Коржавин:
Мы спать хотим… И никуда не деться нам
От жажды сна и жажды всех судить…
Ах, декабристы!.. Не будите Герцена!..
Нельзя в России никого будить.
Может, «нельзя», а может, «бессмысленно»! И не нужен чумному бараку врач… И не поможет, и хлопотно для его обитателей. С чумой привычнее.
Однозначного ответа на вопрос «кто прав?» нет и быть не может, как нет приоритета у какой-либо составляющей в оппозиции «свобода или родина». Счастлив тот, для кого этой оппозиции нет, но коль скоро эта трагическая альтернатива существует, выбор всегда индивидуален.
Одно несомненно. Знак равенства между коллизиями «Корчак – Лотман (Ахматова, Чуковская и др.)» невозможен. Если бесспорно тождество нравственной недосягаемости этих личностей, то аналогий между беззащитными еврейскими детьми, выстроившимися по четверо в ряд, развернувшими зеленое знамя короля Матиуша (героя самого известного романа Я. Корчака), идущими на мученическую гибель с удивительным мужеством и чувством собственного достоинства, с одной стороны, и мощным, дремлющим в «тайном страхе» «стомиллионным народом» – здесь аналогий нет.
###
Выбор: родина или свобода – всегда индивидуален.
Одна позиция заявлена А. Ахматовой. Противоположная – Р. Гулем. Вот его полная цитата: «…я такого «физиологического народолюбия» (имеется в виду ахматовское: «я была с моим народом…» – А.Я.) с ущемлением моей личной свободы никогда не разделял и не разделяю. Если твой народ попал под власть «разбойничьей шайки», почему же и тебе под нее надо лезть? <…> Передо мной <…> вставал выбор между двумя ценностями – родина или свобода? Не задумываясь, я взял свободу, ибо родина без свободы уже не родина, а свобода без родины, хотя и очень тяжела, может быть, даже страшна, но все-таки – моя свобода. Так что «надменные строки» Ахматовой («Но вечно жалок мне изгнанник/Как заключенный, как больной…» – А.Я.) о каком-то изгнаннике меня всегда необыкновенно отталкивали» («Я унес Россию». Т. 1, с. 232–234).
Один из персонажей моего «Абраши» размышляет: для дальневосточника Колыма – родина, без которой он тоскует на Лазурном берегу, среди развалин Акрополя или в пригородах Буэнос-Айреса. Но для того же дальневосточника Колыма за колючей проволокой – это уже не родина, а концлагерь. Я с ним согласен. Как согласен с Р. Гулем. Свобода выбора – вещь естественная и ожидаемая. Со времен Курбского идет полемика, что есть истина и добро в данном споре. Правы все. Не прав лишь тот, кто свою позицию возводит в догму, противоположную же предает анафеме. Нетерпимость и хамство здесь есть лучший аргумент для противной стороны.
###
Превосходный русский поэт второй половины XX века – один из лучших, и личность предельно благородная – Давид Самойлов: «Только страдания – плата за борьбу за права человека. На это не все решаются. Но кто решился, должен стоять твердо и не идти в щель, открытую для них (то есть эмигрировать. – А.Я.). Оттуда нас не спасешь. Мандель (Наум Коржавин. – А.Я.), писавший о любви к России, хорош был здесь, а не там». (Цит. по: Ст. Рассадин. «Книга прощаний», с. 101.)
Эти записи любимого поэта не возмутили, не разгневали. Огорчили. Что это за страна, лучшие умы которой утверждают такое?! Откуда у Давида Самойлова этот рык а 1а Солженицын – «стоять твердо!». И почему он (как и многие другие) решил, что кто-то хочет «их спасать»?! Нравится жить так, как живут – ветер в их паруса! Мыслить и высказывать свои мысли не значит кого-то спасать или учить. То, что пишет Наум Коржавин о России, может нравиться, может быть противно устоям. Может восхищать, может отталкивать. Но абсолютно безразлично, ГДЕ это высказано, написано, выстрадано. Если Д. Самойлову и К° «не хорошо», то, что написано «там», – дело вкуса. Однако я не могу выкинуть из моей культуры то, что написано «там»; в Грассе Буниным (а «там», возможно, написано лучшее о России – хотя бы «Жизнь Арсеньева» – «вершинное произведение русской литературы», по словам К. Паустовского, «Темные аллеи». «Митина любовь», «Солнечный удар» и другие шедевры) или Рахманиновым в Калифорнии (Четвертый концерт, Вариации на тему Паганини, Симфонические танцы, Симфония № 3 и т. д.). Для меня одинаково хорош Г. Владимов, где бы он ни писал, Г. Баланчин, где бы ни ставил балеты, где бы ни творили А. Герцен, М. Барышников, В. Некрасов, Н. Бердяев, Ф. Шаляпин, В. Набоков, Г. Флоровский, А. Солженицын, Вл. Горовиц, М. Алданов, И.Ильин, А. Галич, В. Ходасевич.
Что это за страна, спаявшая мощной стальной нитью менталитет, казалось бы, полярных слоев общества, несовместимых по мировоззрению, эпохе бытия, социальному положению личностей! Что общего между Б. Пастернаком и А. Ждановым, погромщиком «неким Друзиным» и великой Ахматовой?!
Казалось бы, ничего нет и быть не может. А есть!
«… Когда советский народ нес неисчислимые жертвы во имя победы над немцами, М. Зощенко, окопавшись в Алма-Ата, <…> ничем не помог…» и т. д. (Из доклада т. Жданова на собрании партийного актива и писателей Ленинграда, 1946 год, см.: «Правда», № 225, 21 сентября 1946 г.).
«Как вы смеете говорить о любви к Родине! Вы говно!». Это, по одной версии, бешеная реакция Б. Пастернака на слова А. Вертинского: «Я поднимаю этот бокал за Родину, потому что те, кто с ней не расставался, и понятия не имеют о том, как можно любить Родину». (Апрель 1946 год, свидетельства О. Берггольц. См.: Ст. Рассадин, цит. изд. С. 105). По другой версии, свое отношение к этому тосту высказала А. Ахматова. Более мягко, но безапелляционно: «в этой комнате присутствуют те, кто перенес блокаду Ленинграда и не покинул города, и в их присутствии говорить то, что сказал Александр Николаевич (Вертинский), по меньшей мере, бестактно…».
Возможно, рассказанная история – апокриф: слова О. Берггольц по воспоминаниям вдовы поэта А. Гитовича в изложении Ст. Рассадина. Однако сама идея – «только страдания» есть плата за возможность любить Родину и только прописка на этой родине дает право выказывать своё отношение к ней – эта идея чрезвычайно созвучна и мерзавцам, и светлым личностям русской культуры. Стальная нить.
Бесспорно, обстоятельства жизни и страданий тех, кто «окопался» в Алма-Ате, Париже, Харбине или Монтрё, и тех, кто вынужденно или осознанно перенес все испытания на своей шкуре, – несоизмеримы. Кто посмеет взвесить мучения
М. Цветаевой в Париже, травимой эмиграцией, отторгнутой коллегами, часто существовавшей на 5 франков в день, выручаемых от продажи связанных дочкой Алей шапочек («Мы медленно подыхаем с голоду», – писала М.И.), и нищенствовавшей, шельмованной, подвешенной на чекистский крюк А. Ахматовой («Муж е могиле, сын в тюрьме»…)?! У каждого – свой крест. И не дано судить одним о тяжести креста другого. Соизмеримы лишь наличие и степень нетерпимости…
Не люблю Ф.М. Достоевского, что не умаляет его гения и прозорливости: «Я думаю, самая коренная духовная потребность русского народа есть потребность страдания, всегдашнего и неутолимого, везде и во всем…. Страданием своим русский народ как бы наслаждается…»
###
О Север, Север-чародей,
Иль я тобою околдован?
Иль в самом деле я прикован
К гранитной полосе твоей…
Ф. Тютчев.
О Русь, велик грядущий день
Вселенский день и православный!
Ф. Тютчев.
Он же: «У меня тоска не по родине, а тоска по чужбине». Узнав, что Дантеса после дуэли приговорили к высылке за границу, изрек с юмором висельника: «Пойду, убью Жуковского!»
###
Николай Бердяев как-то сказал: «Свобода моей совести есть абсолютный догмат, я тут не допускаю споров, никаких соглашений, тут возможна только отчаянная борьба и стрельба». Под этим готов подписаться безоговорочно. «Отчаянная борьба или стрельба!»
Впрочем, этим правом и этой обязанностью – отчаянно бороться, вплоть до стрельбы, – обладает и противная сторона.
###
Прав Киплинг. Мы одной крови.
###
Воинствующее неприятие всего «иного», нетерпимость, ощущение избранности и непогрешимости – особенности не только узников советского гетто – «присматривающих» и поднадзорных, бездарных функционеров и избранных гениев. Вся эмиграция также пропитана этим ядом. Как ни странно звучит: живительным ядом.
Цвет белой эмиграции закрыл двери перед И. Буниным – самым ярким выразителем чаяний этой эмиграции – за то, что он посмел ступить на частичку советской территории – явился на прием в Советское посольство в Париже. В свою очередь Бунин сочинил непечатные частушки о М. Цветаевой, причислив ее к плеяде поэтов «типа» Маяковского и Пастернака. «Танцевала рыба с раком, а петрушка с пастернаком», – писала, издеваясь, Тэффи. Сам факт внимания к писателям и поэтам Советской России считался проявлением «советофильства», предательством святого дела Белого движения и антибольшевизма. Даже одно упоминание имен Пастернака или Маяковского, Бабеля или Фадеева, Зощенко или Есенина вызывало гнев такой же силы, как и невинные слова Вертинского о любви к Родине у Пастернака или Ахматовой.
Г. Адамович, как и В. Ходасевич на дух не переносили творчество и саму личность М. Цветаевой. Для них, как и для подавляющей части Белой эмиграции, она была женой С. Эфрона, чья репутация окончательно рухнула после убийства И. Рейсса, – то есть человека просоветской ориентации. Помимо этого она была поэтом чуждым, «сколком с Пастернака», «поэтессой», грешившей «дамским рукоделием», ее стих казался вычурным, экзальтированным, пронизанным рваными нелепыми ритмами. Литературная вражда Адамовича и Цветаевой (она отвечала ему взаимностью, ее «Цветник» – выборка противоречивых суждений и оценок Адамовича – тому пример) была глубокой и долгой.
Аналогичная оценка творчества и личности Цветаевой не мешали ее главным «оппонентам» – Ходасевичу и Адамовичу вести длительную «эстетическую войну» с М.И. из враждебных политических бастионов: В. Ходасевич со страниц умеренно монархической газеты «Возрождение», издаваемой А.О. Гукасовым, Г. Адамович – со страниц «Последних новостей» П.Н. Милюкова. Общий антицветаевский фронт никак не противоречил взаимной оппозиции двух выдающихся русских эмигрантов. Непримиримая полемика между ними была одной из доминирующих интриг литературно-критической жизни эмиграции первой волны. Если присовокупить, что один из главных обвинителей Цветаевой в скрытом большевизме, Г. Адамович, после выхода своей книги «Другая родина» (1947 г.) и сам был подвергнут остракизму как капитулянт перед сталинизмом, как «агент влияния Москвы» и пр., если вспомнить о поголовном презрительном отрицании своих современников-эмигрантов со стороны семьи Мережковских, желчные инвективы Бунина против тех же Гиппиус и Мережковского и т. д., то получается довольно тугой узел политических, эстетических и личных противоречий.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.