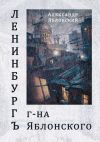Текст книги "Ж–2–20–32"

Автор книги: Александр Яблонский
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 9 страниц)
В русском департаменте этого секретного центра работали в основном представители первой волны русской эмиграции. Как говорил Л., такое было впечатление, что он попал в другую эпоху: самое позднее, начало двадцатого века. Фамилии сотрудников, как правило, глубоких старцев, ясно мыслящих, с рафинированными манерами, украшали страницы любого учебника истории России. Многие вели свой род от Рюрика или принадлежали к Гедеминовичам. Были и более молодые профессора – дети уже ушедших на покой могикан русской эмиграции. Однако всех их объединял идеальный, давно забытый, чистый и могучий русский язык. Л. говорил, что он пьянел в этой хрустальной ауре подлинной русской бытовой и языковой культуры. Он же был представителем уже другого уровня русского языка, другой эпохи, эпохи «развитого социализма». Напомню, что Л. владел лексикой 60-х – 70-х годов, изгаженной советизмами, но ещё не искалеченной новорусской полублатной феней 90-х, не разъеденной метастазами программистского сленга, уголовно-чекистским жаргоном шпаны с Лиговки.
Среди основного состава русистов попадались люди чрезвычайно интересные и симпатичные, были холодные карьеристы, попадались стукачи – как без них…
Л. сошелся близко с одним очаровательным стариком, редким эрудитом, доброжелательным и открытым собеседником, обладающим даже в этой изысканной атмосфере классического ясного русского языка какой-то особой брильянтовой речью, мягким петербургским говором, распевной интонацией, точностью отбора нужных слов (значение некоторых высокообразованный Л. часто уловить не мог). Если не ошибаюсь, этот старик принадлежал к роду Барятинских. Но не утверждаю.
Находясь в некоторой эйфории от такого общения, Л. как-то сказал, глядя восторженно на князя: «Если бы Вы знали, на каком чудном пушкинском языке Вы говорите!». Старик мягко улыбнулся и ответил: «О, мой друг! Если бы Вы знали, на каком варварском наречии говорите Вы…» (Конец 70-х. До XXI века ещё далеко).
###
Примерно в такую же атмосферу окунулся и я. Помню первую встречу с о. Романом в Богоявленском соборе Бостона. Удивительный словарь, интонация. Чуть смущенно: «Вы из Петербурга? Никогда там не бывал». Позже моя жена, бывшая актриса, а ныне тревел агент, сделала билеты о. Роману и матушке Ирине в Россию. Побывали и в Петербурге.
Прихожане собора были в большинстве своем людьми старой русской культуры, хотя разные по воззрениям, вкусам. Но единый прозрачный, точный, неисчерпаемый русский язык.
Все кончается. Многие из «старых фамилий» ушли в мир иной. Оставшиеся в живых после объединения с Московской Патриархией в этот собор не ходят. Как, впрочем, и я.
###
Юрий Иванович возвращался домой поздно ночью. Возможно, даже под утро. Юрий Иванович запомнился как исключительно доброжелательный, умный, интеллигентный человеком. Поэтому был слегка подшофе. Впрочем, степень его опьянения мне точно не известна. Известно, что пил он в меру, в классе (а он преподавал фортепиано в Консерватории и в Училище при Консерватории) никогда датым замечен не был. Так что «принимал», как и все порядочные люди, то есть свою пропорцию знал. Причем только после работы. И вот он идет и идет по Петроградской стороне. Ночь светла, ибо, понятное дело, студенты отыграли, по этому поводу ликуют белые ночи, говоря проще, конец июня. Супруга Юрия Ивановича почивала дома и приятной прогулке по ночному городу не мешала. Была она, кстати, тоже музыкантом, пианистом и также, что характерно, преподавала в Училище. Так что разбиралась в проблемах и музыкальных, и немузыкальных. То есть рано мужа не ждала, но, видимо, сквозь сон чутко прислушивалась к звукам на лестнице.
Идет Юрий Иванович, идет и видит памятник «Стерегущему». Это – в Александровском садике около «Горьковской». Естественно, у памятника надо присесть на скамейку. Подходит Юрий Иванович к скамейке, а она уже кем-то занята. Силуэт фигуры и контуры лица в профиль ужасно знакомы. Подходит. Присмотрелся, оба-на: Мравинский.
Евгений Александрович Мравинский был одним из великих дирижеров XX века. Его имя – в одном ряду с именами Бруно Вальтера, Артура Никиша, Артуро Тосканини, Вильгельма Фуртвенглера, Отто Клемперера, сэра Георга Шолти. Он был не только великим музыкантом. Он был национальным достоянием СССР. В прямом смысле. Валюта, качаемая Заслуженным Коллективом, изрядно и надежно пополняла казну советской империи и возносила ее культурно-интеллектуальную мощь на мировой уровень. Он был «неприкасаемым». Как-то одна высокопоставленная партийная сучка (не Матвиенко!) процедила: «От вас уезжают, Евгений Александрович!». Он, не медля, пророкотал: «Это не от меня, это от вас уезжают!». Сошло! Когда ленинградский наместник и диктатор Романов и его шавки посмели поприжать Мравинского, сделать его «невыездным», он прямиком отправился к всемогущему Суслову, которого побаивался сам Брежнев. И Суслов незамедлительно принял дирижера (что уже было событием небывалым) и тут же удовлетворил все претензии. Романову пришлось утереться.
Евгений Александрович во всех смыслах был человек необыкновенный. При всех прелестях советской власти и социалистического быта он демонстративно сохранял устоявшийся образ поведения и мышления. А традиции эти были не совместимы с окружающей действительностью. Его отец имел чин тайного советника (чин третьего класса = генерал-лейтенанту), то есть принадлежал к высшему чиновничьему кругу Империи. Тетка дирижера – Евгения Мравинская – блистала в оперной труппе Мариинского театра (сценический псевдоним Мравина). Среди близких родственников Евгения Александровича – Александра Коллонтай и Игорь Северянин. Так что дух утонченного и надменного аристократизма был ему присущ в высшей степени. И власти прощали ему то, что никогда ни при каких условиях не простили бы любому другому смертному. Так же, как и то, что Евгений Александрович был человеком глубоко религиозным и никогда не скрывал это.
Подробно говорю об этом, чтобы напомнить, кто повстречался Юрию Ивановичу в ту летнюю ночь. Следует только прибавить, что в нормальном состоянии к Мравинскому приблизиться было немыслимо. Он окружил себя невидимой, но непроницаемой и непробиваемой стеной. Ледяной взгляд его светлых глаз завораживал. Говорили, что оркестрантки теряли сознание от ужаса, когда Евгений Александрович пристально вглядывался в кого-либо из них. Во время отпуска боялись загорать, чтобы не услышать на первой репетиции его известный картавый рык: «Дгочить (то есть заниматься. – А.Я.) надо было, а не ж… греть!».
Возможно, это легенды. Возможно, Евгений Александрович был в жизни другим. Но таким – легендарным – был и остался в сознании современников. Недоступным, непознаваемым, непроницаемым.
И великим музыкантом. Его интерпретации были не только совершенны. Они были им прожиты, пропущены через его душу и интеллект. Многолетнее вживание в музыку Чайковского или Шостаковича, Вагнера или Брамса делали его как бы соавтором, таким же мощным и убедительным.
Вставал он за пульт своего Заслуженного Коллектива довольно редко. Однако каждый его выход на сцену Большого зала Филармонии был выдающимся событием музыкальной жизни.
Короче, – глыба. Представить себе ночью на скамейке у «Стерегущего» Мравинского, это все равно, что представить на ней Льва Толстого или Микеланджело.
Но… У людей под градусом – свой бог, который диктует непредсказуемые правила общения.
Короче, Юрий Иванович подошел. Сел. Заговорил. Стенограмма их беседы не сохранилась. Понятное дело, в конце концов диалог свелся к тому, что надо бы добавить. (Е.А. Мравинский, как человек незауряднейший, был в близких отношениях с Бахусом, и в данный момент, естественно, находился в подпитии; иначе какого хрена в 4 утра он сидел бы у «Стерегущего»). Ю.И. сказал: «Пошли ко мне. У меня дома есть». Раз есть, значит, пошли. Пришли. Тихохонько. Был пятый час утра. Сели на кухне. Налили, чокнулись. Сразу, чтобы не загубить первую, опрокинули по второй. А Татьяна Александровна (назовем жену Ю.И. этим именем, тем более, что так ее и звали) своего мужа знала. Поэтому после второй рюмки из спальни послышалось что-то типа: «Опять нажрался! (за точность выражений не ручаюсь, сужу по возгласам моих жен в аналогичных ситуациях, хотя с Мравинским или Гилельсом ночью никогда не приходил)». – «Тише, Танюша. Не волнуйся». – «Да ты опять не один?! Собутыльника привел?! Опять с этим Володькой… (далее следовали имена уважаемых педагогов училища). Ну, я сейчас встану! Ты меня знаешь!». – Надо сказать, что Т.А. была женщиной решительной и с лихвой компенсировала душевные качества деликатнейшего Ю.И. Юрий Иванович это знал. – «Танюша, спи. Ничего страшного. Я с Мравинским!». – «ЧТО!!!» Как развивался ответ на эту наглость мужа, не ясно. Имеются разночтения. Однако доподлинно известно, что послышались звуки шлепающих по паркету босых ног и угрожающее: «Ну, ты меня достал. Сейчас я тебя с твоим Мравинским с лестницы! Алкоголики! Мравинского он привел! Опять какой-нибудь голодране… Ой, ай, мамочки, Евгений Александрович, добрый день. Не прибрано! Ой, Господи…» И так далее. Слава Всевышнему, супруга Ю.И., кажется, была в ночной рубашке. Отчетливо вижу Т.А., заспанную, растрепанную, с обескураженным от отсутствия косметики лицом, испуганно приседающую и прикрывающую одной рукой то место на рубашке, под которым должна быть женская грудь, а другой – низ живота.
…Чем закончилось это июньское утро, не помню. Закончилось. Как закончилась та жизнь, в которой можно было, не торопясь, идти по пустынному ночному городу и встретить Евгения Александровича на скамейке у памятника «Стерегущему».
Закончился тот Ленинград, чистый и прозрачный, с неторопливыми поливальными машинами, скучающими дремотными милиционерами в белых кителях, с квасными бочками и эскимо на палочках, рвущимися из открытых окон звуками «Раз пчела в теплый день весной…» или «Я так люблю в вечерний час/ Кольцо Больших бульваров обойти хотя бы раз…». Закончилось то время, в которое писал свои пьесы Александр Володин, а на сцене БДТ шли его «Пять вечеров», гениально сыгранные Е. Копеляном и 3. Шарко; Н. Дудинская ещё танцевала с К. Сергеевым, но в «Дон-Кихоте» у нее появился новый партнер – Рудольф Нуриев. За «Зенит» играли ленинградцы (играли не всегда удачно, но это были наши, питерские – Востроилов, Завидонов, Бурчалкин…). Царственная стать Стрелки Васильевского острова не была опошлена бижутерией неуместных здесь фонтанчиков. Коньяк стоил 4 рубля 12 копеек, его было не достать, но у Роминого папы – Михал Николаевича – всегда было. Где он припрятывал, так никогда не узнали.
ТЮЗ размещался в уютном здании на Моховой. В кино шли трогательные «Полицейские и воры» с Тото и Альдо Фабрици и безнадежно грустный «Под небом Сицилии» Пьетро Джерми, с музыкой Рустичелли. «Весна на Заречной улице» поразила обаянием ошеломляющей искренности и свежести. Трамваи ходили по Кирочной, на углу Литейного и Артиллерийской располагалось и никому не мешало кафе «Уют». На филармонических афишах привычно встречались имена Гилельса и Ойстраха, Оборина и Когана. Как подснежники после долгой зимы, расцвели имена великих гастролеров, о которых ранее и мечтать не приходилось: Артур Рубинштейн, Исаак Стерн, Артуро Бенедетти Микеланджело, Лорин Маазель, Гленн Гульд… (ненадолго: до оккупации Чехословакии, потом как обрезало). Летний сад был ещё не изгажен. В «Мраморном» зале и в «Промкооперации» играл оркестр Вайнштейна. Общество воодушевленно боролось с поджигателями, злопыхателями, узкими брючками, «Не хлебом единым», тунеядцами, медицинскими последствиями Московского Всемирного Фестиваля молодежи и студентов, опиумом для народа, неурожаем, Чомбе и Мобуту, растратчиками, сионистами, саранчой, Пастернаком, пьянством, длинными волосами, короткими юбками, ранними заморозками, рок-н-роллом, опять с пьянством. Громили абстракционистов, но массово выпускали политзэков (чтобы набрать потом избранных).
В ресторане вчетвером вполне можно было хорошо посидеть на 25 рублей, у меня на голове размещалась буйная ватага густых и непокорных волос, и я представить себе не мог, что когда-нибудь по собственной воле покину мой город.
###
Рылеева, 8. Через несколько домов от дома Мурузи, где красавица итальянка поразила воображение моих соседок: год вспоминали и дивились, как же такие юбки выпускают и допускают.
Рылеева, 8. Оказалось, «родовое гнездо». «Кабы знала я, кабы ведала»….
Читаю в справочнике «История, недвижимость Санкт-Петербурга»: «В 1840-х годах обширный участок между 2-м и 1-м Спасскими переулками принадлежал каретному мастеру Иосифу Франциевичу Яблонскому… Длина участка по 2-му
Спасскому (ныне ул. Рылеева) составляла 39,5 сажен (84,3 метра). <…> Владелец, австрийский подданный И.Ф. Яблонский, проживал в собственном доме (квартира № 3, 4 комнаты). В небольших квартирах (по 2–3 комнаты) проживали портной, мастер обойного цеха, прачка. Общий доход домовладельца Яблонского составлял в 1863 году 7482 рубля в год.
<…>В 1874 году в трех домах размещалось 34 квартиры, годовой доход составлял 22022 руб. В 1874 году И.Ф. Яблонский подарил весь свой двор со всеми постройками сыну – коллежскому секретарю И.О. Яблонскому. (От себя добавлю: такой же чин имел Илья Ильич Обломов. – А.Я.) Петр Иосифович (Осипович) Яблонский (дядя моего деда – Александра Павловича. – АЯ.) (умер в сентябре 1912) служил с 1872 по 1876 года мировым судьей. Служебное помещение (камера) мирового судьи находилось здесь же, в собственном доме Яблонского, в его квартире. В 1877–1893 годах он активно участвовал в деятельности органов городского самоуправления, избирался гласным городской Думы. П.О. Яблонский известен как создатель и владелец Лештуковской паровой скоропечатни и как издатель «Адресной книги С.-Петербурга». В 1892–1901 годах она издавалась ежегодно».
Эта Адресная книга и другие издания Петра Яблонского находились в библиотеке любого грамотного петербуржца, вплоть до личной библиотеки Императрицы. Петр и Павел Яблонские – родные братья. Павел, прославленный генерал, герой Плевны и Горнего Дубняка – мой прадедушка.
…………………………………………………………………………………….
Это тоже моя Родина.
А я стоял рядом, играл в песочек или лазил по цепям, соединявшим трофейные пушки Спасо-Преображенского собора, и не подозревал, что рядом жили люди, в жилах которых текла моя кровь, а точнее, наоборот, в моих жилах течет их кровь. Они любили, страдали и радовались, а я о них ничего не знал, да и сейчас не знаю.
###
Более всего мне нравится то, что и прачка в России имела свою небольшую 2–3 комнатную квартиру. Привет из СССР от доцента Технологического института Павла Александровича Яблонского.
###
Наум Коржавин говорил о своем сотрудничестве с радио «Свобода». Сожалел, что многие его статьи, выступления, интервью и другие материалы второй половины 70-х – начала 80-х, видимо, пропали. «Жаль, там были интересные, оригинальные вещи». Потом вспомнил о сотрудничестве с НТС, где был напечатан его сборник «Сплетение» (в «Посеве»). Оживился: «Ну, в НТСе были порядочные люди! Порядочная организация!»
###
Я никогда не признавался в любви. Даже когда было, в чем признаться. Ира около Дворца пионеров, не доходя до Аничкова моста, сказала: «Александр Павлович (до этого мы почти не были знакомы, так – коллеги, не более того, здоровались), Александр Павлович, я вас люблю и жить без вас не могу». Я открыл было рот, чтобы сказать нечто похожее. Не смог выдавить. Сейчас об этом жалею. Ведь я люблю тебя, Ира.
Папе не успел сказать. Он умер на моих руках в больнице на Костюшко. Пил кофе, вдруг захрипел, забился, прижался ко мне… Так и ушел. Я онемел. Заплакал только тогда, когда привез маму домой и поставил машину у Итальянского консульства на Театральной…
Ни разу не сказал таких простых слов маме. Даже тогда, когда она умирала в госпитале в Норвуде. Я сидел около нее все время. Она приходила в сознание, но даже без сознания все слышала. Я это чувствовал. 7 января – в ночь на Рождество – отлучился ненадолго перекусить, когда вернулся, ее уже не было. Неужели не мог шепнуть: «Мама, я тебя очень люблю»? Она, услышав это, не поверила бы. Хотя знала об этом.
Я очень любил и люблю моих родителей, хотя они меня и не воспитывали. Эта любовь умрет со мной.
Не умел я признаваться в любви. И не успевал.
###
Однако один раз я, кажется, намекнул. Хотя не помню, было это во сне или наяву. Это случается часто. Идешь где-то или встречаешь кого-то и кажется, что это уже когда-то было. Роешься в завалах памяти и убеждаешься: не было, не могло быть. Однако ощущение déjà vu не оставляет. Вот и здесь: не мог я этого сказать. Но отчетливо слышу свой голос и вижу ее лицо, ее глаза. А глаза у нее были удивительные. Ярко-карие. Радужная оболочка была не размыта, как это часто бывает у кареглазых девушек, а четко очерчена на фоне голубоватых белков. Она редко смотрела в глаза. Но как изредка глянет, сердце у меня сжималось…. Была очень стройна. Чуть горбилась и всегда смотрела в пол. Я был в нее влюблен, все собирался об этом сказать. Сказал ли наяву?.. Судя по реплике при нашей последней встрече, все же сказал…
Встречались, вернее, говорили мы реально дважды. Первый раз, опять-таки, на Лаврушке. Кажется, у дома № 18. Она была невыносимо хороша. И я с отчаяния подошел к ней. Дословно не помню: возможно, это был сон или мечты о такой встрече. «Прости, ты торопишься?» – «Нет, а что?» – Она испуганно уставилась. – «Я давно хотел сказать, что ты мне очень нравишься… Извини, не хотел тебе этого говорить, но так получилось…» Что-то в этом духе. И ушел. Не знаю, то ли от испуга, то ли от гордости, то ли случайно. Больше не подходил. И она, изредка встречая меня, пристальнее впивалась глазами в пол и не замечала.
Этот был конец пятидесятых. Лет через пятьдесят, в 2005 году я приехал в Петербург – второй раз после эмиграции. Иду по Невскому – родному, чужому и неузнаваемому. Толчея, жарко, душно, пыльно. Вдруг кто-то окликает: «Саня, Саня… Это ты!» Она почти не изменилась. Такая же стройная – лань, ясные глаза, чуть горбится, такие же густые волосы, гладко зачесанные назад, возможно, с сединой – не разглядел, как и не увидел морщин. Не изменилась. В руках две сумки. Одна явно неподъемная, видимо, с провизией. Вторая – маленькая, изящная, импортная. Смотрит не в пол, как раньше, а прямо в глаза и улыбается радостно, как никогда – в пятидесятых – не улыбалась. Во всяком случае, я ее такой открытой не видел. «Ты изменился, но я тебя сразу узнала». Ещё бы: был с густой шевелюрой, талией мерился с прославленной балериной Нинель Кургапкиной и, кажется, уступил ей лишь пару сантиметров (или она мне уступала, не помню, Петя Шапорин помнит: его мама нас обмеряла). Это при широких плечах, чем покорял женщин на пляже в Гаграх. А ныне: плечи опустились в талию, талия приказала долго жить, волосы исчезли не только на голове, но даже… Впрочем, не это важно. А важно: «Я так рада тебя видеть. Как ты, что ты?» И сразу, почти без паузы: «Если бы ты знал, как я была в тебя влюблена! Особенно, когда ты играл на рояле». Я, действительно, на каждом школьном вечере после торжественной части перед танцами играл на рояле. То была моя «общественная нагрузка». Мои дружки с этим смирились «А теперь Саша Яблонский сыграет сонату Бетховена номер…». Моя игра была неизбежна, как победа коммунизма. Я старался играть громко, но коротко (бедный «обрезанный» Бетховен!). За это мне многое прощалось: учителя прощали за Бетховена, товарищи – за обрезанного. Качество никого не интересовало. Она же, оказывается, слушала. «Я все ждала, что ты опять подойдешь ко мне. Но ты больше не подошел».
Я стоял и только боялся, что предательски задрожит подбородок.
Потом опять свернули на рельсы: «Как ты?» – «А ты?…» Оказалось, что она уже бабушка, а я – дедушка (тогда у меня была только одна внучка, но уже взрослая). Спросила: «Ты, говорят, уехал. Почему? Ты же был в порядке. Я часто видела твою фамилию на афишах и радовалась». Полагалось на всех афишах вверенного мне «Петербург-концерта» печатать фамилию руководителя, чтобы было кому и на кого жаловаться. «О тебе хорошо отзывались. Все, кто тебя знал. Почему ты уехал?» – Я объяснил. Она поставила на тротуар неподъемную сумку, а маленькую прижала к груди. – «Ты молодец. Это очень трудно все бросить. Подняться с насиженного места. Особенно в наши годы. Ты молодец, – опять повторила. – Мне говорили, что ты умеешь идти против течения». – Это ерунда. Против течения я не шел. Просто шел своей дорогой. Как мне казалось. Хотя и это был самообман. «Я так не смогла. Сначала из-за родителей, потом из-за… Не важно. Не смогла. Но, знаешь, я тоже живу так, как будто их нет. Их телевизор я не смотрю. Покупаю программку и подчеркиваю интересующий фильм или концерт. Не знаю их и знать не хочу. Унизительно обращать на них внимание. Пусть копошатся в своем Кремле».
Я понял, почему она так мне нравилась. И возможно, впервые в жизни пожалел, что не подошел тогда на Лаврушке ещё раз. И ещё я понял, что эмигрировать – это отнюдь не обязательно съезжать с территории. Можно оставаться среди тех, кого мысленно покинул. И это значительно тяжелее, нежели на чужбине складывать дрова для печи в «Бертуччи» или мыть столы при галстуке и в кожаной куртке.
Она ушла, взгромоздив на себя неподъемную сумку. Я сел за столик около «Авроры», кинотеатра, когда-то принадлежавшего дяде моего папы – Юрию Петровичу Яблонскому, и заказал бокал странного пива. Мимо оживленно шли люди разного вида, были симпатичные и интеллигентные. Но все – чужие. Лиц, к которым я привык, людей, которые некогда, не торопясь, прогуливались по Невскому или поспешали по своим делам, не было и в помине. Вдруг, вспомнив Бунина, осознал и почувствовал: «Очень хочу домой!». В Америку.
###
Тогда же, сидя в уличном кафе на Невском и прихлебывая теплое пиво, я понял, что при нынешнем уровне глобальной телефонизации все одно, откуда набирать номер Ж-2-20-32. Хоть из Петербурга, хоть из Бостона, хоть из Пномпеня. Никто и уже никогда не подойдет, не снимет трубку и не скажет: «Сыночек, это ты?».
###
Маша кормила Аарона довольно долго. Но всему приходит конец. Он уже питается, как взрослый, но спать – только с «сисей». «Аарон, пошли спать!» – «С сисей?» – «Так у меня нет сиси!» – «Тогда будем играть». И всё. Хоть кол на голове теши. Вот она и стала ему внушать: «Без сиси хорошо, без сиси можно!». Он ходит по комнате, переваривает информацию, бубнит: «Без сиси хорошо, без сиси можно…» Потом топает ножкой и громко: «Без сиси нельзя, нельзя, нельзя!»
###
Ночью, где-то около 4-х утра просыпаюсь и вспоминаю самые постыдные, печальные моменты жизни. Моих стариков, стоящих у рва. И жду со страхом следующего дня. Утром, около семи, стыд, раскаяние и ужас рассасываются. Начинается трудовой день с девяти утра до позднего вечера. Так семь дней в неделю.
###
У каждого своя норма. Раньше было 250 с «прицепом». Потом и 150 хватало. Ныне и 100 еле вдавливаю. Примешь 100, и хорошо пишется. Вспоминается. Видится.
Вот: «Мама, дай ручку!» Идем за ручку по Пестеля, ныне и ранее – Пантелеймоновской. Угол Литейного – кондитерская. Хорошо бы выпить стакан газировки. Всего 4 копейки. Но мама не разрешает. Сырую воду пить опасно. Выпей сока. Сок тоже хорошо. Но хуже и дороже. Я уже знаю: папа один работает и денег всегда не хватает. Мой ответ – «а у нас деньги есть?» – вошел в семейную летопись и неоднократно цитировался. (Скажу честно, положительный ответ на этот вопрос я предвидел, маленький был, но сметливый). «Есть», – отвечала мама. Раз предлагают, почему и не выпить на дорожку. Лучше всего клюквенный, но он не всегда бывает. Можно яблочный. Но томатный интересней: надо посолить крупной, всегда влажной серой солью. Размешать. Сок холодный, освежает живот. Хорошо. Пошли. Впереди Моховая, потом Гангутская церковь – церковь святого Пантелеймона. Тогда это был текстильный цех, а ранее – склад под зерно. Там постоим, почитаем вслух список воинских частей, участвовавших в Гангутском сражении, а также при обороне острова Ханко. Напротив дом, в котором жил папа в детстве. С крыши этого дома в 18-м скинули полицмейстера С.-Петербурга и его жену, квартировавших этажом выше. Папу и дедушку с семьей не тронули, так как мой прадед – Павел Осипович был популярным генералом, героем кампании 1877-78 годов, кавалером множества орденов с бантами, мечами и без оных, в том числе и ордена Почетного Легиона. Солдаты, говорили, его любили, посему матросики пощадили семью. А может, слишком перепились…
Затем – Летний сад. Малолюдный, всегда заманчивый и грустный Летний сад, с легкими запахами дымка и прелых листьев, неторопливыми служащими, эти листья сгребающими в кучи, белыми лебедями в Карпиевом пруду, где разводили для царя некогда любимую мною рыбу, чудными статуями, хранимыми и лелеянными даже в блокаду, у которых мы останавливались, и мама читала их названия и аннотации.
И пойдем мы с мамой долго, длинно, и никогда этот солнечный путь не закончится.
А дома нас будет ждать папа.
###
Это не я покинул Родину. Это Родина покинула меня. Тихотихо удалилась, даже не попрощавшись.
###
В середине 60-х часть дома Мурузи ушла на капитальный ремонт. Нам дали маневренную площадь. Когда переезжали, сняли с буфета мандолину, на которой когда-то играла мама. Оказалось, что на ней нет струн.
2011–2012 гг. Бостон
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.